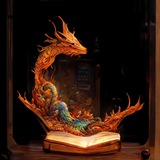Но однажды утром во вторник в церкви Санта Мария Новелла встречаются семь девушек. Разумная Пампинея заводит разговор о поразившем город бедствии и предлагает подругам спасать себя — уехать из Флоренции во Фьезоле, на виллу, где нет ни смертей, ни ежедневного ужаса. К девушкам присоединятся трое молодых людей, и вся эта компания переберётся за город, где десять дней будет травить байки, музицировать, играть в мяч и гулять по саду. И была бы это вполне понятная эмиграция во время чумы с последующим пиром, если бы не отчётливый смысл всех новелл "Декамерона". Непристойные, весёлые, трагические, назидательные, плебейские, аристократические — все они о человеческом. О свойствах натуры, о талантах и недостатках, о поведении под ударами судьбы, о находчивости и глупости, о непобедимости природы и бессмысленности войны с ней. Человек непостижимо разнообразен, как и сам этот мир. Он равен ему по насыщенности и ценности, каким бы дураком и шалопаем ни был.
И вот, за десять дней со смехом и слезами напомнив себе, что такое человек, что такое все они и каждый, кто не они, флорентийская молодёжь отправляется куда бы?.. обратно в чумную Флоренцию. Напоследок Дионео рассказывает историю долготерпеливой Гризельды, — нет, она не про абьюз и домашнее насилие, она из рода exempla, аллегорических примеров, поскольку средневековье для Ренессанса так же питательно, как вся классическая античность, — и, переночевав в последний раз на вилле, вся компания возвращается в церковь Санта Мария Новелла, где расстаётся.
Кончилась ли за десять дней эпидемия? Нет, конечно.
"Когда люди из боязни заразы избегали посещать больных, — говорит Фукидид, — те умирали в полном одиночестве (и действительно, люди вымирали целыми домами, так как никто не ухаживал за ними). А если кто навещал больных, то сам заболевал: находились всё же люди, которые, не щадя себя из чувства чести, посещали больных, когда даже родственники, истомлённые непрерывным оплакиванием умирающих, под конец совершенно отчаивались и отступали перед ужасным несчастьем. Больше всего проявляли участие к больным и умирающим люди, сами уже перенёсшие болезнь, так как им было известно её течение, и они считали себя в безопасности от вторичного заражения. Действительно, вторично болезнь никого не поражала. Поэтому выздоровевших превозносили как счастливцев, и у них самих радость выздоровления порождала надежду, что теперь никакая другая болезнь не будет для них смертельной".
Никакая — никогда.
И вот, за десять дней со смехом и слезами напомнив себе, что такое человек, что такое все они и каждый, кто не они, флорентийская молодёжь отправляется куда бы?.. обратно в чумную Флоренцию. Напоследок Дионео рассказывает историю долготерпеливой Гризельды, — нет, она не про абьюз и домашнее насилие, она из рода exempla, аллегорических примеров, поскольку средневековье для Ренессанса так же питательно, как вся классическая античность, — и, переночевав в последний раз на вилле, вся компания возвращается в церковь Санта Мария Новелла, где расстаётся.
Кончилась ли за десять дней эпидемия? Нет, конечно.
"Когда люди из боязни заразы избегали посещать больных, — говорит Фукидид, — те умирали в полном одиночестве (и действительно, люди вымирали целыми домами, так как никто не ухаживал за ними). А если кто навещал больных, то сам заболевал: находились всё же люди, которые, не щадя себя из чувства чести, посещали больных, когда даже родственники, истомлённые непрерывным оплакиванием умирающих, под конец совершенно отчаивались и отступали перед ужасным несчастьем. Больше всего проявляли участие к больным и умирающим люди, сами уже перенёсшие болезнь, так как им было известно её течение, и они считали себя в безопасности от вторичного заражения. Действительно, вторично болезнь никого не поражала. Поэтому выздоровевших превозносили как счастливцев, и у них самих радость выздоровления порождала надежду, что теперь никакая другая болезнь не будет для них смертельной".
Никакая — никогда.
В "Сравнительных жизнеописаниях" Плутарх рассказывает о Цезаре (57, 4):
"Друзья Цезаря просили, чтобы он окружил себя телохранителями, и многие предлагали свои услуги. Цезарь не согласился, заявив, что, по его мнению, лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти" (пер. Г.А. Стратановского и К.П. Лампсакова).
Английские читатели — и особенно авторы! — XVI века изучают Плутарха, благо им его Томас Норт перевёл в 1579 году, с карандашиком; Цезарь позднему Возрождению интересен необычайно. Стивен Госсон в "Школе оскорблений" (1579) упоминает пьесу "История Цезаря и Помпея"; Уильям Александр, лорд Стирлайн, также сочинил трагедию о Цезаре, удивительно схожую местами с шекспировским текстом, возможно, из-за общности источника.
Фрэнсис Пек в приложении к запискам о Кромвеле перечисляет сочинения на исторические темы и среди них написанную на латыни, как положено учёным, пьесу о Юлии Цезаре, поставленную в оксфордском колледже Крайст-Чёрч силами студентов: Epilogus Caesari interfecti, quomodo in scenam prodiit ea res acta, in Ecclesia Christi, Oxon. Qui epilogus a Magistro Ricardo Eedes, et scriptus, et in proscenio ibidem dictus fuit, A. D. 1582. Magister — это доктор Ричард Идес, богослов и священник, которого Мерес в 1598 году, в "Сокровищнице ума" назвал одним из лучших трагических авторов своего времени.
Вполне возможно, что именно эту пьесу разыгрывал в студентах Полоний, которого, как мы помним, убили весьма брутально.
Цитату из Плутарха эпоха, перекатывая в уме, облекает собственным перламутром. Так, граф Эссекс пишет младшему товарищу, графу Ратленду: "Тот, кто умирает достойно, живёт вечно, тот же, кто живёт в страхе, умирает снова и снова". Это, конечно, уже монтеневского образца смесь стоицизма со скептицизмом, крепко замешанная на идее рыцарского благородства.
И эту мысль отчётливо повторит в "Юлии Цезаре" Шекспир.
Во второй сцене второго действия, когда напуганная дурными предзнаменованиями и страшным сном Кальпурния уговаривает мужа не ходить в сенат, Цезарь отвечает ей скорее словами Эссекса, чем Плутарха:
Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
В первом, прозаическом, переложении трагедии Шекспира на русский в 1786 году Карамзин перевёл эти слова так:
Трусы умирают задолго до своей смерти; храбрый вкушает смерть токмо единожды.
Прозаический же перевод Кетчера (1858) точен безупречно:
Трусы умирают много раз и до смерти; мужественный изведывает смерть только раз.
Фет — да-да, Афанасий Фет — в 1859 году впервые перевёл реплику Цезаря стихами, и у него впервые требования размера победили прямое следование оригиналу: шекспировское множественное число сменилось русским единственным, "трỳсы" превратились в "труса", и во фразе появилось равновесие почти афористическое:
Трус прежде смерти много раз умрёт,
А храбрый смерть вкушает лишь однажды.
Ещё один прозаический перевод, Каншина, в 1893 году таков:
Трусы много раз умирают и до наступления смерти, человек же мужественный изведывает смерть только раз.
У Соколовского, склонного к некоторому вольничанью, в 1894 году читаем:
Ничтожный трус боится смерти вечно;
Но тот, кто смел — её встречает раз.
У Козлова (1904):
Трус и до смерти часто умирает;
Но смерть лишь раз изведывает храбрый.
Исай Мандельштам (1941) предлагает такой вариант:
Трус много раз до смерти умирает;
Храбрец вкушает лишь однажды смерть.
Примерно в то же время каким-то совершенно особым образом сходятся звёзды, и Михаил Столяров находит одно из тех переводческих решений, которые если не лучше оригинала, то по силе воздействия равны ему настолько полно, что замираешь от самой возможности такого совершенства:
Трус умирает много раз до смерти;
Однажды лишь вкушает смерть храбрец.
Эту чеканную золотую фразу переводчик на бумаге не увидел: издательство Academia выпустило шестой том собрания, когда философа и литературного критика Михаила Павловича Столярова, переводившего Бальзака, Золя, Мопассана и многих других, уже расстреляли в 37-м.
"Друзья Цезаря просили, чтобы он окружил себя телохранителями, и многие предлагали свои услуги. Цезарь не согласился, заявив, что, по его мнению, лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти" (пер. Г.А. Стратановского и К.П. Лампсакова).
Английские читатели — и особенно авторы! — XVI века изучают Плутарха, благо им его Томас Норт перевёл в 1579 году, с карандашиком; Цезарь позднему Возрождению интересен необычайно. Стивен Госсон в "Школе оскорблений" (1579) упоминает пьесу "История Цезаря и Помпея"; Уильям Александр, лорд Стирлайн, также сочинил трагедию о Цезаре, удивительно схожую местами с шекспировским текстом, возможно, из-за общности источника.
Фрэнсис Пек в приложении к запискам о Кромвеле перечисляет сочинения на исторические темы и среди них написанную на латыни, как положено учёным, пьесу о Юлии Цезаре, поставленную в оксфордском колледже Крайст-Чёрч силами студентов: Epilogus Caesari interfecti, quomodo in scenam prodiit ea res acta, in Ecclesia Christi, Oxon. Qui epilogus a Magistro Ricardo Eedes, et scriptus, et in proscenio ibidem dictus fuit, A. D. 1582. Magister — это доктор Ричард Идес, богослов и священник, которого Мерес в 1598 году, в "Сокровищнице ума" назвал одним из лучших трагических авторов своего времени.
Вполне возможно, что именно эту пьесу разыгрывал в студентах Полоний, которого, как мы помним, убили весьма брутально.
Цитату из Плутарха эпоха, перекатывая в уме, облекает собственным перламутром. Так, граф Эссекс пишет младшему товарищу, графу Ратленду: "Тот, кто умирает достойно, живёт вечно, тот же, кто живёт в страхе, умирает снова и снова". Это, конечно, уже монтеневского образца смесь стоицизма со скептицизмом, крепко замешанная на идее рыцарского благородства.
И эту мысль отчётливо повторит в "Юлии Цезаре" Шекспир.
Во второй сцене второго действия, когда напуганная дурными предзнаменованиями и страшным сном Кальпурния уговаривает мужа не ходить в сенат, Цезарь отвечает ей скорее словами Эссекса, чем Плутарха:
Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
В первом, прозаическом, переложении трагедии Шекспира на русский в 1786 году Карамзин перевёл эти слова так:
Трусы умирают задолго до своей смерти; храбрый вкушает смерть токмо единожды.
Прозаический же перевод Кетчера (1858) точен безупречно:
Трусы умирают много раз и до смерти; мужественный изведывает смерть только раз.
Фет — да-да, Афанасий Фет — в 1859 году впервые перевёл реплику Цезаря стихами, и у него впервые требования размера победили прямое следование оригиналу: шекспировское множественное число сменилось русским единственным, "трỳсы" превратились в "труса", и во фразе появилось равновесие почти афористическое:
Трус прежде смерти много раз умрёт,
А храбрый смерть вкушает лишь однажды.
Ещё один прозаический перевод, Каншина, в 1893 году таков:
Трусы много раз умирают и до наступления смерти, человек же мужественный изведывает смерть только раз.
У Соколовского, склонного к некоторому вольничанью, в 1894 году читаем:
Ничтожный трус боится смерти вечно;
Но тот, кто смел — её встречает раз.
У Козлова (1904):
Трус и до смерти часто умирает;
Но смерть лишь раз изведывает храбрый.
Исай Мандельштам (1941) предлагает такой вариант:
Трус много раз до смерти умирает;
Храбрец вкушает лишь однажды смерть.
Примерно в то же время каким-то совершенно особым образом сходятся звёзды, и Михаил Столяров находит одно из тех переводческих решений, которые если не лучше оригинала, то по силе воздействия равны ему настолько полно, что замираешь от самой возможности такого совершенства:
Трус умирает много раз до смерти;
Однажды лишь вкушает смерть храбрец.
Эту чеканную золотую фразу переводчик на бумаге не увидел: издательство Academia выпустило шестой том собрания, когда философа и литературного критика Михаила Павловича Столярова, переводившего Бальзака, Золя, Мопассана и многих других, уже расстреляли в 37-м.
Перевод Столярова великолепен безоговорочно.
Надгробная речь Марка Антония, этот хрестоматийный образчик манипулятивной риторики, который английские школьники — и мы, питомцы советских "английских" школ — учили наизусть многие десятилетия, у Столярова выстроена так, что все паузы и логические ударения в ней совпадают с оригинальным текстом; легко, естественно, ложась на дыхание.
Неудивительно, что Михаил Зенкевич, работая над переводом "Юлия Цезаря" (1959) для так называемого "юбилейного" собрания, пошёл тем же путём, что и его предшественник:
Трус умирает много раз до смерти,
А храбрый смерть один лишь раз вкушает.
Трус умирает много раз до смерти.
Тот редкий случай, когда уход от оригинала приводит к нему вернее, чем точное следование.
Надгробная речь Марка Антония, этот хрестоматийный образчик манипулятивной риторики, который английские школьники — и мы, питомцы советских "английских" школ — учили наизусть многие десятилетия, у Столярова выстроена так, что все паузы и логические ударения в ней совпадают с оригинальным текстом; легко, естественно, ложась на дыхание.
Неудивительно, что Михаил Зенкевич, работая над переводом "Юлия Цезаря" (1959) для так называемого "юбилейного" собрания, пошёл тем же путём, что и его предшественник:
Трус умирает много раз до смерти,
А храбрый смерть один лишь раз вкушает.
Трус умирает много раз до смерти.
Тот редкий случай, когда уход от оригинала приводит к нему вернее, чем точное следование.
Если встать на втором этаже скуолы Сан-Рокко спиной к лестнице Скарпаньино, в левом углу на длинной стене окажется "Поклонение пастухов" — нет, не "Рождество", как утверждает популярный ресурс, это другой сюжет.
Оглушительный, как удар в медные тарелки перед лицом, Тинторетто, насыщенный до того, что, кажется, сейчас выпадет кристаллами прямо в твоей бедной голове. Невозможный янтарный свет сквозь дырявую крышу и балки хлева, тени, жесты и спины, многолюдная сцена со сложно организованной драматургией и хореографией, где аллегории и эмблемы, сбежавшиеся в Вифлеем, заняли свои места и приняли должные позы: тут тебе и Милосердие, традиционно обнажившее грудь; и, вроде бы, Гордыня с зеркалом — только смотрит она не на себя, как положено, а словно ловит в стекло отражение младенца, отчаянно напоминая туристов, смотрящих в зеркала на потолок зала; и даже петух, вполне уместный в хлеву, забрёл из мессы Св. Григория Великого, он про отречение Петра, а не про птичий двор; и павлин... подождите, там что, правда павлин?
Там правда павлин.
Сидит, свесив хвост, на то ли вилах, то ли каком другом сельхозинвентаре, закреплённом на дальней стене.
"Символика павлина, — мучительно воздвигая брови домиком, произносит любой научно-популярный источник, — неоднозначна". Да ладно, всплёскиваем руками мы, неужто!.. и отнюдь не просим показать нам однозначный символ, даже не просим объяснить, почему символ, в отличие от эмблемы, однозначным быть не должен и не может.
Впрочем, павлин, как и всё на свете, и в самом деле может означать разное: вот он эмблема бессмертия, преображённый многоочитый Аргус, спутник Геры/Юноны, и потому — птица женщин императорской семьи, атрибут божественности, существо многоцветное и переливчатое, как само творение, да и нетленное, если верить легендам.
Рассуждая о вечном наказании в главе четвёртой двадцать первой книги труда "О граде Божьем", Августин, например, говорит следующее:
"Ибо кто, как не Бог, Творец всего, сообщил мясу мёртвого павлина свойство не портиться? Хотя рассказ мой и покажется, пожалуй, невероятным, но с нами действительно был такой случай. В Карфагене нам предложили сваренного павлина; мы приказали из его груди вырезать кусок мякоти, достаточной на наш взгляд величины, и спрятать; этот кусок через некоторое время, более чем достаточное для того, чтобы всякое другое мясо испортилось, когда его нам предложили, не имел никакого неприятного запаха. Спрятав его снова, мы нашли его таким же по истечении более чем тридцати дней, и таким же по истечении года, с той только разницей, что мясо сделалось несколько суше и жёстче".
Неподвластный тлению павлин становится эмблемой воскрешения, отчего и прохаживается с важным видом по христианской иконографии, и пьёт из источника, как пили в древних орнаментах птицы, стоящие у мирового древа, только теперь — приобщаясь жизни вечной, то есть, означая ещё и крещение, и, соответственно, новообращённого. Такой павлин сближается, к слову, с оленем, который стремится на источники вод, как душа к Господу, и потому они часто изображаются рядом.
А вот, напротив, павлин — символ гордыни и тщеславия.
Вот он, как трогательно рассказывает Варфоломей Английский, слышит похвалу своей красоте и распускает хвост навстречу солнцу, любуясь игрой сотен драгоценных оттенков и поднимая надменно венценосную голову... но вдруг смотрит вниз и видит собственные ноги, о ужас. Корявые, голые куриные ноги. И хвост опадает, и гордыня посрамлена.
Мерзкий голос павлина, согласно бестиариям, подобен голосу проповедника, возвещающего грешникам о грядущем аде, жёсткая плоть павлина, которую и приготовить-то не выйдет, схожа с твёрдым умом мудреца, который неподвластен пламени похоти, исполненный очей хвост напоминает нам о всеведении Господа и зоркости церкви... но здесь мы закрываем книгу и снова смотрим в левый угол большого зала скуолы Сан-Рокко.
Там, у кирпичной стены, на ручке крестьянских вил, спустив в солому парчовый свёрнутый хвост, сидит павлин. Эмблема воскрешения и жизни вечной, гордыня и земная красота, склонившая голову в венце перед младенцем.
Оглушительный, как удар в медные тарелки перед лицом, Тинторетто, насыщенный до того, что, кажется, сейчас выпадет кристаллами прямо в твоей бедной голове. Невозможный янтарный свет сквозь дырявую крышу и балки хлева, тени, жесты и спины, многолюдная сцена со сложно организованной драматургией и хореографией, где аллегории и эмблемы, сбежавшиеся в Вифлеем, заняли свои места и приняли должные позы: тут тебе и Милосердие, традиционно обнажившее грудь; и, вроде бы, Гордыня с зеркалом — только смотрит она не на себя, как положено, а словно ловит в стекло отражение младенца, отчаянно напоминая туристов, смотрящих в зеркала на потолок зала; и даже петух, вполне уместный в хлеву, забрёл из мессы Св. Григория Великого, он про отречение Петра, а не про птичий двор; и павлин... подождите, там что, правда павлин?
Там правда павлин.
Сидит, свесив хвост, на то ли вилах, то ли каком другом сельхозинвентаре, закреплённом на дальней стене.
"Символика павлина, — мучительно воздвигая брови домиком, произносит любой научно-популярный источник, — неоднозначна". Да ладно, всплёскиваем руками мы, неужто!.. и отнюдь не просим показать нам однозначный символ, даже не просим объяснить, почему символ, в отличие от эмблемы, однозначным быть не должен и не может.
Впрочем, павлин, как и всё на свете, и в самом деле может означать разное: вот он эмблема бессмертия, преображённый многоочитый Аргус, спутник Геры/Юноны, и потому — птица женщин императорской семьи, атрибут божественности, существо многоцветное и переливчатое, как само творение, да и нетленное, если верить легендам.
Рассуждая о вечном наказании в главе четвёртой двадцать первой книги труда "О граде Божьем", Августин, например, говорит следующее:
"Ибо кто, как не Бог, Творец всего, сообщил мясу мёртвого павлина свойство не портиться? Хотя рассказ мой и покажется, пожалуй, невероятным, но с нами действительно был такой случай. В Карфагене нам предложили сваренного павлина; мы приказали из его груди вырезать кусок мякоти, достаточной на наш взгляд величины, и спрятать; этот кусок через некоторое время, более чем достаточное для того, чтобы всякое другое мясо испортилось, когда его нам предложили, не имел никакого неприятного запаха. Спрятав его снова, мы нашли его таким же по истечении более чем тридцати дней, и таким же по истечении года, с той только разницей, что мясо сделалось несколько суше и жёстче".
Неподвластный тлению павлин становится эмблемой воскрешения, отчего и прохаживается с важным видом по христианской иконографии, и пьёт из источника, как пили в древних орнаментах птицы, стоящие у мирового древа, только теперь — приобщаясь жизни вечной, то есть, означая ещё и крещение, и, соответственно, новообращённого. Такой павлин сближается, к слову, с оленем, который стремится на источники вод, как душа к Господу, и потому они часто изображаются рядом.
А вот, напротив, павлин — символ гордыни и тщеславия.
Вот он, как трогательно рассказывает Варфоломей Английский, слышит похвалу своей красоте и распускает хвост навстречу солнцу, любуясь игрой сотен драгоценных оттенков и поднимая надменно венценосную голову... но вдруг смотрит вниз и видит собственные ноги, о ужас. Корявые, голые куриные ноги. И хвост опадает, и гордыня посрамлена.
Мерзкий голос павлина, согласно бестиариям, подобен голосу проповедника, возвещающего грешникам о грядущем аде, жёсткая плоть павлина, которую и приготовить-то не выйдет, схожа с твёрдым умом мудреца, который неподвластен пламени похоти, исполненный очей хвост напоминает нам о всеведении Господа и зоркости церкви... но здесь мы закрываем книгу и снова смотрим в левый угол большого зала скуолы Сан-Рокко.
Там, у кирпичной стены, на ручке крестьянских вил, спустив в солому парчовый свёрнутый хвост, сидит павлин. Эмблема воскрешения и жизни вечной, гордыня и земная красота, склонившая голову в венце перед младенцем.
Всё это верно, всё это есть точное научное знание.
Но если встать на втором этаже скуолы Сан-Рокко спиной к лестнице Скарпаньино и просто поднять голову, увидишь павлина в хлеву — лучшую метафору и для Тинторетто, и для скуолы Сан-Рокко, и для всего, что есть в мире избыточного, преувеличенного, взрывающегося фейерверком в мозгу.
Larger than life, как говорят англоязычные друзья.
Но нет, оно не больше жизни, мы просто не способны вместить жизнь во всём её неправдоподобии в свои маленькие головы.
Но если встать на втором этаже скуолы Сан-Рокко спиной к лестнице Скарпаньино и просто поднять голову, увидишь павлина в хлеву — лучшую метафору и для Тинторетто, и для скуолы Сан-Рокко, и для всего, что есть в мире избыточного, преувеличенного, взрывающегося фейерверком в мозгу.
Larger than life, как говорят англоязычные друзья.
Но нет, оно не больше жизни, мы просто не способны вместить жизнь во всём её неправдоподобии в свои маленькие головы.
Довольно интересная аберрация: большинство цитирующих тютчевского "Цицерона" автоматически говорит: "Блажен, кто посетил сей мир..." — а он в автографе-то не "блажен", он "счастлив".
"Блажен" впервые появляется в публикации альманаха "Денница" в 1831 году, но в 1836 году в пушкинском "Современнике", печатающем стихи с авторской тетради — "счастлив". И в 1854 году в "Современнике" же "счастлив". А в собрании 1913 года опять "блажен". Современные академические издания, разумеется, выбирают вариант автографа, но сейчас не об этом.
В "блажен" отчётливо слышны христианские μακάριος и beatus, особая связь с божественным промыслом, а если копнуть глубже, то и игра в пристенок с горацианским beatus ille qui procul negotiis, "блажен лишь тот, кто, суеты не ведая" в переводе Семёнова-Тян-Шанского. И, в общем, логика в том, что этот вариант в бытовой культурной памяти вытесняет авторский, есть: блажен — это не только благословен, это ещё и созерцательно-спокоен, вознесён над суетой роковых минут сознанием призванности.
Но у Тютчева всё равно лучше.
У Тютчева — счастье, участие, своя часть в пиру, зрелище и совете вершащих судьбы мироздания. Не просто наблюдение, не просто открытость опыту, но осознанное пропускание его через себя, со-трудничество, со-причастность. Звучит, конечно, корявее, чем "блажен", но Фёдор Иванович так несказанно крут, что корявости не боится, хотя и не конструирует её нарочно: чтобы отважиться на роскошное "зрелищ зритель", надо быть очень, очень уверенным в том, что говоришь.
Счастлив — счастлúв.
Это не имеет никакого отношения к благополучию, ага.
"Блажен" впервые появляется в публикации альманаха "Денница" в 1831 году, но в 1836 году в пушкинском "Современнике", печатающем стихи с авторской тетради — "счастлив". И в 1854 году в "Современнике" же "счастлив". А в собрании 1913 года опять "блажен". Современные академические издания, разумеется, выбирают вариант автографа, но сейчас не об этом.
В "блажен" отчётливо слышны христианские μακάριος и beatus, особая связь с божественным промыслом, а если копнуть глубже, то и игра в пристенок с горацианским beatus ille qui procul negotiis, "блажен лишь тот, кто, суеты не ведая" в переводе Семёнова-Тян-Шанского. И, в общем, логика в том, что этот вариант в бытовой культурной памяти вытесняет авторский, есть: блажен — это не только благословен, это ещё и созерцательно-спокоен, вознесён над суетой роковых минут сознанием призванности.
Но у Тютчева всё равно лучше.
У Тютчева — счастье, участие, своя часть в пиру, зрелище и совете вершащих судьбы мироздания. Не просто наблюдение, не просто открытость опыту, но осознанное пропускание его через себя, со-трудничество, со-причастность. Звучит, конечно, корявее, чем "блажен", но Фёдор Иванович так несказанно крут, что корявости не боится, хотя и не конструирует её нарочно: чтобы отважиться на роскошное "зрелищ зритель", надо быть очень, очень уверенным в том, что говоришь.
Счастлив — счастлúв.
Это не имеет никакого отношения к благополучию, ага.
Леонелло д'Эсте, побочный сын Никколо III, маркиза Феррары, был юношей талантливым и в народе любимым, отчего и стал отцовским преемником, несмотря на наличие законных братьев. Свою роль сыграла, конечно, и казнь Уго, старшего брата, но это совсем другая история, не о ней сейчас.
Правил Леонелло недолго, всего девять лет, с 1441 до 1450, но за это время успел вернуть к жизни университет Феррары, собрал вокруг себя учёных и художников и создал двор, о котором мечтали мыслители Ренессанса. Достаточно упомянуть лишь нескольких из тех, кого Леонелло привлёк в Феррару: гуманисты Альберти, Дечембрио, Газа, Басини, художники Пьеро делла Франческа, Пизанелло, Рогир ван дер Вейден, Якопо Беллини, Мантенья... уже неплохо, довольно.
Он был воплощением новых представлений о благородном государе: рыцарь, — его обучал в Перудже воинскому искусству кондотьер Браччо да Монтоне, но Леонелло военными предприятиями так и не увлёкся, — поэт, покровитель наук и искусств, и мудрый правитель; ну, когда образование получаешь у Гуарино да Верона, а не в академии госслужбы, это сказывается.
Нас, однако, куда больше интересует то, как Леонелло видел себя — и как хотел, чтобы его видели. И здесь начинается сложная изысканная игра, столь любимая Ренессансом: leonello буквально означает "маленький лев", или, если мы принимаем во внимание геральдические практики, "леопард". Поэтому к фамильному орлу д'Эсте маркиз Леонелло добавляет свою собственную эмблему, льва или некое кошачье животное, которое то леопардом называют, то рысью.
Эту игру образов обеспечивает молодому маркизу — а он так и остался молодым, он прожил всего сорок три года — один из придворных мастеров, Антонио Пизано, Пизанелло. Он пишет лучший портрет Леонелло и создаёт для него медали по образцу римских, которые маркиз Феррары собирает — как и книги, и картины, и драгоценности.
Тут отвлечёмся на секунду и задумаемся, как повезло этим итальянским правителям: мы видим их глазами художников, которым легко доверить сотворение мира, потому что это будет прекрасный во всех отношениях мир; и как повезло нам, но это уже не так важно.
На портрете Пизанелло от "маленького льва" Феррары глаз не отвести: выразительный тонкий профиль, кудри, стилизованные под львиную гриву, — виски продуманно выбриты! — гордая голова, богатый и гармоничный наряд. О гармонии скажем отдельно, от современников мы знаем, что Леонелло одевался в цвета, согласующиеся с расположением планет, так что и цвета одежды, и цветы на этом портрете неслучайны, но мы, опять же, сейчас не о том.
Мы о медалях, которые Пизанелло создаёт для своего просвещённого покровителя.
Аверс несёт всё тот же дивный профиль, реверсы же куда интереснее. На первом лев, поющий по нотам, которые держит ангел — это ещё одна саморепрезентация Леонелло. Там выше слева сидит на дереве стройный орёл д'Эсте, но он не главный, главный здесь благородный зверь, смиривший свою силу и покорившийся небесной гармонии.
Со второй медалью всё ещё занятнее.
Это не "котик на подушке", это то самое кошачье, то ли леопард, то ли рысь, которое можно считать "маленьким львом". Рысь более вероятна, потому что, во-первых, у "котика", присмотритесь, короткий хвост, а во-вторых, рысь традиционно считается зверем особенно зорким, это восходит к греческому мифу о Линкее, но мы сейчас, опять-таки, не о том.
И вот у этой зоркой рыси завязаны глаза, что отсылает нас к девизу маркиза Леонелло: Quae vides ne vide, "Что видишь, того не видь", если дословно. О чём это? Да о политике же: зная обо всём, всё видя, как глазастая рысь, не всё нужно замечать.
Блистательные государи Ренессанса считали так.
Правил Леонелло недолго, всего девять лет, с 1441 до 1450, но за это время успел вернуть к жизни университет Феррары, собрал вокруг себя учёных и художников и создал двор, о котором мечтали мыслители Ренессанса. Достаточно упомянуть лишь нескольких из тех, кого Леонелло привлёк в Феррару: гуманисты Альберти, Дечембрио, Газа, Басини, художники Пьеро делла Франческа, Пизанелло, Рогир ван дер Вейден, Якопо Беллини, Мантенья... уже неплохо, довольно.
Он был воплощением новых представлений о благородном государе: рыцарь, — его обучал в Перудже воинскому искусству кондотьер Браччо да Монтоне, но Леонелло военными предприятиями так и не увлёкся, — поэт, покровитель наук и искусств, и мудрый правитель; ну, когда образование получаешь у Гуарино да Верона, а не в академии госслужбы, это сказывается.
Нас, однако, куда больше интересует то, как Леонелло видел себя — и как хотел, чтобы его видели. И здесь начинается сложная изысканная игра, столь любимая Ренессансом: leonello буквально означает "маленький лев", или, если мы принимаем во внимание геральдические практики, "леопард". Поэтому к фамильному орлу д'Эсте маркиз Леонелло добавляет свою собственную эмблему, льва или некое кошачье животное, которое то леопардом называют, то рысью.
Эту игру образов обеспечивает молодому маркизу — а он так и остался молодым, он прожил всего сорок три года — один из придворных мастеров, Антонио Пизано, Пизанелло. Он пишет лучший портрет Леонелло и создаёт для него медали по образцу римских, которые маркиз Феррары собирает — как и книги, и картины, и драгоценности.
Тут отвлечёмся на секунду и задумаемся, как повезло этим итальянским правителям: мы видим их глазами художников, которым легко доверить сотворение мира, потому что это будет прекрасный во всех отношениях мир; и как повезло нам, но это уже не так важно.
На портрете Пизанелло от "маленького льва" Феррары глаз не отвести: выразительный тонкий профиль, кудри, стилизованные под львиную гриву, — виски продуманно выбриты! — гордая голова, богатый и гармоничный наряд. О гармонии скажем отдельно, от современников мы знаем, что Леонелло одевался в цвета, согласующиеся с расположением планет, так что и цвета одежды, и цветы на этом портрете неслучайны, но мы, опять же, сейчас не о том.
Мы о медалях, которые Пизанелло создаёт для своего просвещённого покровителя.
Аверс несёт всё тот же дивный профиль, реверсы же куда интереснее. На первом лев, поющий по нотам, которые держит ангел — это ещё одна саморепрезентация Леонелло. Там выше слева сидит на дереве стройный орёл д'Эсте, но он не главный, главный здесь благородный зверь, смиривший свою силу и покорившийся небесной гармонии.
Со второй медалью всё ещё занятнее.
Это не "котик на подушке", это то самое кошачье, то ли леопард, то ли рысь, которое можно считать "маленьким львом". Рысь более вероятна, потому что, во-первых, у "котика", присмотритесь, короткий хвост, а во-вторых, рысь традиционно считается зверем особенно зорким, это восходит к греческому мифу о Линкее, но мы сейчас, опять-таки, не о том.
И вот у этой зоркой рыси завязаны глаза, что отсылает нас к девизу маркиза Леонелло: Quae vides ne vide, "Что видишь, того не видь", если дословно. О чём это? Да о политике же: зная обо всём, всё видя, как глазастая рысь, не всё нужно замечать.
Блистательные государи Ренессанса считали так.
В первой сцене второго акта "Юлия Цезаря", когда Кассий на встрече заговорщиков высказывает опасение, что Цезарь из-за дурных предзнаменований может не пойти в сенат, Деций Брут его успокаивает, обещая Цезаря уговорить.
В первом переводе трагедии на русский, в 1786 году, Карамзин перелагает слова Деция прозой:
Это всё ничего не значит; хотя бы он и не захотел идти в Капитолию, однако я могу легко опять преклонить его к сему: ибо он с удовольствием слушает, что единороги могут быть пойманы древами, медведи зеркалами, слоны ямами, львы сетями, а люди льстецами.
"Капитолия" прекрасна, конечно, но не о ней сейчас.
В 1858 появляется второй прозаический перевод, Н.Х. Кетчера:
На этот счёт вы можете быть покойны. Если он и вздумает остаться дома, я заставлю его переменить это решение. Он любит толковать о том, как надувают единорогов деревьями, медведей — зеркалами, слонов — ямами, львов — сетями, а людей — лестью.
Развидеть надутого единорога трудно, но постараемся.
Тем более, что к этому переводу учёнейший Николай Христофорович — это про него Тургенев писал: "Вот ещё светило мира! Кетчер, друг шипучих вин; перепёр он нам Шекспира на язык родных осин" — оставил примечание:
"По древним рассказам об охоте за единорогами: охотник, раздражив его, бросался вдруг за дерево, и единорог, принимая дерево за охотника, вонзал в него рог свой так глубоко, что уже не мог вытащить и таким образом попадался. Рассказывали также, что и на медведя выходили с зеркалом, которое, обращая на себя его внимание, давало охотнику время прицелиться".
С методом ловили единорогов в дерево знакомы все, кто читал про Храброго Портняжку, а про медведя запоминайте, это важно.
В 1859 году Фет впервые переводит "Юлия Цезаря" стихами:
Не бойтесь: если б он и согласился,
Я убежду его; он любит слушать,
Что деревом единорога ловят,
Медведей — зеркалами, рвом — слона,
Сетями — льва, а человека — лестью.
У Козлова в 1880 фантастический единорог превращается в позитивистского носорога, но в остальном примерно то же:
Будь покоен!
Коль он прийти не хочет, я его
Заставлю изменить своё решенье.
Он часто говорит, что носорога
Обманывают деревом, слона —
Посредством ямы, зеркалом — медведя,
Капканом — льва, а человека — лестью.
Соколовский в 1885 переводит этот фрагмент так:
Не бойтесь: я берусь
Уладить это дело, если точно
Он будет так настроен. Любит он
Ведь говорить, что ловятся легко
Слоны посредством ям, единороги —
Посредством пней, медведи — зеркалами,
А люди попадаются на лесть.
О это возлюбленное переводческое "ведь"!..
Нас, однако, куда больше интересует то, что к переводу Соколовского тоже есть примечание:
"По тогдашнему поверью сказочный зверь, единорог, ловился тем, что охотник прятался за пень. Единорог с разбега вонзал свой рог в дерево и тем делался добычей охотника. Медведь, как тоже тогда думали, останавливался неподвижно, увидя себя в зеркале".
Непонятно, зачем переводчик спилил "дерево" оригинала, оставив один пень, но будем считать, что по соображениям метрическим.
В первом переводе трагедии на русский, в 1786 году, Карамзин перелагает слова Деция прозой:
Это всё ничего не значит; хотя бы он и не захотел идти в Капитолию, однако я могу легко опять преклонить его к сему: ибо он с удовольствием слушает, что единороги могут быть пойманы древами, медведи зеркалами, слоны ямами, львы сетями, а люди льстецами.
"Капитолия" прекрасна, конечно, но не о ней сейчас.
В 1858 появляется второй прозаический перевод, Н.Х. Кетчера:
На этот счёт вы можете быть покойны. Если он и вздумает остаться дома, я заставлю его переменить это решение. Он любит толковать о том, как надувают единорогов деревьями, медведей — зеркалами, слонов — ямами, львов — сетями, а людей — лестью.
Развидеть надутого единорога трудно, но постараемся.
Тем более, что к этому переводу учёнейший Николай Христофорович — это про него Тургенев писал: "Вот ещё светило мира! Кетчер, друг шипучих вин; перепёр он нам Шекспира на язык родных осин" — оставил примечание:
"По древним рассказам об охоте за единорогами: охотник, раздражив его, бросался вдруг за дерево, и единорог, принимая дерево за охотника, вонзал в него рог свой так глубоко, что уже не мог вытащить и таким образом попадался. Рассказывали также, что и на медведя выходили с зеркалом, которое, обращая на себя его внимание, давало охотнику время прицелиться".
С методом ловили единорогов в дерево знакомы все, кто читал про Храброго Портняжку, а про медведя запоминайте, это важно.
В 1859 году Фет впервые переводит "Юлия Цезаря" стихами:
Не бойтесь: если б он и согласился,
Я убежду его; он любит слушать,
Что деревом единорога ловят,
Медведей — зеркалами, рвом — слона,
Сетями — льва, а человека — лестью.
У Козлова в 1880 фантастический единорог превращается в позитивистского носорога, но в остальном примерно то же:
Будь покоен!
Коль он прийти не хочет, я его
Заставлю изменить своё решенье.
Он часто говорит, что носорога
Обманывают деревом, слона —
Посредством ямы, зеркалом — медведя,
Капканом — льва, а человека — лестью.
Соколовский в 1885 переводит этот фрагмент так:
Не бойтесь: я берусь
Уладить это дело, если точно
Он будет так настроен. Любит он
Ведь говорить, что ловятся легко
Слоны посредством ям, единороги —
Посредством пней, медведи — зеркалами,
А люди попадаются на лесть.
О это возлюбленное переводческое "ведь"!..
Нас, однако, куда больше интересует то, что к переводу Соколовского тоже есть примечание:
"По тогдашнему поверью сказочный зверь, единорог, ловился тем, что охотник прятался за пень. Единорог с разбега вонзал свой рог в дерево и тем делался добычей охотника. Медведь, как тоже тогда думали, останавливался неподвижно, увидя себя в зеркале".
Непонятно, зачем переводчик спилил "дерево" оригинала, оставив один пень, но будем считать, что по соображениям метрическим.
В переводе, вышедшем уже после расстрела переводчика Столярова, в 1941 году, читаем:
Не бойтесь: я решение такое
Преоборю. Он любит поговорку,
Что деревом единорогов ловят,
Медведей ловят зеркалом, львов — сетью,
Ямой — слонов, а человека — лестью.
В переводе Исая Мандельштама, сделанном в 1950 году, вариант такой:
Не бойтесь:
Его уговорить сумею я.
Он любит поговорку, что ловить
Деревьями единорогов надо,
Медведей — зеркалами, сетью — львов,
Слонов — посредством ям, людей — льстецами.
И там же примечание: "Единорог — сказочное животное, имеющее вид коня с длинным рогом во лбу. Считалось, что поймать единорога можно следующим образом: охотник, разъярив единорога, прячется в дерево, в которое единорог вонзает свой рог с такой силой, что потом уже не может вытащить его обратно".
Ни слова про медведей и зеркала.
В так называемом "юбилейном" собрании, в переводе Зенкевича, сделанном в 1959 году, Деций Брут говорит следующее:
О нет, не бойтесь! Если так решит он,
Отговорю его. Он любит слушать,
Что ловят деревом единорога,
Медведя — зеркалом, слона же — ямой,
Силками — льва, а человека — лестью.
И, разумеется: примечание: "Ловлю легендарного зверя единорога надо себе представлять так: охотник, разъярив единорога, прятался за деревом, и тогда зверь вонзал свой рог в дерево с такой силой, что потом уже не мог его вытащить. Все эти сведения о способах охоты на разных животных Шекспир мог почерпнуть частью из Плиния (о слоне), частью из средневековых легенд (о единороге), частью из рассказов путешественников".
И опять — ни слова о медведях.
В самом свежем на сегодня переводе А.В. Флори (2007) находим вот что:
Не бойся, я к нему найду подход.
Он любит повторять, что уловляют
Единорога — древом, сетью — льва,
Медведя — зеркалом, посредством ямы —
Слона, а люди ловятся на лесть.
В оригинале там немножко иначе, — unicorns may be betray'd with trees, единорогов можно предать, обмануть, подвести с помощью дерева, а не просто поймать, — но по большому счёту серьёзных огрехов в переводах нет.
А вот с примечаниями беда.
С лёгкой ли руки Кетчера, независимо ли от него, историю охоты на медведя все комментаторы перевирают. Шекспир явно опирался на труд Варфоломея Английского De proprietatibus rerum, "О свойствах вещей", средневековую энциклопедию всего; скорее даже на перевод её, сделанный Джоном Тревизой во второй половине XIV века и отредактированный перед публикацией в 1582 году богословом Стивеном Бейтменом. Про охоту на медведя у Варфоломея говорится вот что:
"А когда захватывают его, то ослепляют блестящей чашей (даже, пожалуй, тазом — pelvis ardentis, натурально), опутывают цепями и принуждают представлять".
То есть, о̶н̶ ̶у̶д̶а̶р̶и̶л̶ ̶в̶ ̶м̶е̶д̶н̶ы̶й̶ ̶т̶а̶з̶ ̶и̶ ̶в̶с̶к̶р̶и̶ч̶а̶л̶:̶ ̶"̶К̶а̶р̶а̶б̶а̶р̶а̶с̶!̶" пускаешь медведю зайчиков в глаза, и бери его тёпленьким. Вполне возможно, это отголосок жуткой практики охотников, ловивших медведей живьём — зверей на самом деле ослепляли, в шекспировском Лондоне одна из звёзд медвежьей травли носила прозвище Слепая Бесс.
Обсуждать жестокость Ренессанса к животным сейчас не будем, разберёмся, откуда взялось у Шекспира зеркало вместо исходного блестящего таза. Дело в том, что даже стеклянные зеркала в шекспировское время чаще имеют выпуклую форму. Вы такое видели на стене за спиной у четы Арнольфини на портрете Ван Эйка, они все, включая, согласно некоторым гипотезам, самого художника, в нём отражаются. С искажениями, конечно; выпуклые зеркала всегда искажают объект.
Но изготовить стеклянную полусферу и потом её вручную отполировать технически проще, чем прокатать лист. Листовое стекло долго стоит безумных денег: когда в 1556 году герцог Нортумберлендский надолго уехал из своего замка в Элнике, слуги сочли, что оконные рамы со стеклом лучше от греха вынуть и отнести в кладовую, а то ещё разобьёт кто.
Поэтому куда чаще стеклянных встречаются зеркала металлические, тоже полированные, тоже выпуклые.
Похожее выпуклое зеркало — чем не блестящий тазик? — и используют у Шекспира охотники, чтобы ослепить и озадачить медведя.
Не бойтесь: я решение такое
Преоборю. Он любит поговорку,
Что деревом единорогов ловят,
Медведей ловят зеркалом, львов — сетью,
Ямой — слонов, а человека — лестью.
В переводе Исая Мандельштама, сделанном в 1950 году, вариант такой:
Не бойтесь:
Его уговорить сумею я.
Он любит поговорку, что ловить
Деревьями единорогов надо,
Медведей — зеркалами, сетью — львов,
Слонов — посредством ям, людей — льстецами.
И там же примечание: "Единорог — сказочное животное, имеющее вид коня с длинным рогом во лбу. Считалось, что поймать единорога можно следующим образом: охотник, разъярив единорога, прячется в дерево, в которое единорог вонзает свой рог с такой силой, что потом уже не может вытащить его обратно".
Ни слова про медведей и зеркала.
В так называемом "юбилейном" собрании, в переводе Зенкевича, сделанном в 1959 году, Деций Брут говорит следующее:
О нет, не бойтесь! Если так решит он,
Отговорю его. Он любит слушать,
Что ловят деревом единорога,
Медведя — зеркалом, слона же — ямой,
Силками — льва, а человека — лестью.
И, разумеется: примечание: "Ловлю легендарного зверя единорога надо себе представлять так: охотник, разъярив единорога, прятался за деревом, и тогда зверь вонзал свой рог в дерево с такой силой, что потом уже не мог его вытащить. Все эти сведения о способах охоты на разных животных Шекспир мог почерпнуть частью из Плиния (о слоне), частью из средневековых легенд (о единороге), частью из рассказов путешественников".
И опять — ни слова о медведях.
В самом свежем на сегодня переводе А.В. Флори (2007) находим вот что:
Не бойся, я к нему найду подход.
Он любит повторять, что уловляют
Единорога — древом, сетью — льва,
Медведя — зеркалом, посредством ямы —
Слона, а люди ловятся на лесть.
В оригинале там немножко иначе, — unicorns may be betray'd with trees, единорогов можно предать, обмануть, подвести с помощью дерева, а не просто поймать, — но по большому счёту серьёзных огрехов в переводах нет.
А вот с примечаниями беда.
С лёгкой ли руки Кетчера, независимо ли от него, историю охоты на медведя все комментаторы перевирают. Шекспир явно опирался на труд Варфоломея Английского De proprietatibus rerum, "О свойствах вещей", средневековую энциклопедию всего; скорее даже на перевод её, сделанный Джоном Тревизой во второй половине XIV века и отредактированный перед публикацией в 1582 году богословом Стивеном Бейтменом. Про охоту на медведя у Варфоломея говорится вот что:
"А когда захватывают его, то ослепляют блестящей чашей (даже, пожалуй, тазом — pelvis ardentis, натурально), опутывают цепями и принуждают представлять".
То есть, о̶н̶ ̶у̶д̶а̶р̶и̶л̶ ̶в̶ ̶м̶е̶д̶н̶ы̶й̶ ̶т̶а̶з̶ ̶и̶ ̶в̶с̶к̶р̶и̶ч̶а̶л̶:̶ ̶"̶К̶а̶р̶а̶б̶а̶р̶а̶с̶!̶" пускаешь медведю зайчиков в глаза, и бери его тёпленьким. Вполне возможно, это отголосок жуткой практики охотников, ловивших медведей живьём — зверей на самом деле ослепляли, в шекспировском Лондоне одна из звёзд медвежьей травли носила прозвище Слепая Бесс.
Обсуждать жестокость Ренессанса к животным сейчас не будем, разберёмся, откуда взялось у Шекспира зеркало вместо исходного блестящего таза. Дело в том, что даже стеклянные зеркала в шекспировское время чаще имеют выпуклую форму. Вы такое видели на стене за спиной у четы Арнольфини на портрете Ван Эйка, они все, включая, согласно некоторым гипотезам, самого художника, в нём отражаются. С искажениями, конечно; выпуклые зеркала всегда искажают объект.
Но изготовить стеклянную полусферу и потом её вручную отполировать технически проще, чем прокатать лист. Листовое стекло долго стоит безумных денег: когда в 1556 году герцог Нортумберлендский надолго уехал из своего замка в Элнике, слуги сочли, что оконные рамы со стеклом лучше от греха вынуть и отнести в кладовую, а то ещё разобьёт кто.
Поэтому куда чаще стеклянных встречаются зеркала металлические, тоже полированные, тоже выпуклые.
Похожее выпуклое зеркало — чем не блестящий тазик? — и используют у Шекспира охотники, чтобы ослепить и озадачить медведя.
Этот ли затейливый процесс изображён на миниатюре из "Декреталий Григория IX", созданной в XIV веке в Болонье, или человек просто играет с медведем в золотой мячик, сказать невозможно. Но, судя по тому, что персонаж сверяется с каким-то свитком, без советов учёных мужей не обошлось.
Lyon, Bibliothèque municipale 5127, fol. 80
Lyon, Bibliothèque municipale 5127, fol. 80