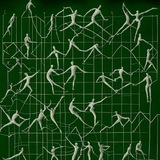Квир-система Модерна
Разбор мир-системной теории обещал обернуться очередным сеансом диванной политологии про гегемонию США и восхождение Китая, но благодаря эрудиции и фантазии моих замечательных магистрантов неожиданно затронули в основном немного иные аспекты – исторические. Тем более, что в лице Анны Горбарук мы получили эксперта с куда более свежим историческим образованием, который может не только меня поправить, но и самостоятельно рассказать, как все было на самом деле.
Так вот, Иммануил Валлерстайн интересен не только телегами про периферию и ядро, но и любопытными наблюдениями о значении антисистемных движений в геокультуре и повторении системных циклов. Объедините две идеи и получите интерпретацию Реформации как прямого структурного предшественника современных политик идентичностей. Действительно, конфессиональные противостояния в XVI веке пронизывали все стороны социальной жизни и формировали self каждого жителя европейского ядра. Мысль о том, что кто-то может взять, да и не соблюдать главные общинные ритуалы под руководством священника, а тем более торговать с иудеями или вступать в военные союзы с мусульманами, задевала очень многих за самое живое.
Если вам тяжело представить реалии этого мира, то можно просто в уме подставить вместе конфессии гендер, и вы поймете, почему все вокруг тогда так сильно напрягались из-за религиозных вопросов. Анна, например, вспомнила Генриха IV, который поставил Париж выше мессы, крайне раздражая не только почтенных католиков, но и многих радикальных гугенотов, которые так на него так надеялись. Короче говоря, Генрих был квиром за много веков до того, как стало мейнстримом! Также в процессе обсуждения нам еще удалось сравнить ЧВК «Вагнер» с королевскими каперами, а фирму «Боинг» – с корабельными верфями Амстердама. В общем, Георгий Матвеич нами бы точно остался доволен.
Разбор мир-системной теории обещал обернуться очередным сеансом диванной политологии про гегемонию США и восхождение Китая, но благодаря эрудиции и фантазии моих замечательных магистрантов неожиданно затронули в основном немного иные аспекты – исторические. Тем более, что в лице Анны Горбарук мы получили эксперта с куда более свежим историческим образованием, который может не только меня поправить, но и самостоятельно рассказать, как все было на самом деле.
Так вот, Иммануил Валлерстайн интересен не только телегами про периферию и ядро, но и любопытными наблюдениями о значении антисистемных движений в геокультуре и повторении системных циклов. Объедините две идеи и получите интерпретацию Реформации как прямого структурного предшественника современных политик идентичностей. Действительно, конфессиональные противостояния в XVI веке пронизывали все стороны социальной жизни и формировали self каждого жителя европейского ядра. Мысль о том, что кто-то может взять, да и не соблюдать главные общинные ритуалы под руководством священника, а тем более торговать с иудеями или вступать в военные союзы с мусульманами, задевала очень многих за самое живое.
Если вам тяжело представить реалии этого мира, то можно просто в уме подставить вместе конфессии гендер, и вы поймете, почему все вокруг тогда так сильно напрягались из-за религиозных вопросов. Анна, например, вспомнила Генриха IV, который поставил Париж выше мессы, крайне раздражая не только почтенных католиков, но и многих радикальных гугенотов, которые так на него так надеялись. Короче говоря, Генрих был квиром за много веков до того, как стало мейнстримом! Также в процессе обсуждения нам еще удалось сравнить ЧВК «Вагнер» с королевскими каперами, а фирму «Боинг» – с корабельными верфями Амстердама. В общем, Георгий Матвеич нами бы точно остался доволен.
👍48👎2
Политическое
Все чаще обращаю внимание, как поменялся с начала войны российский оппозиционный дискурс. То, что раньше было в либеральной среде однозначно маргинальным, сегодня нормализуется и становится почти здравым смыслом. Про осторожное переосмысление колониального прошлого я уже упоминал, но теперь появляется и многое другое.
Во-первых, на глазах загибаются идеалы рыночного фундаментализма. Перестали пугать заморозка и даже перераспределение активов близких к путинскому режиму олигархов. Никого не смущает огромная финансовая помощь развивающейся стране по типу Плана Маршала от более богатых экономик ядра.
Во-вторых, оказывается, что не так уж и ужасен был поздний Советский Союз в смысле государственного управления. Конечно, цензура, автаркия и чекисты, но зато приличные дипломаты во внешней политике и даже если не сменяемая, то хотя бы ротируемая номенклатура! Да и энергетическую инфраструктуру-то какую отгрохали!
В-третьих, уже нет иллюзии, что удастся что-то поменять через выборы, а, значит, снова в положительном смысле заговорили про легитимность революции. Конечно, не по образцу Октябрьской (что, честно говоря, и слава богу!), но почему бы и не по модели Февральской?
Конечно, я не настолько наивен, чтоб ожидать серьезных изменений в политических программах либерального истеблишмента. Тем не менее, табу сняты, расширяются рамки публичного обсуждения. Все, кто фантазирует о серьезной левой партии, сейчас хотя бы получают возможность за что-то зацепиться в разговоре с людьми. Верю, когда-нибудь люди типа Виталия Боваря или Александра Замятина получат возможность представлять нас на федеральном уровне. Благо, что на муниципальном уровне опыт у них уже большой.
Все чаще обращаю внимание, как поменялся с начала войны российский оппозиционный дискурс. То, что раньше было в либеральной среде однозначно маргинальным, сегодня нормализуется и становится почти здравым смыслом. Про осторожное переосмысление колониального прошлого я уже упоминал, но теперь появляется и многое другое.
Во-первых, на глазах загибаются идеалы рыночного фундаментализма. Перестали пугать заморозка и даже перераспределение активов близких к путинскому режиму олигархов. Никого не смущает огромная финансовая помощь развивающейся стране по типу Плана Маршала от более богатых экономик ядра.
Во-вторых, оказывается, что не так уж и ужасен был поздний Советский Союз в смысле государственного управления. Конечно, цензура, автаркия и чекисты, но зато приличные дипломаты во внешней политике и даже если не сменяемая, то хотя бы ротируемая номенклатура! Да и энергетическую инфраструктуру-то какую отгрохали!
В-третьих, уже нет иллюзии, что удастся что-то поменять через выборы, а, значит, снова в положительном смысле заговорили про легитимность революции. Конечно, не по образцу Октябрьской (что, честно говоря, и слава богу!), но почему бы и не по модели Февральской?
Конечно, я не настолько наивен, чтоб ожидать серьезных изменений в политических программах либерального истеблишмента. Тем не менее, табу сняты, расширяются рамки публичного обсуждения. Все, кто фантазирует о серьезной левой партии, сейчас хотя бы получают возможность за что-то зацепиться в разговоре с людьми. Верю, когда-нибудь люди типа Виталия Боваря или Александра Замятина получат возможность представлять нас на федеральном уровне. Благо, что на муниципальном уровне опыт у них уже большой.
👍65👎5
Метафоры против хронотопов
С тех пор, как я перешел с исторического на социологический трек, меня часто посещала назойливая мысль о том, как сильно различается мышление в двух дисциплинах. В процессе работы над диссертацией про область SSSH, как раз примерно поровну разделенную между историками и социологами, мне представилась возможность выразить разницу более четко через сопоставление исследований практически про одни и те же объекты, но с совершенно разной их концептуализацией.
У социологов соцгум наук главный способ наметить проблему – это обозначить свой объект (группу ученых, идею, дисциплину, etc.) в качестве одной из абстрактных фигур мышления, коренных метафор общества. В общем виде это можно представить так: Y как X, где Y – это объект, а X – это фигура социального. Самыми простыми примерами могут служить «теория рационального выбора как интеллектуальное движение», «социология ЕС как поле культурного производства», «классический психоанализ как круг коллаборации» и т. п.
Часто приходится читать, что историки не любят теорию. Я недавно писал, что это не совсем так. Да, теории в социологическом смысле как стройной решетки фигур-метафор историки избегают, потому что это руинит их разделение труда, совпадающее с ментальными границами между географическими областями и временными эпохами. Историки думают по-другому.
Вместо коренных метафор у них, скорее, коренные метонимии: Y в контексте X. X здесь – уже не абстрактная концепция социального, а четкие и конкретные пространственно-временные рамки, в которые встраивается объект Y. Назовем все это вместе хронотопом. Получается так: «теория игр в контексте Холодной войны», «социология в контексте еврейской эмиграции в США», «югославские экономисты в контексте постсоциалистического транзита» и т. п. Решайте сами: есть здесь теория или нет. На мой взгляд – еще какая!
С тех пор, как я перешел с исторического на социологический трек, меня часто посещала назойливая мысль о том, как сильно различается мышление в двух дисциплинах. В процессе работы над диссертацией про область SSSH, как раз примерно поровну разделенную между историками и социологами, мне представилась возможность выразить разницу более четко через сопоставление исследований практически про одни и те же объекты, но с совершенно разной их концептуализацией.
У социологов соцгум наук главный способ наметить проблему – это обозначить свой объект (группу ученых, идею, дисциплину, etc.) в качестве одной из абстрактных фигур мышления, коренных метафор общества. В общем виде это можно представить так: Y как X, где Y – это объект, а X – это фигура социального. Самыми простыми примерами могут служить «теория рационального выбора как интеллектуальное движение», «социология ЕС как поле культурного производства», «классический психоанализ как круг коллаборации» и т. п.
Часто приходится читать, что историки не любят теорию. Я недавно писал, что это не совсем так. Да, теории в социологическом смысле как стройной решетки фигур-метафор историки избегают, потому что это руинит их разделение труда, совпадающее с ментальными границами между географическими областями и временными эпохами. Историки думают по-другому.
Вместо коренных метафор у них, скорее, коренные метонимии: Y в контексте X. X здесь – уже не абстрактная концепция социального, а четкие и конкретные пространственно-временные рамки, в которые встраивается объект Y. Назовем все это вместе хронотопом. Получается так: «теория игр в контексте Холодной войны», «социология в контексте еврейской эмиграции в США», «югославские экономисты в контексте постсоциалистического транзита» и т. п. Решайте сами: есть здесь теория или нет. На мой взгляд – еще какая!
👍52
Пока коллега Кисленко хайпует на «Медузе», я хочу поделиться его открытыми лекциями, где многие проблемы связи социальных наук и колониализма разворачиваются более объемно. BLM или DWM? Вот в чем вопрос! Я куда консервативнее Ивана в ответах, но такими классными оппонентами не разбрасываются.
👍20👎1
Forwarded from Emigration for action
Помимо нашей основной деятельности — помощи медикаментами украинским беженцам, мы проводим разные ивенты, в том числе академической направленности.
В прошлом месяце у нас состоялся цикл лекций «Колониальность, евроцентризм и академическая зависимость: производство контргегемонного знания в социологии».
Представляем вам последнюю лекцию из этого цикла.
Что такое «законы Джима Кроу» и какое они имеют отношение к расовой сегрегации?
Чем отличается Чикагская школа социологии от Атлантской?
Почему социолог не должен сидеть в «башне из слоновой кости»?
И как связаны фигура афроамериканского социолога Уильяма Дюбуа и протесты Black Lives Matter?
Всё это найдете в лекции Ивана Кисленко «Американская социология на перепутьи расово-(де) колониальных проблем».
Первое и второе видео цикла по ссылкам.
Поддержать проект
#видео
В прошлом месяце у нас состоялся цикл лекций «Колониальность, евроцентризм и академическая зависимость: производство контргегемонного знания в социологии».
Представляем вам последнюю лекцию из этого цикла.
Что такое «законы Джима Кроу» и какое они имеют отношение к расовой сегрегации?
Чем отличается Чикагская школа социологии от Атлантской?
Почему социолог не должен сидеть в «башне из слоновой кости»?
И как связаны фигура афроамериканского социолога Уильяма Дюбуа и протесты Black Lives Matter?
Всё это найдете в лекции Ивана Кисленко «Американская социология на перепутьи расово-(де) колониальных проблем».
Первое и второе видео цикла по ссылкам.
Поддержать проект
#видео
YouTube
Лекция. Американская социология на перепутьи расово-(де) колониальных проблем. Спикер: Иван Кисленко
Лекция посвящена вопросам систематического исключения темнокожих авторов из социологического канона, а также замалчиванию и стиранию их идей.
Это привело современных американских социологов к необходимости пересмотреть как свои взгляды на историю, так и…
Это привело современных американских социологов к необходимости пересмотреть как свои взгляды на историю, так и…
👍28
More than Meets the Eye
Недавно пришел к пониманию того, какой навык является важнейшим при изучении социологической теории. Даже не навык, а целая фундаментальная установка, которую хочется качать у себя и помогать достигать ее студентам. Установка эта – преодолевать потребительское отношение к литературе и читать то, что не нравится. Просто звучит, но практически достигается невероятно сложно.
Первая категория из этого разряда текстов – это те, которые прямо активно не нравятся. Например, политическими предпочтениями автора, противоположными вашим. Вот прям настолько не нравятся, что просто досаждают, бесят, отвращают. Тем не менее, необходимо подавить в себе чувство морального превосходства и разбираться в том, что все-таки написано. В конце может оказаться, что по ту сторону текста не вредный идиот, а такой же человек со своей позицией. Возможно, даже более близкий вам, чем казалось.
Другая категория – это тексты, которые неинтересны пассивно. Неинтересны своими банальными темами, высосаными из пальца проблемами, шаблонным письмом. Они требуют даже большей работы. Если к врагу есть хотя бы эмоциональное отношение, которое можно перенаправить в конструктивное русло, то к абсолютно несексуальному тексту нет вообще никакого драйва. Приходится искать способы снисхождения и искусственно разжигать искру. Зато в итоге вы можете увидеть ту или иную концепцию куда более сильной, чем вы считали до этого.
Мое предложение по развитию у себя такого навыка не является поводом уделять внимание каждому встречному фашизоиду или мелкобуржуазному автоэтнографу. Иногда предчувствия нас не подводят. Слабая теория и правда очень слабая. Но никогда нельзя быть уверенным, пока не возьмешь и не прочитаешь самостоятельно.
Недавно пришел к пониманию того, какой навык является важнейшим при изучении социологической теории. Даже не навык, а целая фундаментальная установка, которую хочется качать у себя и помогать достигать ее студентам. Установка эта – преодолевать потребительское отношение к литературе и читать то, что не нравится. Просто звучит, но практически достигается невероятно сложно.
Первая категория из этого разряда текстов – это те, которые прямо активно не нравятся. Например, политическими предпочтениями автора, противоположными вашим. Вот прям настолько не нравятся, что просто досаждают, бесят, отвращают. Тем не менее, необходимо подавить в себе чувство морального превосходства и разбираться в том, что все-таки написано. В конце может оказаться, что по ту сторону текста не вредный идиот, а такой же человек со своей позицией. Возможно, даже более близкий вам, чем казалось.
Другая категория – это тексты, которые неинтересны пассивно. Неинтересны своими банальными темами, высосаными из пальца проблемами, шаблонным письмом. Они требуют даже большей работы. Если к врагу есть хотя бы эмоциональное отношение, которое можно перенаправить в конструктивное русло, то к абсолютно несексуальному тексту нет вообще никакого драйва. Приходится искать способы снисхождения и искусственно разжигать искру. Зато в итоге вы можете увидеть ту или иную концепцию куда более сильной, чем вы считали до этого.
Мое предложение по развитию у себя такого навыка не является поводом уделять внимание каждому встречному фашизоиду или мелкобуржуазному автоэтнографу. Иногда предчувствия нас не подводят. Слабая теория и правда очень слабая. Но никогда нельзя быть уверенным, пока не возьмешь и не прочитаешь самостоятельно.
👍72
Долгая дорога к институтам
Яркой иллюстрацией к предыдущему посту в моем случае служат неоинституционалисты Джон Мейер, Пол ДиМаджио и др. Помню, когда я первый раз познакомился с ними еще в магистратуре на курсе Михаила Соколова, они казались максимально дурацкими и бессмысленными социологическими теоретиками из всех. Какие-то блаженные верующие в легитимность формальных организаций некоммерческого и международного секторов, думал я.
Сейчас я вижу в этих теоретиках куда большую ценность. Например, в их аргументе против рассмотрения социального института как только правил игры, регулирующего заранее данные предпочтения агентов. Т. е. как их обычно понимают экономисты. Институт для Мейера и ДиМаджио – нечто большее: это культурная модель. Она не регулирует, а конституирует предпочтения агентов. Например, без правил футбол не был бы просто более хаотичным и сумбурным. Его бы вообще не существовало. Запрет игры руками не только ограничивает читинг. Это вообще то, что превращает сумбурное пинание мяча в определенный вид спорта.
Другой точкой входа в социологическое воображение неоинституционалистов для меня стало их интеллектуальное родство со своим дюркгеймианским кузеном – Луманом. (Quel détour!) Все они развивали темы когнитивного конструктивизма, строительных блоков общества на мезоуровне и изоморфизма в мировом масштабе. Все это довольно редкие линии рассуждения о социальном, которые подавлены сегодня агентно- и ресурсно-центричным теориями, зацикленными в придачу еще и на национальных государствах.
В то же время Мейер и ДиМаджио разделяют политическое бессознательное Лумана. В обоих случаях им является эдакий центристский технократизм, которому в большей степени интересно соблюдение правил само по себе, чем благополучие групп агентов. Особенно подчиненных и угнетаемых. Думаю, в этом главная проблема неоинституционализма. С другой стороны, в контексте России толика технократического здравого смысла – это не нечто принципиально плохое. Наоборот, рассмотрение чего-то с точки зрения качества административного управления хотя бы на уровне публичного дискурса является хорошим противоядием и против непотизма правящей верхушки, и против наивного антиэтатизма многих фракций оппозиции. Так что буду почитывать всех этих ребят и дальше.
Яркой иллюстрацией к предыдущему посту в моем случае служат неоинституционалисты Джон Мейер, Пол ДиМаджио и др. Помню, когда я первый раз познакомился с ними еще в магистратуре на курсе Михаила Соколова, они казались максимально дурацкими и бессмысленными социологическими теоретиками из всех. Какие-то блаженные верующие в легитимность формальных организаций некоммерческого и международного секторов, думал я.
Сейчас я вижу в этих теоретиках куда большую ценность. Например, в их аргументе против рассмотрения социального института как только правил игры, регулирующего заранее данные предпочтения агентов. Т. е. как их обычно понимают экономисты. Институт для Мейера и ДиМаджио – нечто большее: это культурная модель. Она не регулирует, а конституирует предпочтения агентов. Например, без правил футбол не был бы просто более хаотичным и сумбурным. Его бы вообще не существовало. Запрет игры руками не только ограничивает читинг. Это вообще то, что превращает сумбурное пинание мяча в определенный вид спорта.
Другой точкой входа в социологическое воображение неоинституционалистов для меня стало их интеллектуальное родство со своим дюркгеймианским кузеном – Луманом. (Quel détour!) Все они развивали темы когнитивного конструктивизма, строительных блоков общества на мезоуровне и изоморфизма в мировом масштабе. Все это довольно редкие линии рассуждения о социальном, которые подавлены сегодня агентно- и ресурсно-центричным теориями, зацикленными в придачу еще и на национальных государствах.
В то же время Мейер и ДиМаджио разделяют политическое бессознательное Лумана. В обоих случаях им является эдакий центристский технократизм, которому в большей степени интересно соблюдение правил само по себе, чем благополучие групп агентов. Особенно подчиненных и угнетаемых. Думаю, в этом главная проблема неоинституционализма. С другой стороны, в контексте России толика технократического здравого смысла – это не нечто принципиально плохое. Наоборот, рассмотрение чего-то с точки зрения качества административного управления хотя бы на уровне публичного дискурса является хорошим противоядием и против непотизма правящей верхушки, и против наивного антиэтатизма многих фракций оппозиции. Так что буду почитывать всех этих ребят и дальше.
👍34
Трехцветный кардинал
История редко уделяет такое же внимание организаторам науки, как и заслуженным ученым. В случае соцгум дисциплин такое забвение выражено еще сильнее, так там куда больше зависимость от контингентных факторов попадания в канон. Питер Байер в Sociological Theory исследует интеллектуальную биографию Раймона Арона – одного из блестящих публичных спикеров и аппаратных воротил, который, однако, промахнулся мимо канонизации.
Арон, кузен Мосса, друг Сартра и участник Сопротивления, невероятно энергично принялся за воссоздание социологии в послевоенной Франции. Он выбивал деньги от своего правительства и американских частных фондов, переводил работы немецких коллег, написал двухтомный учебник по теории, входил в состав учредителей Archives européennes de sociologie и создателей Centre de sociologie européenne. Кстати говоря, в последнюю организацию он нанял молодого структуралистского этнографа Пьера Бурдье, который тогда не имел почти никакого опыта социологических исследований.
Самые разные проекты Арона объединяло одно сквозное видение. Он хотел дожить до возникновения в Европейском Союзе единых академических структур, которые должны были одновременно противостоять давлению Социалистического лагеря, помогать сдерживать национализмы Старой Европы и не допустить зависимости континента от США. Отсюда понятно, почему либеральной публицистике Арон уделял не меньше времени, чем академическому руководству.
Байер, открыто симпатизирующий своему герою, признает, что такое распыление таланта и стало основной причиной утраты интереса к наследию французского интеллектуала. Арон не оставил после себя ни систематической теории общества, ни больших эмпирических исследований. Сейчас его работы изучают, скорее, не на социологических факультетах, а на факультетах международных отношений. Тем не менее, частичка Арона есть в каждом, кто имеет отношение к европейским социальным наукам.
История редко уделяет такое же внимание организаторам науки, как и заслуженным ученым. В случае соцгум дисциплин такое забвение выражено еще сильнее, так там куда больше зависимость от контингентных факторов попадания в канон. Питер Байер в Sociological Theory исследует интеллектуальную биографию Раймона Арона – одного из блестящих публичных спикеров и аппаратных воротил, который, однако, промахнулся мимо канонизации.
Арон, кузен Мосса, друг Сартра и участник Сопротивления, невероятно энергично принялся за воссоздание социологии в послевоенной Франции. Он выбивал деньги от своего правительства и американских частных фондов, переводил работы немецких коллег, написал двухтомный учебник по теории, входил в состав учредителей Archives européennes de sociologie и создателей Centre de sociologie européenne. Кстати говоря, в последнюю организацию он нанял молодого структуралистского этнографа Пьера Бурдье, который тогда не имел почти никакого опыта социологических исследований.
Самые разные проекты Арона объединяло одно сквозное видение. Он хотел дожить до возникновения в Европейском Союзе единых академических структур, которые должны были одновременно противостоять давлению Социалистического лагеря, помогать сдерживать национализмы Старой Европы и не допустить зависимости континента от США. Отсюда понятно, почему либеральной публицистике Арон уделял не меньше времени, чем академическому руководству.
Байер, открыто симпатизирующий своему герою, признает, что такое распыление таланта и стало основной причиной утраты интереса к наследию французского интеллектуала. Арон не оставил после себя ни систематической теории общества, ни больших эмпирических исследований. Сейчас его работы изучают, скорее, не на социологических факультетах, а на факультетах международных отношений. Тем не менее, частичка Арона есть в каждом, кто имеет отношение к европейским социальным наукам.
👍36👎1
В следующем семестре мы с коллегой Машуковым планируем объединить усилия в новом авторском курсе. Подробности будут скоро. О старте набора вы сможете узнать в том числе из рассылки «Новой школы», так что четырьмя руками поддерживаем эту инициативу.
👍30
Forwarded from низгораев
📎Илья Матвеев об образовательной инициативе в области политических наук. И вновь, как в старые шанинские времена, обращение к регионалам:
Дорогие друзья,
Сейчас многие запустили образовательные онлайн-проекты, и мы тоже - Новую школу политических наук. Я считаю, что это один из немногих способов хоть немного рассеять опустившуюся на Россию тьму. Судя по результатам отбора в наш проект, велико желание не только учить, но и учиться. Однако имеющиеся каналы информации - соцсети, тг-каналы - дают довольно заметный перекос в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и заграницы. Очень хотелось бы расширить региональный охват.
Хочу предложить всем желающим, и особенно тем, кто может переслать анонс своим студентам или в какие-то чаты знакомых/коллег, а также тем, кто живет в России, но не в Москве и Питере, прислать мне на почту [email protected] ваш имейл - я внесу его в рассылку.
Обещаю не спамить и отправлять сообщения редко - в основном анонсы НШПН и других тщательно отобранных онлайн-курсов. Помогите связать преподавателей и их потенциальных слушателей!
Спасибо и очень прошу репоста.
Дорогие друзья,
Сейчас многие запустили образовательные онлайн-проекты, и мы тоже - Новую школу политических наук. Я считаю, что это один из немногих способов хоть немного рассеять опустившуюся на Россию тьму. Судя по результатам отбора в наш проект, велико желание не только учить, но и учиться. Однако имеющиеся каналы информации - соцсети, тг-каналы - дают довольно заметный перекос в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и заграницы. Очень хотелось бы расширить региональный охват.
Хочу предложить всем желающим, и особенно тем, кто может переслать анонс своим студентам или в какие-то чаты знакомых/коллег, а также тем, кто живет в России, но не в Москве и Питере, прислать мне на почту [email protected] ваш имейл - я внесу его в рассылку.
Обещаю не спамить и отправлять сообщения редко - в основном анонсы НШПН и других тщательно отобранных онлайн-курсов. Помогите связать преподавателей и их потенциальных слушателей!
Спасибо и очень прошу репоста.
👍30
Multi pertransibunt et augebitur scientia
Неделю назад подошли к концу наши онлайн-занятия по современной социологической теории. Общие итоги мы уже подвели в обеих рабочих группах, поэтому напишу здесь только то, что важно для меня лично.
Курс «Сети, системы, поля, миры» задумывался мною как способ окончательно сформулировать некоторые собственные идеи по организации учебного материала, которые нельзя было воплотить на официальной работе в университетах. Больше года я стеснялся проводить набор, и вот, наконец, решился. В итоге все предприятие стало для меня чем-то большим: местом, где минимум два раза в неделю можно отдохнуть от военных и репрессивных сводок. Рад еще, что, следуя моему примеру, некоторые коллеги тоже перестали стесняться и представили свои образовательные проекты публике: вот коллега Денисов продвигает философию стоицизма.
Грустно прощаться, но нужно. Думаю, что нам удалось остановиться в самый правильный момент. Еще пару недель, и у многих начали бы иссякать внимание и силы. А так последние пары о споре Лумана и Хабермаса прошли крайне энергично. В процессе преподавания еще раз понял, что у меня еще очень много пробелов в навыках модерирования обсуждений и комментирования письменных заданий. Надеюсь, что приобретенный опыт поможет мне улучшить эти faculties.
Я еще раз хочу сказать спасибо всем участникам! Особенно победителям конкурса мотивационных писем: Владу, Григорию, Дарье и Ксении. Никак не мог решить, из кого именно сформировать тройку, поэтому рискнул взять на борт всех четверых. Рад, что в итоге все проявили себя не как пассажиры, а как настоящие моряки в открытом океане теории. Уже этим курс удался.
Неделю назад подошли к концу наши онлайн-занятия по современной социологической теории. Общие итоги мы уже подвели в обеих рабочих группах, поэтому напишу здесь только то, что важно для меня лично.
Курс «Сети, системы, поля, миры» задумывался мною как способ окончательно сформулировать некоторые собственные идеи по организации учебного материала, которые нельзя было воплотить на официальной работе в университетах. Больше года я стеснялся проводить набор, и вот, наконец, решился. В итоге все предприятие стало для меня чем-то большим: местом, где минимум два раза в неделю можно отдохнуть от военных и репрессивных сводок. Рад еще, что, следуя моему примеру, некоторые коллеги тоже перестали стесняться и представили свои образовательные проекты публике: вот коллега Денисов продвигает философию стоицизма.
Грустно прощаться, но нужно. Думаю, что нам удалось остановиться в самый правильный момент. Еще пару недель, и у многих начали бы иссякать внимание и силы. А так последние пары о споре Лумана и Хабермаса прошли крайне энергично. В процессе преподавания еще раз понял, что у меня еще очень много пробелов в навыках модерирования обсуждений и комментирования письменных заданий. Надеюсь, что приобретенный опыт поможет мне улучшить эти faculties.
Я еще раз хочу сказать спасибо всем участникам! Особенно победителям конкурса мотивационных писем: Владу, Григорию, Дарье и Ксении. Никак не мог решить, из кого именно сформировать тройку, поэтому рискнул взять на борт всех четверых. Рад, что в итоге все проявили себя не как пассажиры, а как настоящие моряки в открытом океане теории. Уже этим курс удался.
👍63
Адепт Тилли в Сибири
В конце прошедшего месяца исполнилось пятнадцать лет блогу Understanding Society Дэниела Литтла – эпистемолога социальных наук из университета Мичигана. Кажется, я еще про это не писал, но именно этот ресурс является для меня главным образцом того, как надо писать о социологии и дружественных дисциплинах в интернетах. Хотя я с самого начала задал в известном смысле противоположную ему тематику (Литтл – сторонник агенто-центричных подходов в социальной теории), а потом отошел от лонгридов в пользу более лаконичных постов, без «Понимая общество» не было бы «Структуры».
Откопал я этот превосходный блог в свое время совершенно случайно. Гуглил всякую всячину, когда еще был студентом-историком, и вышел на большую серию интервью с ведущими историческими социологами, которые проводил Литтл. Среди них была и беседа с тогда уже умирающим от рака Чарльзом Тилли, который очень вдохновенно рассказывал о своей академической карьере. Я еще совсем плохо знал английский, поэтому перекодировал интервью в mp3 и переслушивал непонятные места на плеере по нескольку раз. Вот так заодно и язык подтянул.
За все эти годы, пока я слежу за блогом, мне, увы, так и не удалось преодолеть лень и зарегистрироваться на «Блогспоте». Наверное, надо бы это сделать, чтобы поблагодарить автора за то, что в свое время сделал непредвиденный вклад еще и в другое перекодирование: юного историка из далекой страны в социолога. Кстати, в посте в честь юбилея Литтл расстраивается, что у него практически нет читателей с постсоветского пространства. Хорошо бы это тоже исправить.
В конце прошедшего месяца исполнилось пятнадцать лет блогу Understanding Society Дэниела Литтла – эпистемолога социальных наук из университета Мичигана. Кажется, я еще про это не писал, но именно этот ресурс является для меня главным образцом того, как надо писать о социологии и дружественных дисциплинах в интернетах. Хотя я с самого начала задал в известном смысле противоположную ему тематику (Литтл – сторонник агенто-центричных подходов в социальной теории), а потом отошел от лонгридов в пользу более лаконичных постов, без «Понимая общество» не было бы «Структуры».
Откопал я этот превосходный блог в свое время совершенно случайно. Гуглил всякую всячину, когда еще был студентом-историком, и вышел на большую серию интервью с ведущими историческими социологами, которые проводил Литтл. Среди них была и беседа с тогда уже умирающим от рака Чарльзом Тилли, который очень вдохновенно рассказывал о своей академической карьере. Я еще совсем плохо знал английский, поэтому перекодировал интервью в mp3 и переслушивал непонятные места на плеере по нескольку раз. Вот так заодно и язык подтянул.
За все эти годы, пока я слежу за блогом, мне, увы, так и не удалось преодолеть лень и зарегистрироваться на «Блогспоте». Наверное, надо бы это сделать, чтобы поблагодарить автора за то, что в свое время сделал непредвиденный вклад еще и в другое перекодирование: юного историка из далекой страны в социолога. Кстати, в посте в честь юбилея Литтл расстраивается, что у него практически нет читателей с постсоветского пространства. Хорошо бы это тоже исправить.
👍60
Новый дух тоталитаризма?
Продолжаю тихо беситься, когда публицисты или даже заслуженные социальные ученые используют ярлыки фашизма или сталинизма для описания путинского режима. Нет, не потому, что я хочу кого-то оправдать, снизить градус происходящего и вообще зажмуриться от страха. Просто считаю аналитически слабой концептуализацию любого современного общества, даже китайского, как тоталитарного. Это не добавляет ни бита информации к тому, что известно о них на уровне отдельных фактов.
Да, РФ использует по инерции репрессивные меры из багажа позднего СССР, но по большому счету уже забила на институциональную промывку мозгов через партийные ячейки, психбольницы, школы, исправительные учреждения. Вместо этого выбрана стратегия управления через поддержание повсеместных прекаризации и рефьюджизации. Вместо пересоциализированного человека начали строить человека недосоциализированного, как выразился бы Грановеттер. Это все ключевые различия, и их стоит улавливать.
В таком случае, если говорить по-честному, необходимо и скрупулезно пересмотреть канон современной социологической теории. Если что-то и объединяет самых разных авторов от Парсонса до Латура – это нормативная критика монизма тоталитарных обществ и апология плюрализма западных демократий. Когда-то это имело большой смысл. Сегодня это противопоставление работает все хуже и хуже. Хорошо, давайте оставим термин, если вам так нравится, но тогда надо полностью пересобрать его содержание.
Конечно, я не могу сходу взять и сказать, что в теории стоит подкрутить, чтобы научиться по сути анализировать режимы путиных, эрдоганов и модь. Знал бы прикуп – жил бы в Беркли. Только лишь предлагаю в очередной раз подумать над политическим бессознательным языков описания. Иногда ведь лишний раз промолчать куда полезнее, чем высказать очередную банальность.
Продолжаю тихо беситься, когда публицисты или даже заслуженные социальные ученые используют ярлыки фашизма или сталинизма для описания путинского режима. Нет, не потому, что я хочу кого-то оправдать, снизить градус происходящего и вообще зажмуриться от страха. Просто считаю аналитически слабой концептуализацию любого современного общества, даже китайского, как тоталитарного. Это не добавляет ни бита информации к тому, что известно о них на уровне отдельных фактов.
Да, РФ использует по инерции репрессивные меры из багажа позднего СССР, но по большому счету уже забила на институциональную промывку мозгов через партийные ячейки, психбольницы, школы, исправительные учреждения. Вместо этого выбрана стратегия управления через поддержание повсеместных прекаризации и рефьюджизации. Вместо пересоциализированного человека начали строить человека недосоциализированного, как выразился бы Грановеттер. Это все ключевые различия, и их стоит улавливать.
В таком случае, если говорить по-честному, необходимо и скрупулезно пересмотреть канон современной социологической теории. Если что-то и объединяет самых разных авторов от Парсонса до Латура – это нормативная критика монизма тоталитарных обществ и апология плюрализма западных демократий. Когда-то это имело большой смысл. Сегодня это противопоставление работает все хуже и хуже. Хорошо, давайте оставим термин, если вам так нравится, но тогда надо полностью пересобрать его содержание.
Конечно, я не могу сходу взять и сказать, что в теории стоит подкрутить, чтобы научиться по сути анализировать режимы путиных, эрдоганов и модь. Знал бы прикуп – жил бы в Беркли. Только лишь предлагаю в очередной раз подумать над политическим бессознательным языков описания. Иногда ведь лишний раз промолчать куда полезнее, чем высказать очередную банальность.
👍98
Теряя чувство игры
Вчера по приглашению друзей из центра «Стазис» выступил с мини-докладом на философском аперитиве перед финалом Чемпионата мира. Ни в коинсидентологии, ни в Рене Жераре я, увы, не разбираюсь, поэтому решил начать, так сказать, с базы.
Первая часть доклада была про то, как футбол выглядит из перспективы социологии Пьера Бурдье, и наоборот, как ключевые концепции Бурдье (докса, символический капитал, практическое чувство, конверсия и конечно, само поле) можно очень быстро наглядно объяснить любому, кто хотя бы в общих чертах знаком с футболом.
Во второй части повернул к утопическому конструированию: как можно защитить автономию глобального поля футбола от вторжения американских инвесторов и арабских шейхов? Использовать практики регулирования как раз из американских лиг: демонетизацию трансферов, потолок зарплат, налог на роскошь, и, отдавая дань Артемию Магуну, предложить осуществить все это через Суперлигу здорового человека. Ту, которая должна появиться под эгидой сверхгосударства – обновленного Европейского Союза.
После обсуждений было круто посмотреть матч с коллегами на большом экране. В очередной раз грустно подметил, что с каждым новым турниром отхожу от главного своего детского увлечения все дальше и дальше. Остались лишь одни хайлайты на телефоне, PES и редкие походы в спорт-бар. Конечно, война сказывается. И много работы. Да и вообще повзрослел, если не сказать постарел.
Невозможно сравнить впечатления даже от такого объективно зрелищного матча с играми ЧЕ-2000 или ЧМ-2002, которые смотрел с дедом летом на даче еще на черно-белом телевизоре, а потом пытался разыграть моменты оттуда против больших пацанов из соседнего садоводческого товарищества. Правда, в анализе этих материй Бурдье начинает захлебываться, как атаки французов вчера в первом тайме. Нужна какая-то феноменология, в которой я, в отличие от коллег, уже не слишком силен.
Вчера по приглашению друзей из центра «Стазис» выступил с мини-докладом на философском аперитиве перед финалом Чемпионата мира. Ни в коинсидентологии, ни в Рене Жераре я, увы, не разбираюсь, поэтому решил начать, так сказать, с базы.
Первая часть доклада была про то, как футбол выглядит из перспективы социологии Пьера Бурдье, и наоборот, как ключевые концепции Бурдье (докса, символический капитал, практическое чувство, конверсия и конечно, само поле) можно очень быстро наглядно объяснить любому, кто хотя бы в общих чертах знаком с футболом.
Во второй части повернул к утопическому конструированию: как можно защитить автономию глобального поля футбола от вторжения американских инвесторов и арабских шейхов? Использовать практики регулирования как раз из американских лиг: демонетизацию трансферов, потолок зарплат, налог на роскошь, и, отдавая дань Артемию Магуну, предложить осуществить все это через Суперлигу здорового человека. Ту, которая должна появиться под эгидой сверхгосударства – обновленного Европейского Союза.
После обсуждений было круто посмотреть матч с коллегами на большом экране. В очередной раз грустно подметил, что с каждым новым турниром отхожу от главного своего детского увлечения все дальше и дальше. Остались лишь одни хайлайты на телефоне, PES и редкие походы в спорт-бар. Конечно, война сказывается. И много работы. Да и вообще повзрослел, если не сказать постарел.
Невозможно сравнить впечатления даже от такого объективно зрелищного матча с играми ЧЕ-2000 или ЧМ-2002, которые смотрел с дедом летом на даче еще на черно-белом телевизоре, а потом пытался разыграть моменты оттуда против больших пацанов из соседнего садоводческого товарищества. Правда, в анализе этих материй Бурдье начинает захлебываться, как атаки французов вчера в первом тайме. Нужна какая-то феноменология, в которой я, в отличие от коллег, уже не слишком силен.
👍52
SSSH-секция на конференции «Ковчега»
Помогаю организаторам большого январского мероприятия с отбором заявок на секцию «Исследования социальных и гуманитарных наук в условиях деинтернационализации: советские и постсоветские кейсы». Видимо, модерация тоже будет на на мне. Отличный повод побыстрее вернуться к работе после праздников и встретиться с коллегами.
Название секции про «советское» на сайте торчит старое. Сммщики, увы, пока так и не исправили. Так что отдельно поясню, что мы ждем не только исследователей советских соцгум наук, но и тех, кто занимается кем-то и чем-то ближе к нашему времени. Планируем дискуссию, критическую к академическим институтам и практикам не только до 1991 года, но и после. Дисциплинарно приветствуем самые разные доклады: от истории идей до количественной социологии.
Надеюсь, что секция будет очередным шажочком к формированию рассеянного по миру русскоязычного SSSH-сообщества. Дедлайн для участников продлили до 31 декабря, так что еще можно податься! Если вы хотите просто послушать, то будем рады. Но тогда тоже не забудьте зарегистрироваться заранее.
Помогаю организаторам большого январского мероприятия с отбором заявок на секцию «Исследования социальных и гуманитарных наук в условиях деинтернационализации: советские и постсоветские кейсы». Видимо, модерация тоже будет на на мне. Отличный повод побыстрее вернуться к работе после праздников и встретиться с коллегами.
Название секции про «советское» на сайте торчит старое. Сммщики, увы, пока так и не исправили. Так что отдельно поясню, что мы ждем не только исследователей советских соцгум наук, но и тех, кто занимается кем-то и чем-то ближе к нашему времени. Планируем дискуссию, критическую к академическим институтам и практикам не только до 1991 года, но и после. Дисциплинарно приветствуем самые разные доклады: от истории идей до количественной социологии.
Надеюсь, что секция будет очередным шажочком к формированию рассеянного по миру русскоязычного SSSH-сообщества. Дедлайн для участников продлили до 31 декабря, так что еще можно податься! Если вы хотите просто послушать, то будем рады. Но тогда тоже не забудьте зарегистрироваться заранее.
👍31👏2
Какое поле ты сегодня?
По доброй традиции беседовали с коллегой Абдулхаликовым за ночным чаем и вышли на вопрос, как можно концептуализировать социальное поле. Особенно такое запутанное, как правовое поле Дагестана. Пока обсуждали, я вспомнил как минимум три разных способа! Каждый со своим фокусом и своими слепыми пятнами.
Классическая версия Пьера Бурдье прежде всего разработана для анализа социального неравенства между агентами. Самое главное – это замерить, сколько у кого капиталов, и что эти капиталы собой представляют. Вот есть автохтонные патриархи, есть федеральные судьи, есть международные нкошники. Кто-то доминирует, кто-то подчиняется. Так и живем.
Неоинституционалисты в большей степени делают акцент на формальных организациях, а не на кластерах сходных индивидов. Кроме того, они куда более мирны и дружелюбны, чем ворчливый старик Бурдье. Им ближе механизмы консенсуса и интеграции, чем перманентная борьба классификаций. Допустим, правовая система в Северном Кавказе может работать не по тем канонам справедливости, как нам бы хотелось, но она все-таки работает. Люди ведут между собой тяжбы, вердикты выносятся, существует своя делопроизводственная рутина, с которой считаются даже элиты. Надо изучать и такое.
Наконец, политэкономия полей Нила Флигстина и Дага Макадама тоже про организации, но политические в самом широком смысле слова: от советов старейшин до активистских сетей. Для этой перспективы наиболее важно, как такие коллективные образования пытаются осознанно изменить поле в своих интересах. Из всех трех она наиболее внимательна к агентности и изменениям. Кажется, что еще и к любому российскому материалу она подходит лучше остальных, но тут надо быть предельно аккуратным. Теория нужна для постановки проблемы, а не для того, чтобы ее заранее решить.
По доброй традиции беседовали с коллегой Абдулхаликовым за ночным чаем и вышли на вопрос, как можно концептуализировать социальное поле. Особенно такое запутанное, как правовое поле Дагестана. Пока обсуждали, я вспомнил как минимум три разных способа! Каждый со своим фокусом и своими слепыми пятнами.
Классическая версия Пьера Бурдье прежде всего разработана для анализа социального неравенства между агентами. Самое главное – это замерить, сколько у кого капиталов, и что эти капиталы собой представляют. Вот есть автохтонные патриархи, есть федеральные судьи, есть международные нкошники. Кто-то доминирует, кто-то подчиняется. Так и живем.
Неоинституционалисты в большей степени делают акцент на формальных организациях, а не на кластерах сходных индивидов. Кроме того, они куда более мирны и дружелюбны, чем ворчливый старик Бурдье. Им ближе механизмы консенсуса и интеграции, чем перманентная борьба классификаций. Допустим, правовая система в Северном Кавказе может работать не по тем канонам справедливости, как нам бы хотелось, но она все-таки работает. Люди ведут между собой тяжбы, вердикты выносятся, существует своя делопроизводственная рутина, с которой считаются даже элиты. Надо изучать и такое.
Наконец, политэкономия полей Нила Флигстина и Дага Макадама тоже про организации, но политические в самом широком смысле слова: от советов старейшин до активистских сетей. Для этой перспективы наиболее важно, как такие коллективные образования пытаются осознанно изменить поле в своих интересах. Из всех трех она наиболее внимательна к агентности и изменениям. Кажется, что еще и к любому российскому материалу она подходит лучше остальных, но тут надо быть предельно аккуратным. Теория нужна для постановки проблемы, а не для того, чтобы ее заранее решить.
👍47👏1
Долгий 2022 год
Очень сложно искать нужные слова для описания личного пути за год, в котором правящий класс твоей страны с еще большим размахом продолжил геополитическую авантюру по убийству и превращению в беженцев граждан страны соседней. Несмотря на все это, жанр «что я пережил, что я понял в науке» кажется мне в этот момент особенно важным. Попробую вопреки всему найти слова.
Наверное, это первый год за время моих скитаний по академии, когда в голове не случилось никаких радикальных сдвигов и озарений. Пожалуй, я считаю это своим главным достижением, потому что дико устал кидаться из стороны в сторону. Наконец-то и у меня появились основательные научные интересы, которые хочется разрабатывать дальше и глубже, а не кочевать на очередное место. Был, конечно, краткий период весной, когда вообще хотелось все бросить и исчезнуть, но, к счастью, его удалось зажрать ламотриджином и затягать штангой.
Продолжил открывать и систематизировать для себя исследования социальных и гуманитарных наук – нишевую область, которая мало кому интересна даже среди самих социальных и гуманитарных ученых. Это косвенно подтверждает относительно небольшое количество лайков и комментов под постами на релевантные темы. Тем не менее, наблюдение наблюдателей я считаю важнейшим для себя делом, так что простите, кому скучно про это читать. Это никуда с канала не денется, а даже будет представлено подробнее в самом скором времени.
Также окончательно закрепился в роли социологического теоретика, чего раньше как-то стеснялся, если не сказать побаивался. Теперь даже чувствую какую-то ответственность за труды Бурдье и Хабермаса. Несправедливо мало они представлены в русскоязычном интеллектуальном пространстве. Несправедливо мало вообще представлен критический и рационалистический социологизм. Fine. I'll do it myself. Собственных шибко оригинальных мыслей по поводу архитектуры разных социальных сфер пока, увы, не так много, но кое-что и тут продолжило накапливаться.
Текущий год начался совсем не тогда, когда он формально стартовал по календарю. С биением курантов он тоже не закончится. Видимо, нас ждет долгий 2022 по аналогии с долгими XVI и XIX веками у историков. Так что давайте наберемся храбрости, будем перечитывать классиков, на долю которых пришлось еще больше испытаний, и постараемся конструировать справедливое общество хотя бы на том небольшом участке, который каждому из нас отведен.
Очень сложно искать нужные слова для описания личного пути за год, в котором правящий класс твоей страны с еще большим размахом продолжил геополитическую авантюру по убийству и превращению в беженцев граждан страны соседней. Несмотря на все это, жанр «что я пережил, что я понял в науке» кажется мне в этот момент особенно важным. Попробую вопреки всему найти слова.
Наверное, это первый год за время моих скитаний по академии, когда в голове не случилось никаких радикальных сдвигов и озарений. Пожалуй, я считаю это своим главным достижением, потому что дико устал кидаться из стороны в сторону. Наконец-то и у меня появились основательные научные интересы, которые хочется разрабатывать дальше и глубже, а не кочевать на очередное место. Был, конечно, краткий период весной, когда вообще хотелось все бросить и исчезнуть, но, к счастью, его удалось зажрать ламотриджином и затягать штангой.
Продолжил открывать и систематизировать для себя исследования социальных и гуманитарных наук – нишевую область, которая мало кому интересна даже среди самих социальных и гуманитарных ученых. Это косвенно подтверждает относительно небольшое количество лайков и комментов под постами на релевантные темы. Тем не менее, наблюдение наблюдателей я считаю важнейшим для себя делом, так что простите, кому скучно про это читать. Это никуда с канала не денется, а даже будет представлено подробнее в самом скором времени.
Также окончательно закрепился в роли социологического теоретика, чего раньше как-то стеснялся, если не сказать побаивался. Теперь даже чувствую какую-то ответственность за труды Бурдье и Хабермаса. Несправедливо мало они представлены в русскоязычном интеллектуальном пространстве. Несправедливо мало вообще представлен критический и рационалистический социологизм. Fine. I'll do it myself. Собственных шибко оригинальных мыслей по поводу архитектуры разных социальных сфер пока, увы, не так много, но кое-что и тут продолжило накапливаться.
Текущий год начался совсем не тогда, когда он формально стартовал по календарю. С биением курантов он тоже не закончится. Видимо, нас ждет долгий 2022 по аналогии с долгими XVI и XIX веками у историков. Так что давайте наберемся храбрости, будем перечитывать классиков, на долю которых пришлось еще больше испытаний, и постараемся конструировать справедливое общество хотя бы на том небольшом участке, который каждому из нас отведен.
👍135👏1🤝1
Социальная мобильность, ахаха, прекрати
Так-так, пора выводить канал из лиминального оцепенения. Честно сказать, я уже больше двух недель не брал в руки никаких академических текстов и почти не разговаривал ни с кем на соответствующие темы. Получился почти полный социологический детокс. Это не было сознательным планом. Просто на то были веские причины.
Во-первых, теперь я официально муж легендарной Лихининой! Для этого потребовалось с высокой температурой долететь до Новосибирска, простоять там на регистрации в ЗАГСе и еще просидеть с родственниками за праздничным столом. Тяжеловато было проходить все эти ритуалы на гриппозном фоне, но достижение высочайшего социального статуса мотивировало меня на всех этапах.
Во-вторых, после свадьбы я решил пока не возвращаться домой, а совершить неопределенный по времени вояж к друзьям и коллегам по ближнему зарубежью. Сейчас я в Алматы, на днях перемещаюсь в Ереван, а чуть позже, вероятно, объявлюсь и в других столицах российской эмиграции. Уже очень скучаю по любимой Петроградке. Хотелось бы туда вернуться, но пока не знаю точно, когда это удастся сделать.
Несколько месяцев назад у меня внезапно появилось несколько идей по поводу небольшого ребрендинга канала, но тогда решил отложить их. Сейчас понимаю, что поступил правильно. Пусть хотя бы зеленая аватарка продолжает связывать самые разные события в единую структуру.
Так-так, пора выводить канал из лиминального оцепенения. Честно сказать, я уже больше двух недель не брал в руки никаких академических текстов и почти не разговаривал ни с кем на соответствующие темы. Получился почти полный социологический детокс. Это не было сознательным планом. Просто на то были веские причины.
Во-первых, теперь я официально муж легендарной Лихининой! Для этого потребовалось с высокой температурой долететь до Новосибирска, простоять там на регистрации в ЗАГСе и еще просидеть с родственниками за праздничным столом. Тяжеловато было проходить все эти ритуалы на гриппозном фоне, но достижение высочайшего социального статуса мотивировало меня на всех этапах.
Во-вторых, после свадьбы я решил пока не возвращаться домой, а совершить неопределенный по времени вояж к друзьям и коллегам по ближнему зарубежью. Сейчас я в Алматы, на днях перемещаюсь в Ереван, а чуть позже, вероятно, объявлюсь и в других столицах российской эмиграции. Уже очень скучаю по любимой Петроградке. Хотелось бы туда вернуться, но пока не знаю точно, когда это удастся сделать.
Несколько месяцев назад у меня внезапно появилось несколько идей по поводу небольшого ребрендинга канала, но тогда решил отложить их. Сейчас понимаю, что поступил правильно. Пусть хотя бы зеленая аватарка продолжает связывать самые разные события в единую структуру.
👍99👏18👎1🖕1
Темная сторона локализации
Анонимные самаритяне выложили в открытый доступ «Фашистов» Майкла Манна. Таким образом, на русском языке наконец-то доступны обе части дилогии британского социолога про этнополитическое насилие в XX веке («Темная сторона демократии» торчит в сети уже довольно давно). Не буду выдумывать банальности про актуальность работ – тут и так все понятно.
Кого-то может смутить, что переводами книг занимался фонд под руководством пропутинского публициста и апологета сталинской политики в странах Восточной Европы Александра Дюкова. К сожалению, это общий момент для русскоязычных изданий исторических социологов, левую позицию которых очень удобно инструментализировать для нужд антизападной риторики.
Я думаю, на эти обстоятельства локализации обязательно стоит обращать внимание, но вместе с тем не отбрасывать книги Манна или того же Валлерстайна в сторону, а брать ситуацию вокруг перевода, что называется, в скобки. Те, кому действительно интересна социологическая составляющая, прочитают книги не по диагонали в поисках аргументов от вотэбаутизма, а погрузятся в традицию споров об противоречиях обществ Модерна. Те же, кому рукопожатность издателей важнее всего остального, просто очень многое потеряют.
Анонимные самаритяне выложили в открытый доступ «Фашистов» Майкла Манна. Таким образом, на русском языке наконец-то доступны обе части дилогии британского социолога про этнополитическое насилие в XX веке («Темная сторона демократии» торчит в сети уже довольно давно). Не буду выдумывать банальности про актуальность работ – тут и так все понятно.
Кого-то может смутить, что переводами книг занимался фонд под руководством пропутинского публициста и апологета сталинской политики в странах Восточной Европы Александра Дюкова. К сожалению, это общий момент для русскоязычных изданий исторических социологов, левую позицию которых очень удобно инструментализировать для нужд антизападной риторики.
Я думаю, на эти обстоятельства локализации обязательно стоит обращать внимание, но вместе с тем не отбрасывать книги Манна или того же Валлерстайна в сторону, а брать ситуацию вокруг перевода, что называется, в скобки. Те, кому действительно интересна социологическая составляющая, прочитают книги не по диагонали в поисках аргументов от вотэбаутизма, а погрузятся в традицию споров об противоречиях обществ Модерна. Те же, кому рукопожатность издателей важнее всего остального, просто очень многое потеряют.
👍62👏2👎1
Ой, у нас на секции про социально-гуманитарное знание прям особенно топовейший состав получилось собрать. Рады будем каверзным вопросам и критическим замечаниям от слушателей. Регистрируйтесь обязательно! До встречи!
👍18👌2🖕1