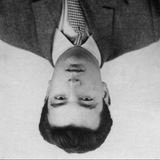Диалектика и структурализм
На волне интереса к Гегелю решил прочитать серию статей Артемия Магуна, посвященных диалектике, которые наконец-то открыли из-за пейволла. Чисто для справки: Артемия я считаю одним из своих главных учителей. Социологической теорией я наверняка заинтересовался бы и без него, но вот до поиска ее истоков в немецком идеализме и континентальном рационализме я вряд ли бы дошел самостоятельно. Плюс, мне кажется, именно благодаря Артемию я стал серьезно относиться к советской гуманитарной мысли. Просто вместо условных Поршнева или Ильенкова я в итоге пришел к важности Симонии, Примакова, Мирского и всех остальных.
Пересказывать статьи я подробно не буду. Прочитайте их самостоятельно – они этого заслуживают. Скажу только, что цикл построен как спор с различными философскими школами, которые пытались объявить диалектику несостоятельным методом мышления. Артем одна за одной показывает, что их критика не особо работает. Забавно, что в самом конце он тизерит диалектическую критику структурализма, но статьи с таким названием на сайте «Republic» нет. Либо она удалена, либо вообще не написана.
Для меня такое упущение слона в комнате в любом случае крайне симптоматично. Из статей я, собственно, так и не понял, чем диалектика существенно превосходит разные версии структурализма. Та же логика строительства научной системы через утверждение, потом поиск отрицания, потом попытка медиации и т. п. Все-таки Бурдье был прав: иногда полезно осознавать, что философы постоянно пытаются выдать вам идеи Зиммеля за идеи Адорно, а идеи Леви-Стросса – за идеи Деррида. Почему? Потому что так шикарнее!
Итак, два вывода, которые немного подлечили мое текущее пограничное расстройство дисциплинарности. Во-первых, я не диалектик. Во-вторых, я не философ. Хотя, возможно, Артемий как каждый хороший преподаватель и добивался, чтобы его ученик отрицал магунизм, на самом деле его еще больше утверждая. Интересно, коллега Мерзенина недавно пришла к какому-то похожему выводу.
I am not your blowing wind
I am the lightning
I am not your autumn moon
I am the night
The night
На волне интереса к Гегелю решил прочитать серию статей Артемия Магуна, посвященных диалектике, которые наконец-то открыли из-за пейволла. Чисто для справки: Артемия я считаю одним из своих главных учителей. Социологической теорией я наверняка заинтересовался бы и без него, но вот до поиска ее истоков в немецком идеализме и континентальном рационализме я вряд ли бы дошел самостоятельно. Плюс, мне кажется, именно благодаря Артемию я стал серьезно относиться к советской гуманитарной мысли. Просто вместо условных Поршнева или Ильенкова я в итоге пришел к важности Симонии, Примакова, Мирского и всех остальных.
Пересказывать статьи я подробно не буду. Прочитайте их самостоятельно – они этого заслуживают. Скажу только, что цикл построен как спор с различными философскими школами, которые пытались объявить диалектику несостоятельным методом мышления. Артем одна за одной показывает, что их критика не особо работает. Забавно, что в самом конце он тизерит диалектическую критику структурализма, но статьи с таким названием на сайте «Republic» нет. Либо она удалена, либо вообще не написана.
Для меня такое упущение слона в комнате в любом случае крайне симптоматично. Из статей я, собственно, так и не понял, чем диалектика существенно превосходит разные версии структурализма. Та же логика строительства научной системы через утверждение, потом поиск отрицания, потом попытка медиации и т. п. Все-таки Бурдье был прав: иногда полезно осознавать, что философы постоянно пытаются выдать вам идеи Зиммеля за идеи Адорно, а идеи Леви-Стросса – за идеи Деррида. Почему? Потому что так шикарнее!
Итак, два вывода, которые немного подлечили мое текущее пограничное расстройство дисциплинарности. Во-первых, я не диалектик. Во-вторых, я не философ. Хотя, возможно, Артемий как каждый хороший преподаватель и добивался, чтобы его ученик отрицал магунизм, на самом деле его еще больше утверждая. Интересно, коллега Мерзенина недавно пришла к какому-то похожему выводу.
I am not your blowing wind
I am the lightning
I am not your autumn moon
I am the night
The night
👍33
Структура наносит ответный удар pinned «Завтра в 21 по МСК обсудим тонкости преподавания гуманитарных наук в самых разных современных форматах: от школьных спецкурсов до онлайн-площадок. На этот раз на огонек к нам заглянет философ, писатель и учитель обществознания Артем Серебряков! Подписывайтесь…»
Подождите-подождите, что же это получается? Георг Зиммель вдохновил и Франкфуртскую школу (Беньямин, Адорно), и Вторую Чикагскую школу (Гоффман, Беккер), и теорию социальных сетей (Берт, Уайт)? Если так, то мне даже сложно назвать какого другого деятеля культуры, чьи последователи были настолько непохожи друг на друга. Допустим, кого можно считать Зиммелем в рок-музыке? The Velvet Underground?
👏36✍11👍6👌1🖕1
Гроздья раздора, часть первая
Начал читать новую монографию Джереми Фридмана «Созреть для революции». Прочитал пока малую часть книги, но уже супер впечатлен сравнительным подходом автора к разным радикальным режимам в послевоенном Третьем мире. Фридман извиняется, что сам знает только шесть языков, поэтому с источниками на фарси и сербском ему помогали ассистенты. Самый мощный флекс, который я видел от историка в последнее время.
Также мне нравится его спокойный пафос говорить от лица фактов без каких-то больших априорных концепций политического процесса. На практике это означает гуманизировать участников революций в постколониальном мире там, где их демонизирует американская историография, однако не покупать оправдания их симпатизантов, если после революции что-то явно идет не так.
Скажем, стандартная антиимпериалистическая интерпретация прихода Пиночета к власти в Чили в 1973 году состоит из пересказа вмешательства американских спецслужб, экспертов и корпораций, что, конечно, чистая правда. Однако Фридман рассказывает неудобную часть истории, при которой большое количество более радикальных по сравнению с Альенде активистов из МИР и крайнего крыла СПЧ считали его подход к экономическому планированию слишком умеренным, сознательно торпедировали его парламентскую стратегию и с азартом ждали попытки военного переворота справа как момента возможной настоящей революции. Скажем, собственный альендовский министр образования Мигель Энрикес Эспиноса публично примерял на себя роль диктатора, который разгонит всю мелкобуржуазную парламентскую говорильню с помощью вооруженных повстанцев.
Конечно, ничего из этого не получилось. После того как военные разделались с Альенде, они сразу же принялись за его критиков. Пожалуй, самое циничное в истории то, что Мао, долгое время подстрекавший своих чилийских товарищей активно бороться с ревизионизмом, чуть ли не в это же самое время принимал у себя Никсона и торговался с ним о своем месте в Совете Безопасности ООН. После самого переворота великий кормчий с покер-фейсом признал власть Пиночета, чтобы продолжать с ним стратегическую торговлю медью. Собственно, и Пиночет тоже был не против коммунистов, если те платят ему и его друзьям в валюте.
Начал читать новую монографию Джереми Фридмана «Созреть для революции». Прочитал пока малую часть книги, но уже супер впечатлен сравнительным подходом автора к разным радикальным режимам в послевоенном Третьем мире. Фридман извиняется, что сам знает только шесть языков, поэтому с источниками на фарси и сербском ему помогали ассистенты. Самый мощный флекс, который я видел от историка в последнее время.
Также мне нравится его спокойный пафос говорить от лица фактов без каких-то больших априорных концепций политического процесса. На практике это означает гуманизировать участников революций в постколониальном мире там, где их демонизирует американская историография, однако не покупать оправдания их симпатизантов, если после революции что-то явно идет не так.
Скажем, стандартная антиимпериалистическая интерпретация прихода Пиночета к власти в Чили в 1973 году состоит из пересказа вмешательства американских спецслужб, экспертов и корпораций, что, конечно, чистая правда. Однако Фридман рассказывает неудобную часть истории, при которой большое количество более радикальных по сравнению с Альенде активистов из МИР и крайнего крыла СПЧ считали его подход к экономическому планированию слишком умеренным, сознательно торпедировали его парламентскую стратегию и с азартом ждали попытки военного переворота справа как момента возможной настоящей революции. Скажем, собственный альендовский министр образования Мигель Энрикес Эспиноса публично примерял на себя роль диктатора, который разгонит всю мелкобуржуазную парламентскую говорильню с помощью вооруженных повстанцев.
Конечно, ничего из этого не получилось. После того как военные разделались с Альенде, они сразу же принялись за его критиков. Пожалуй, самое циничное в истории то, что Мао, долгое время подстрекавший своих чилийских товарищей активно бороться с ревизионизмом, чуть ли не в это же самое время принимал у себя Никсона и торговался с ним о своем месте в Совете Безопасности ООН. После самого переворота великий кормчий с покер-фейсом признал власть Пиночета, чтобы продолжать с ним стратегическую торговлю медью. Собственно, и Пиночет тоже был не против коммунистов, если те платят ему и его друзьям в валюте.
👍41✍7👏5🙏2👎1👌1
Против короля демократии
Начну с того, что я ни в коем случае не хейтер Александра Замятина, а, напротив, почти фанат. Следил за его работой муниципальным депутатом, за различными московскими политическими кампаниями с его участием еще с тех древних времен, когда был молоденьким новосибирским активистом. Хорошо, если бы таких политиков в России было больше! Однако когда Александр начинает писать не про политику, а про социальные науки, мое восхищение мгновенно пропадает. Хотя он говорил, что шарит в этой теме. Так как Александр отказался отвечать на мою критику под своим постом про «евгенику» демографии, назвав меня «троллем», я просто размещу ее тут.
Во-первых, если приглядеться, та или иная доля объективации содержится буквально в любых социальных практиках. Наука не является чем-то исключительным. Врач объективирует пациента, назначая ему химиотерапию. Юрист объективирует подзащитного, собирая свидетельства в его пользу. Даже Андрей Платонов объективирует своих персонажей, а с ними и советских граждан, описывая их в натуралистических подробностях. Возможно, мысль о том, что мы все совершаем немного «дегуманизации», чтобы выполнять элементарные профессиональные, семейные, гражданские и другие обязанности, покажется отвратительной четырнадцатилетнему подростку, впервые открывшему экзистенциалистский роман. Если это вас до сих пор шокирует, возьмите первый том «Истории сексуальности» Фуко и прочитайте, что это принудительную субъективацию гораздо сложнее заметить и разоблачить, а не объективацию.
Во-вторых, квантифицирующие процедуры в демографии, эконометрике и любых других социально-научных дискурсах как очень специальные формы объективации нужны отнюдь не только «господам», чтобы управлять «рабами». Полезно знать, сколько детей рождается, чтобы построить нужное количество детских садов; какие доходы и какие расходы у граждан государства, чтобы все они платили налоги, а не прятали их в офшорах; сколько людей погибло на войне, а сколько эмигрировало, чтобы… Да даже нет конкретной причины, чтобы это знать. Просто надо. Если Александр хочет избавиться прям ото всех форм объективных экономико-демографических знаний, он должен быть готов избавиться и от такой мелочи, как социальное государство. Имеет право на мнение! Но лично мне объективирующие государственники типа Зорана Мамдани ближе, чем хавьеры милеи и прочие мамкины либертарианцы. А вам?
В-третьих, Александр очевидно противопоставляет якобы коррумпированные и автократические социальные науки свободолюбивой политической теории. Настоящий политический теоретик-де разоблачает все рабские иллюзии, даруя подлинную субъектность демосу! Просто Сатана по Мильтону! Увы, подобная романтическая позиция имеет с демократией, как бы мы ту ни понимали, очень мало общего. Скорее, это очередной вариант резонирующего короля-философа, просто замаскированного под народного трибуна. При любой демократической делиберации – даже самой радикальной – социальным ученым ничего не будет стоить доказать обществу, что их экспертиза по сбору данных и их концептуализации имеет непреходящее значение. Но вот сможет ли король-философ, пытающийся проталкивать повестку Шмитта и Хайдеггера в публичное обсуждение, проделать то же самое? Я бы на его месте не был бы так уверен.
Начну с того, что я ни в коем случае не хейтер Александра Замятина, а, напротив, почти фанат. Следил за его работой муниципальным депутатом, за различными московскими политическими кампаниями с его участием еще с тех древних времен, когда был молоденьким новосибирским активистом. Хорошо, если бы таких политиков в России было больше! Однако когда Александр начинает писать не про политику, а про социальные науки, мое восхищение мгновенно пропадает. Хотя он говорил, что шарит в этой теме. Так как Александр отказался отвечать на мою критику под своим постом про «евгенику» демографии, назвав меня «троллем», я просто размещу ее тут.
Во-первых, если приглядеться, та или иная доля объективации содержится буквально в любых социальных практиках. Наука не является чем-то исключительным. Врач объективирует пациента, назначая ему химиотерапию. Юрист объективирует подзащитного, собирая свидетельства в его пользу. Даже Андрей Платонов объективирует своих персонажей, а с ними и советских граждан, описывая их в натуралистических подробностях. Возможно, мысль о том, что мы все совершаем немного «дегуманизации», чтобы выполнять элементарные профессиональные, семейные, гражданские и другие обязанности, покажется отвратительной четырнадцатилетнему подростку, впервые открывшему экзистенциалистский роман. Если это вас до сих пор шокирует, возьмите первый том «Истории сексуальности» Фуко и прочитайте, что это принудительную субъективацию гораздо сложнее заметить и разоблачить, а не объективацию.
Во-вторых, квантифицирующие процедуры в демографии, эконометрике и любых других социально-научных дискурсах как очень специальные формы объективации нужны отнюдь не только «господам», чтобы управлять «рабами». Полезно знать, сколько детей рождается, чтобы построить нужное количество детских садов; какие доходы и какие расходы у граждан государства, чтобы все они платили налоги, а не прятали их в офшорах; сколько людей погибло на войне, а сколько эмигрировало, чтобы… Да даже нет конкретной причины, чтобы это знать. Просто надо. Если Александр хочет избавиться прям ото всех форм объективных экономико-демографических знаний, он должен быть готов избавиться и от такой мелочи, как социальное государство. Имеет право на мнение! Но лично мне объективирующие государственники типа Зорана Мамдани ближе, чем хавьеры милеи и прочие мамкины либертарианцы. А вам?
В-третьих, Александр очевидно противопоставляет якобы коррумпированные и автократические социальные науки свободолюбивой политической теории. Настоящий политический теоретик-де разоблачает все рабские иллюзии, даруя подлинную субъектность демосу! Просто Сатана по Мильтону! Увы, подобная романтическая позиция имеет с демократией, как бы мы ту ни понимали, очень мало общего. Скорее, это очередной вариант резонирующего короля-философа, просто замаскированного под народного трибуна. При любой демократической делиберации – даже самой радикальной – социальным ученым ничего не будет стоить доказать обществу, что их экспертиза по сбору данных и их концептуализации имеет непреходящее значение. Но вот сможет ли король-философ, пытающийся проталкивать повестку Шмитта и Хайдеггера в публичное обсуждение, проделать то же самое? Я бы на его месте не был бы так уверен.
👍51👏13🤝12👎7🖕3✍2🙏1
Эндрю Эбботт – это такой американский Фуко. Во-первых, у обоих есть как минимум две разных программы социологии знания. С фракталами и экологиями у Эбботта, с эпистемами и диспозитивами у Фуко. Во-вторых, если первая программа у обоих крайне интерналистская (изучать надо структуру идей саму по себе), то вторая – напротив, экстерналистская (изучать надо внешние влияния). Следовательно, непонятно, дополняют ли они друга или взаимно исключают? Так как оба не парились по поводу своих множественных исследовательских идентичностей, то разбираться с этим придется нам.
👍30👌4👎1
Гроздья раздора, часть вторая
Если в Чили 1973 года христианские демократы, социалисты и коммунисты никак не могли выстроить сотрудничество из-за взаимного недоверия, то в Иране 1978 года удалось кратковременно помирить друг с другом даже более разношерстную коалицию. Все за счет невероятно низкой популярности шаха Мохаммеда Реза Пехлеви среди самых разных страт сложно устроенного иранского общества. Практически все считали его нефтяным олигархом и марионеткой США. Однако, когда режим шаха пал в результате целого года протестов, перехода даже к подобию демократии не случилось.
Во многом потому, что все ключевые участники недооценили популярность исламистов и волю к абсолютной власти их лидера Хомейни. Получилось как в той избитой притче. Когда Хомейни пришел за либералами из временного правительства, коммунисты и исламские социалисты не вступились за них, считая и их инструментами западного влияния. Когда начались массированные репрессии против социалистов из Моджахедин-э Халк, коммунисты пожали плечами, потому что им не нужны были серьезные конкуренты на левом фланге.
Несмотря на различия в динамике политического процесса в Чили и Иране, одна черта, по мнению Фридмана, роднит кейсы двух стран: неудачное вмешательство социалистической сверхдержавы на стороне революции. Только в этом случае не Китая, а СССР. Советские советники шептали первому секретарю коммунистической партии Туде Нуреддину Киянури, что сторонники Хомейни – всего лишь отсталые мелкобуржуазные элементы из деревни. С ними можно вступить в тактический союз, но, когда их правление неминуемо зайдет в тупик, власть сама упадет коммунистам в руки. Однако в 1982 году Хомейни не стал дожидаться такой возможности и арестовал всю верхушку коммунистов за якобы шпионаж в пользу СССР, а позже просто перехватил часть их экономической программы. Киянури хотел стать иранским Лениным, но повторил судьбу Марии Спиридоновой.
Как я написал в первом посте, Фридман – не исторический социолог, а традиционный политический историк. Он сравнивает случаи революций в Третьем мире не для того, чтобы извлечь общее, а для того, чтобы подчеркнуть частное. Тем не менее, один универсальный тезис из его исследования все же вытекает – революции всегда транснациональный феномен. Экономические и социальные тренды, толкающие людей на восстание, по меньшей мере региональны, а иногда и глобальны. Социальные движения всегда имеют международные черты. Вмешательство сильных государств может решить исход революции. Вроде банальности. Однако повторить их не будет лишним.
Если в Чили 1973 года христианские демократы, социалисты и коммунисты никак не могли выстроить сотрудничество из-за взаимного недоверия, то в Иране 1978 года удалось кратковременно помирить друг с другом даже более разношерстную коалицию. Все за счет невероятно низкой популярности шаха Мохаммеда Реза Пехлеви среди самых разных страт сложно устроенного иранского общества. Практически все считали его нефтяным олигархом и марионеткой США. Однако, когда режим шаха пал в результате целого года протестов, перехода даже к подобию демократии не случилось.
Во многом потому, что все ключевые участники недооценили популярность исламистов и волю к абсолютной власти их лидера Хомейни. Получилось как в той избитой притче. Когда Хомейни пришел за либералами из временного правительства, коммунисты и исламские социалисты не вступились за них, считая и их инструментами западного влияния. Когда начались массированные репрессии против социалистов из Моджахедин-э Халк, коммунисты пожали плечами, потому что им не нужны были серьезные конкуренты на левом фланге.
Несмотря на различия в динамике политического процесса в Чили и Иране, одна черта, по мнению Фридмана, роднит кейсы двух стран: неудачное вмешательство социалистической сверхдержавы на стороне революции. Только в этом случае не Китая, а СССР. Советские советники шептали первому секретарю коммунистической партии Туде Нуреддину Киянури, что сторонники Хомейни – всего лишь отсталые мелкобуржуазные элементы из деревни. С ними можно вступить в тактический союз, но, когда их правление неминуемо зайдет в тупик, власть сама упадет коммунистам в руки. Однако в 1982 году Хомейни не стал дожидаться такой возможности и арестовал всю верхушку коммунистов за якобы шпионаж в пользу СССР, а позже просто перехватил часть их экономической программы. Киянури хотел стать иранским Лениным, но повторил судьбу Марии Спиридоновой.
Как я написал в первом посте, Фридман – не исторический социолог, а традиционный политический историк. Он сравнивает случаи революций в Третьем мире не для того, чтобы извлечь общее, а для того, чтобы подчеркнуть частное. Тем не менее, один универсальный тезис из его исследования все же вытекает – революции всегда транснациональный феномен. Экономические и социальные тренды, толкающие людей на восстание, по меньшей мере региональны, а иногда и глобальны. Социальные движения всегда имеют международные черты. Вмешательство сильных государств может решить исход революции. Вроде банальности. Однако повторить их не будет лишним.
👍40👎2
Похвала технократии
Я благодарен Александру Замятину, что он обстоятельно ответил мне на своем канале. Честно сказать, я по-прежнему не согласен с большинством его тезисов, но эмоциональный спор мне кажется более правильным способом общения, чем безучастное игнорирование тех, с кем не согласен. Хорошие реплики, которые пытаются примирить наши с Александром позиции, написали коллеги Красников и Матвеев. Что-то я разделяю, что-то – нет, но, опять-таки, опосредование полярных позиций никогда не бывает лишним. В данном посте я еще чуть-чуть проясню свои взгляды, которые кто-то назовет лево-технократическими, но мне такой ярлык не особо-то и обиден.
Начну издалека. В российском оппозиционном публичном дискурсе давно в мейнстриме догматический праволиберальный взгляд на государство. В нем этот институт всегда про насилие и принуждение, так что его функции необходимо максимально приватизировать. Постсоветские «Doxa»-ориентированные левые недалеко уходят от этого мейнстрима. Разве что делают образ государства еще более карикатурным, а приватизировать функции предлагают не рынку, а неким горизонтальным сообществам. Мысль о том, что государство как аппарат и управляющие этим аппаратом элиты – это разные сущности, для меня очевидна. Но почему-то именно она сегодня выглядит радикальной.
Среди моих друзей и родственников очень много бюджетников – мелких государственных служащих. В основном это женщины, которые за маленькую зарплату еженедельно решают ключевые проблемы населения и делают это довольно эффективно. Так что демонизацией аппарата я заниматься не готов. Напротив, считаю его поставщиком огромного количества публичных благ, с которыми не может справиться ни рынок, ни сообщества. Мне здесь ближе взгляд «Простые числа»-ориентированных левых за минусом их довольно смешного диетического сталинизма. Заменить последний критическим разбором глобального опыта балансирования сильного государства и демократической мобилизации – и уже будет лучше. Короче, читайте «Рабкор» – у них всегда самая нормальная позиция. Почти не шучу.
Социальные ученые в моей картине мира в целом существуют вообще отдельно от государственного аппарата. Может, даже слишком отдельно, на мой взгляд. Где-то их пути пересекаются, конечно, но это просто два разных социальных поля. Априорное смешение объективизма социальных наук с контролирующим взглядом чиновника, полицейского и т. п. – это старый трюк французской мысли ’68 года, который звучит занимательно. Одна беда – эта концепция имеет мало общего как с реальной историей становления социального знания, так и с историей государственно власти.
Вместе с тем многое из наработок социологов, демографов, институциональных экономистов вполне может сослужить хорошую службу в прояснении механизмов работы государства, а значит, и для его улучшения. Между хорошей наукой и хорошим государством нет автоматической связи, которая и была бы той пресловутой технократией. Однако я бы предложил именно ее выстраивать в разумных пределах. Как нам завещали Евгений Максимыч и Петр Альбертыч.
Я благодарен Александру Замятину, что он обстоятельно ответил мне на своем канале. Честно сказать, я по-прежнему не согласен с большинством его тезисов, но эмоциональный спор мне кажется более правильным способом общения, чем безучастное игнорирование тех, с кем не согласен. Хорошие реплики, которые пытаются примирить наши с Александром позиции, написали коллеги Красников и Матвеев. Что-то я разделяю, что-то – нет, но, опять-таки, опосредование полярных позиций никогда не бывает лишним. В данном посте я еще чуть-чуть проясню свои взгляды, которые кто-то назовет лево-технократическими, но мне такой ярлык не особо-то и обиден.
Начну издалека. В российском оппозиционном публичном дискурсе давно в мейнстриме догматический праволиберальный взгляд на государство. В нем этот институт всегда про насилие и принуждение, так что его функции необходимо максимально приватизировать. Постсоветские «Doxa»-ориентированные левые недалеко уходят от этого мейнстрима. Разве что делают образ государства еще более карикатурным, а приватизировать функции предлагают не рынку, а неким горизонтальным сообществам. Мысль о том, что государство как аппарат и управляющие этим аппаратом элиты – это разные сущности, для меня очевидна. Но почему-то именно она сегодня выглядит радикальной.
Среди моих друзей и родственников очень много бюджетников – мелких государственных служащих. В основном это женщины, которые за маленькую зарплату еженедельно решают ключевые проблемы населения и делают это довольно эффективно. Так что демонизацией аппарата я заниматься не готов. Напротив, считаю его поставщиком огромного количества публичных благ, с которыми не может справиться ни рынок, ни сообщества. Мне здесь ближе взгляд «Простые числа»-ориентированных левых за минусом их довольно смешного диетического сталинизма. Заменить последний критическим разбором глобального опыта балансирования сильного государства и демократической мобилизации – и уже будет лучше. Короче, читайте «Рабкор» – у них всегда самая нормальная позиция. Почти не шучу.
Социальные ученые в моей картине мира в целом существуют вообще отдельно от государственного аппарата. Может, даже слишком отдельно, на мой взгляд. Где-то их пути пересекаются, конечно, но это просто два разных социальных поля. Априорное смешение объективизма социальных наук с контролирующим взглядом чиновника, полицейского и т. п. – это старый трюк французской мысли ’68 года, который звучит занимательно. Одна беда – эта концепция имеет мало общего как с реальной историей становления социального знания, так и с историей государственно власти.
Вместе с тем многое из наработок социологов, демографов, институциональных экономистов вполне может сослужить хорошую службу в прояснении механизмов работы государства, а значит, и для его улучшения. Между хорошей наукой и хорошим государством нет автоматической связи, которая и была бы той пресловутой технократией. Однако я бы предложил именно ее выстраивать в разумных пределах. Как нам завещали Евгений Максимыч и Петр Альбертыч.
👍37✍6👏5🙏5👎4👌2🖕2💅2🤝1
Надо написать что-то про Шанинку, но нелегко подобрать слова. Вы знаете, что я давно дед инсайд и фейковую патетику не приемлю. Тем не менее, хочу сказать спасибо Ирине Дуденковой и всему коллективу социологического факультета, которые давали развиваться многим важным инициативам социологии социального и гуманитарного знания. Несколько проектов со мной и моими ближайшими коллегами и сейчас в разработке. Будем продолжать эту работу по мере сил, несмотря на последние события. Карлу Маннгейму тоже иногда приходилось ползать, чтобы дэвиды блуры и мартины куши потом смогли бежать.
👍86🙏48🤝10👏6🖕4
Только что был на докладе Шейлы Фицпатрик, где она вспоминала, как изменилась американская русистика после распада СССР. В частности, она поделилась таким анекдотом. Когда на конференциях в 1990-х гг. Ричарда Пайпса спрашивали, кто же победил в споре между его тоталитарной школой и ревизионистами Фицпатрик, он неизменно отвечал: «А вы видели тиражи моих книг на постсоветском пространстве?» Короче, Пайпс – это такой Дрейк от советологии.
💅43👍23✍9
Над чем работают, о чем спорят историки
На ASEEES было много потрясающе интересных панелей. Как и в прошлом году, я постарался посетить все, что хотя бы отдаленно касалось Холодной войны. Здесь я перескажу только ту панель, которая была посвящена критике трендов в современной историографии СССР. Она буквально взорвала мне моск, потому что на нашем с коллегой Кондрашевым курсе мы как раз непримиримо спорили о почти всех поднятых там проблемах. Радость узнавания!
Сначала Оскар Санчес-Сибони прошелся по моим любимым авторам вроде Лоренца Люти и Одда Арне Вестада с миросистемных позиций (точно так же, как Саша потралливал меня самого). По мнению Санчеса-Сибони, существующие подходы в глобальной истории СССР слишком зациклены на политике и идеологии, а экономику оставляют в стороне. Игнорирование потоков капиталов приводит к неполноценным, почти магическим объяснениям и разрядки 1970-х гг., и неолиберальных реформ 1980-х гг. После панели мне удалось немного посмоллточить с автором доклада. Было очень приятно познакомиться.
Александр Херберт выдвинул интересное наблюдение: если читать американскую советологию через Хейдена Уайта, то доминирующим нарративным жанром становится трагедия. Типичная монография строится так: советская власть взялась за решение проблемы, намерения у нее были самые благие, но все равно все закончилось неудачей. Сам Херберт изучает крупные инфраструктурные проекты в послевоенном Ленинграде. Особенно его сейчас интересует система дамб и каналов – и вот в ней не было ничего трагического. Наоборот, это одна из самых масштабных и успешных транспортно-защитных систем в мире. Короче, нужно больше романа! Возможно, даже больше комедии!
Наконец, Брайан Джигантино почти дословно повторил мой пост годичной давности! Плагиат! (Шучу-шучу!) Действительно, чувствуется некоторая усталость от бесконечной концептуализации СССР как империи с астериском, где этот астериск – всегда какой-нибудь якобы остроумный оксюморон. Забавно, что в зале сидел Рональд Суни, который резко открестился от публицистов рейгановской эпохи. Он стал вспоминать, как участвовал в разработке концепции «империи наций» в 1990-е гг., целью которой было как раз указать на парадоксальность советской политики, а не просто обозвать СССР очередным бранным словом. Еще был интересный комментарий из зала от исследовательницы, которая, к сожалению, не представилась. Она заметила, что в исследованиях Австрийской империи Габсбургов тоже хватает примеров диалектики государственного и национального строительства, но все относятся к ним на чилле. Возможно, и советологам термин «империя» стоит использовать как чисто описательный, а не нормативный. С этим, впрочем, согласились не все. Хотя для меня это как раз самый здравый подход.
На ASEEES было много потрясающе интересных панелей. Как и в прошлом году, я постарался посетить все, что хотя бы отдаленно касалось Холодной войны. Здесь я перескажу только ту панель, которая была посвящена критике трендов в современной историографии СССР. Она буквально взорвала мне моск, потому что на нашем с коллегой Кондрашевым курсе мы как раз непримиримо спорили о почти всех поднятых там проблемах. Радость узнавания!
Сначала Оскар Санчес-Сибони прошелся по моим любимым авторам вроде Лоренца Люти и Одда Арне Вестада с миросистемных позиций (точно так же, как Саша потралливал меня самого). По мнению Санчеса-Сибони, существующие подходы в глобальной истории СССР слишком зациклены на политике и идеологии, а экономику оставляют в стороне. Игнорирование потоков капиталов приводит к неполноценным, почти магическим объяснениям и разрядки 1970-х гг., и неолиберальных реформ 1980-х гг. После панели мне удалось немного посмоллточить с автором доклада. Было очень приятно познакомиться.
Александр Херберт выдвинул интересное наблюдение: если читать американскую советологию через Хейдена Уайта, то доминирующим нарративным жанром становится трагедия. Типичная монография строится так: советская власть взялась за решение проблемы, намерения у нее были самые благие, но все равно все закончилось неудачей. Сам Херберт изучает крупные инфраструктурные проекты в послевоенном Ленинграде. Особенно его сейчас интересует система дамб и каналов – и вот в ней не было ничего трагического. Наоборот, это одна из самых масштабных и успешных транспортно-защитных систем в мире. Короче, нужно больше романа! Возможно, даже больше комедии!
Наконец, Брайан Джигантино почти дословно повторил мой пост годичной давности! Плагиат! (Шучу-шучу!) Действительно, чувствуется некоторая усталость от бесконечной концептуализации СССР как империи с астериском, где этот астериск – всегда какой-нибудь якобы остроумный оксюморон. Забавно, что в зале сидел Рональд Суни, который резко открестился от публицистов рейгановской эпохи. Он стал вспоминать, как участвовал в разработке концепции «империи наций» в 1990-е гг., целью которой было как раз указать на парадоксальность советской политики, а не просто обозвать СССР очередным бранным словом. Еще был интересный комментарий из зала от исследовательницы, которая, к сожалению, не представилась. Она заметила, что в исследованиях Австрийской империи Габсбургов тоже хватает примеров диалектики государственного и национального строительства, но все относятся к ним на чилле. Возможно, и советологам термин «империя» стоит использовать как чисто описательный, а не нормативный. С этим, впрочем, согласились не все. Хотя для меня это как раз самый здравый подход.
👍54👏7👌1
Пересмотрел «Оппенгеймера». Фильм показался еще более величайшим, чем в первый раз. Нужно смотреть всем, кто интересуется Холодной войной. Один момент неожиданно растрогал до слез: когда молодые Оппенгеймер и Раби едут в поезде и обсуждают, что за новая модная штука такая – квантовая механика. И тут внезапно вспомнилось, как мы с моим другом Зайцем едем ранним темным морозным утром на трамвае по улице Троллейной вдоль бесконечных гаражей… Шестиклассники… И с восторгом обсуждаем только что выученный Принцип Дирихле, который мы скоро собираемся дропнуть на олимпиаде против наци… то есть против наших заклятых врагов из Гимназии №1 и Лицея №130. Can you hear the music?
👍59💅19👎1🖕1
Как и обещал, я постепенно начинаю работать над задуманной книжкой о социологии знания. Первая остановка – обсуждение разных подходов к предмету и/или методу у Эндрю Эбботта. Подключайтесь, будем обсуждать фракталы, экологии и многое другое!
👍32👏10💅4
Forwarded from Социологи РАНХиГС | ФСФ ИОН
Здравствуйте, друзья, это снова мы! Уже совсем скоро состоится онлайн-лекция Андрея Герасимова «Социологии знания Эндрю Эбботта».
В нашей профессии важно постоянно читать хорошие теоретические тексты. Надо признать, что далеко не всегда интересное описание статьи или книги оправдывает ожидание. Работы Эбботта в этот список не входят. Мы с ними познакомились более двух лет назад и с тех пор устроили несколько ридингов и даже провели лекцию для нашего потока. А теперь хотим поделиться его работой и с вами.
Если у вас возникают вопросы:
🔹Почему разные дисциплины не могут договориться между собой о базовых понятиях?
🔹Существует ли прогресс в социальных и гуманитарных науках?
🔹Почему после долгого забвения теории снова становятся модными?
🔹В чем связь между историей социальных теорий и капустой романеско?
То мы предлагаем вам прочесть первую главу «Хаоса дисциплин» Эндрю Эбботта (файл в комментарии к посту). К сожалению, книга не опубликована на русском языке, но это еще один повод попрактиковать your english skills.
В свою очередь, социолог Андрей Герасимов на предстоящей лекции расскажет как о «Хаосе дисциплин», так и о теории экологий Эбботта. Ссылку на онлайн лекцию мы выложим в понедельник, 8 декабря, не пропустите!💙
В нашей профессии важно постоянно читать хорошие теоретические тексты. Надо признать, что далеко не всегда интересное описание статьи или книги оправдывает ожидание. Работы Эбботта в этот список не входят. Мы с ними познакомились более двух лет назад и с тех пор устроили несколько ридингов и даже провели лекцию для нашего потока. А теперь хотим поделиться его работой и с вами.
Если у вас возникают вопросы:
🔹Почему разные дисциплины не могут договориться между собой о базовых понятиях?
🔹Существует ли прогресс в социальных и гуманитарных науках?
🔹Почему после долгого забвения теории снова становятся модными?
🔹В чем связь между историей социальных теорий и капустой романеско?
То мы предлагаем вам прочесть первую главу «Хаоса дисциплин» Эндрю Эбботта (файл в комментарии к посту). К сожалению, книга не опубликована на русском языке, но это еще один повод попрактиковать your english skills.
В свою очередь, социолог Андрей Герасимов на предстоящей лекции расскажет как о «Хаосе дисциплин», так и о теории экологий Эбботта. Ссылку на онлайн лекцию мы выложим в понедельник, 8 декабря, не пропустите!💙
👍42👏5💅5
Общество государств, часть первая
Говорят, что лучшая книга – это та, где автор четко разложил все то, о чем вы только интуитивно догадывались. Для меня такой стал сборник лекций британского правоведа Мартина Уайта о теориях международных отношений. У него редкий талант: уважать своих оппонентов, досконально разбираться в их тезисах и аргументах, но при этом по-британски траллить их. Надо сказать, что мне не просто нравится читать лекции Уайта – я уже успел получить порцию совершенно нездорового нервного возбуждения от смеси его юмора и логики.
Уайт посмеивается над Гоббсом, родоначальником традиции реализма. Как мы знаем, тот полагал, что все люди грешны. Без принуждения сверху они-де будут вести себя ужасно. Но почему тогда Левиафан представляется реалистам надежным носителем общих правил? По идее, он должен быть еще более коррумпирован, поскольку его основывали самые грешные из всех возможных людей. (Этот контраргумент работает и против зеркального представления Руссо о всеблагих людях, которые, тем не менее, тысячелетиями заковывают своих собратьев в цепи.)
Ладно, оставим происходящее внутри государства – все-таки мы говорим о международных отношениях. Тут реалисты претендуют на то, что они могут четко взвесить собственные интересы и интересы других игроков, а значит, принять аморальное, но единственное правильное решение. Однако если, по Гоббсу, все обманывают, предают и вообще ведут себя, нарушая любые правила, то как вообще можно что-то рационально подсчитать? Получается, что реалист может вести себя рационально только в системе, где существуют хотя бы какие-то правила, не сводящиеся к голым интересам. Ну или последовательный реалист – это психотик, который хаотично размахивает заточкой направо и налево. С точки зрения Уайта, это более исторически верный образ, но куда менее привлекательный теоретически.
Уайт предлагает выход из реализма, который, на его взгляд, предвосхитил один из классиков этой традиции – Ницше. Люди – это животные, которые могут давать и сдерживать обещания. Отсюда мораль в международной политике может быть только предельно минималистической: это всего лишь способность сковывать себя правилами. Для Уайта, который в молодости разрывался между антивоенным активизмом и учебой у родоначальника британского реализма Эдварда Карра, именно такая скромная основа и становится выходом из тупика сурового мира господства силы и эгоизма.
Говорят, что лучшая книга – это та, где автор четко разложил все то, о чем вы только интуитивно догадывались. Для меня такой стал сборник лекций британского правоведа Мартина Уайта о теориях международных отношений. У него редкий талант: уважать своих оппонентов, досконально разбираться в их тезисах и аргументах, но при этом по-британски траллить их. Надо сказать, что мне не просто нравится читать лекции Уайта – я уже успел получить порцию совершенно нездорового нервного возбуждения от смеси его юмора и логики.
Уайт посмеивается над Гоббсом, родоначальником традиции реализма. Как мы знаем, тот полагал, что все люди грешны. Без принуждения сверху они-де будут вести себя ужасно. Но почему тогда Левиафан представляется реалистам надежным носителем общих правил? По идее, он должен быть еще более коррумпирован, поскольку его основывали самые грешные из всех возможных людей. (Этот контраргумент работает и против зеркального представления Руссо о всеблагих людях, которые, тем не менее, тысячелетиями заковывают своих собратьев в цепи.)
Ладно, оставим происходящее внутри государства – все-таки мы говорим о международных отношениях. Тут реалисты претендуют на то, что они могут четко взвесить собственные интересы и интересы других игроков, а значит, принять аморальное, но единственное правильное решение. Однако если, по Гоббсу, все обманывают, предают и вообще ведут себя, нарушая любые правила, то как вообще можно что-то рационально подсчитать? Получается, что реалист может вести себя рационально только в системе, где существуют хотя бы какие-то правила, не сводящиеся к голым интересам. Ну или последовательный реалист – это психотик, который хаотично размахивает заточкой направо и налево. С точки зрения Уайта, это более исторически верный образ, но куда менее привлекательный теоретически.
Уайт предлагает выход из реализма, который, на его взгляд, предвосхитил один из классиков этой традиции – Ницше. Люди – это животные, которые могут давать и сдерживать обещания. Отсюда мораль в международной политике может быть только предельно минималистической: это всего лишь способность сковывать себя правилами. Для Уайта, который в молодости разрывался между антивоенным активизмом и учебой у родоначальника британского реализма Эдварда Карра, именно такая скромная основа и становится выходом из тупика сурового мира господства силы и эгоизма.
👍37👌7👏4👎2
Разобраться во множественных личностях Эндрю Эбботта чудовищно сложно, поэтому я последовательно сравнил его с Кристофером Ноланом, Иммануилом Кантом, сценаристами The Wire и авторами советских учебников по биологии. Это первая лекция по социологии знания на канале. Будут новые. Так что подписывайтесь.
https://youtu.be/w114tvEMfSo
https://youtu.be/w114tvEMfSo
YouTube
Андрей Герасимов – Социологии знания Эндрю Эбботта
Лекция Андрея Герасимова на социологическом факультете РАНХиГС
00:02:00 Об эмансипации социологии знания от эпистемологии...
00:06:40 ...и интеллектуальной истории
00:09:40 Интерналиcты vs. экстерналисты
00:15:02 Структуралисты vs. конструктивисты
00:18:33…
00:02:00 Об эмансипации социологии знания от эпистемологии...
00:06:40 ...и интеллектуальной истории
00:09:40 Интерналиcты vs. экстерналисты
00:15:02 Структуралисты vs. конструктивисты
00:18:33…
👍52💅7👏1
Общество государств, часть вторая
Кто противостоит реалистам? Уайт группирует и либеральных, и радикальных, и даже некоторых консервативных мыслителей (например, католиков) в противоположную группу – революционистов. По мнению Уайта, так же как реалисты так или иначе восходят к Макиавелли и Гоббсу, столь разные революционисты XX века, как Толстой, Вудро Вильсон, Ленин, Иоанн Павел II, являются наследниками Иммануила Канта.
В чем они сходятся? Легитимность на международной арене восходит к моральному действию. Человечество (или его моральное большинство) куда важнее, чем система государств. Необходимо приближать состояние вечного мира. Уайт относится серьезно к их критике реализма. Убежденность, что международная политика невозможна без хотя бы минималистической морали, верна и чисто эмпирически. Однако он отмечает, что революционисты очень часто проваливаются в две крайности.
Одна опасная тенденция, по мнению Уайта, заключается в выводе некоторых революционистов, что международная политика никогда не может быть до конца моральной, а поэтому просто не нужно в ней участвовать. Религиозные секты, публичные интеллектуалы, анархические активисты – все они могут прийти к необходимости блюсти моральную чистоту ради нее самой. Уайт относится к этому с человеческой симпатией – он сам пришел в науку о международных отношениях из-за пацифистских убеждений. Однако он доказывает, что такая чистота в большинстве случаев оказывается крайне консервативной, поскольку никак не меняет динамику конфликтов между государствами.
Другая тенденция куда проще и гораздо распространеннее. Когда те или иные революционисты все-таки приходят к власти, они сразу начинают вести себя как заправские реалисты, применяя военную и полицейскую силу направо и налево. Однако они оправдываются перед собой и перед сторонниками: якобы их применение силы морально оправдано, поскольку приближает мир. Уайт, разумеется, относится к таким случаям с едкой иронией. Без толики реалистической самокритики никакое по-настоящему моральное действие на международной арене невозможно.
Кто противостоит реалистам? Уайт группирует и либеральных, и радикальных, и даже некоторых консервативных мыслителей (например, католиков) в противоположную группу – революционистов. По мнению Уайта, так же как реалисты так или иначе восходят к Макиавелли и Гоббсу, столь разные революционисты XX века, как Толстой, Вудро Вильсон, Ленин, Иоанн Павел II, являются наследниками Иммануила Канта.
В чем они сходятся? Легитимность на международной арене восходит к моральному действию. Человечество (или его моральное большинство) куда важнее, чем система государств. Необходимо приближать состояние вечного мира. Уайт относится серьезно к их критике реализма. Убежденность, что международная политика невозможна без хотя бы минималистической морали, верна и чисто эмпирически. Однако он отмечает, что революционисты очень часто проваливаются в две крайности.
Одна опасная тенденция, по мнению Уайта, заключается в выводе некоторых революционистов, что международная политика никогда не может быть до конца моральной, а поэтому просто не нужно в ней участвовать. Религиозные секты, публичные интеллектуалы, анархические активисты – все они могут прийти к необходимости блюсти моральную чистоту ради нее самой. Уайт относится к этому с человеческой симпатией – он сам пришел в науку о международных отношениях из-за пацифистских убеждений. Однако он доказывает, что такая чистота в большинстве случаев оказывается крайне консервативной, поскольку никак не меняет динамику конфликтов между государствами.
Другая тенденция куда проще и гораздо распространеннее. Когда те или иные революционисты все-таки приходят к власти, они сразу начинают вести себя как заправские реалисты, применяя военную и полицейскую силу направо и налево. Однако они оправдываются перед собой и перед сторонниками: якобы их применение силы морально оправдано, поскольку приближает мир. Уайт, разумеется, относится к таким случаям с едкой иронией. Без толики реалистической самокритики никакое по-настоящему моральное действие на международной арене невозможно.
👍24💅4
Обсуждаем с женой, что нам в раннем детстве казалось особенно привлекательным и красивым. Таким, что оставило сильное впечатление до сих пор.
Жена: Мне нравилась дымка над деревней, оранжево-красный закат, ледяной камыш на реке, теплота коровы, запах только что сваренного борща…
Я: Блин, а мне нравился только трицератопс и танк КВ-2.
Жена: Мне нравилась дымка над деревней, оранжево-красный закат, ледяной камыш на реке, теплота коровы, запах только что сваренного борща…
Я: Блин, а мне нравился только трицератопс и танк КВ-2.
👏60💅29🤝11👌3