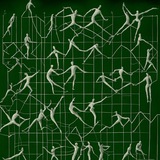Emigration for Action
В самых разных оппозиционных медиа уже прижился троп о Ленине, которому пришлось уехать и на время залечь на дно, чтобы потом вернуться, когда началось самое важное. Мол, не надо отчаиваться. При этом практически никогда не упоминается не менее известный политический эмигрант, история с возвращением которого была куда менее триумфальной. Конечно, я имею ввиду самого Маркса, который покидал территорию германских княжеств целых два раза: в 1843 и в 1849 гг.
В первый раз Марксу ничего не угрожало лично. Более того, прусские чиновники даже хотели его перекупить, предлагая перейти на государственную службу. Однако Марксу совершенно не нравились цензура правительства и самоцензура либеральных газет, которые не позволяли ему писать то, что он хотел. Плюс его консервативные родственники практически перестали с ним общаться. В Трире, таким образом, его ничего не держало, а амбиции революционного журналиста толкали его в центр событий. Изначально его планом на переезд было только создание немецко-французской газеты, однако в Париже под влиянием новых коллег и друзей Маркс стал углубленно изучать Сен-Симона, Гизо, Смита, и понеслось…
Во время Весны народов Маркс на короткое время приехал в Германию уже в качестве получившего международную известность интеллектуала. Сначала он пытался организовывать революционную прессу и партийные собрания в Кельне, а потом попутешествовал по городам, в которых зарождались восстания. Забавно, что после провала выступлений немецких левых монархическому правительству хватило зубов лишь на то, чтобы лишить Маркса права гостеприимства и выслать его за пределы Пруссии. Прямой арест ничего бы не дал, так как до этого момента суд присяжных уже оправдывал Маркса и явно оправдал бы снова.
Нет, я пишу про эти истории не для того, чтобы кому-то на чужбине стало еще более тоскливо. Скорее, во-первых, просто удивляюсь, в какие относительно вегетарианские времена приходилось творить мыслителям XIX века. Понятно, что такая доброта реакционных правительств была возможна только на фоне общеевропейского возбуждения, но все равно поразительно. Во-вторых, ок, Маркс в итоге проиграл как журналист и активист, но зато сублимировал все эти неудачи в написание своих классических трудов по историческому материализму. Если б не все те высылки, что бы мы тогда сегодня читали?
В самых разных оппозиционных медиа уже прижился троп о Ленине, которому пришлось уехать и на время залечь на дно, чтобы потом вернуться, когда началось самое важное. Мол, не надо отчаиваться. При этом практически никогда не упоминается не менее известный политический эмигрант, история с возвращением которого была куда менее триумфальной. Конечно, я имею ввиду самого Маркса, который покидал территорию германских княжеств целых два раза: в 1843 и в 1849 гг.
В первый раз Марксу ничего не угрожало лично. Более того, прусские чиновники даже хотели его перекупить, предлагая перейти на государственную службу. Однако Марксу совершенно не нравились цензура правительства и самоцензура либеральных газет, которые не позволяли ему писать то, что он хотел. Плюс его консервативные родственники практически перестали с ним общаться. В Трире, таким образом, его ничего не держало, а амбиции революционного журналиста толкали его в центр событий. Изначально его планом на переезд было только создание немецко-французской газеты, однако в Париже под влиянием новых коллег и друзей Маркс стал углубленно изучать Сен-Симона, Гизо, Смита, и понеслось…
Во время Весны народов Маркс на короткое время приехал в Германию уже в качестве получившего международную известность интеллектуала. Сначала он пытался организовывать революционную прессу и партийные собрания в Кельне, а потом попутешествовал по городам, в которых зарождались восстания. Забавно, что после провала выступлений немецких левых монархическому правительству хватило зубов лишь на то, чтобы лишить Маркса права гостеприимства и выслать его за пределы Пруссии. Прямой арест ничего бы не дал, так как до этого момента суд присяжных уже оправдывал Маркса и явно оправдал бы снова.
Нет, я пишу про эти истории не для того, чтобы кому-то на чужбине стало еще более тоскливо. Скорее, во-первых, просто удивляюсь, в какие относительно вегетарианские времена приходилось творить мыслителям XIX века. Понятно, что такая доброта реакционных правительств была возможна только на фоне общеевропейского возбуждения, но все равно поразительно. Во-вторых, ок, Маркс в итоге проиграл как журналист и активист, но зато сублимировал все эти неудачи в написание своих классических трудов по историческому материализму. Если б не все те высылки, что бы мы тогда сегодня читали?
👍77✍4
Теории классиков исторического материализма вообще подразумевают довольно много тонких суждений об автономной роли государства или внутриклассовой борьбе фракций. Это всегда усложняло их политическое прочтение, так как становилось непонятно, в кого именно бросать коктейли Молотова. Однако мелкобуржуазным социальным ученым это, наоборот, придавало импульса искать новые темы и проблемы. Эрик Хобсбаум как раз был довольно наивен в политических оценках, но зато смог комплексно рассмотреть не только организованную преступность, но и национализм, невероятно повлияв на послевоенное поколение социологов. Чарльз Тилли, например, – это просто более систематический Хобсбаум.
👍37🖕2
Forwarded from Anima di classe
Сегодня в Италии нередко вспоминают о том, что борьба с мафией не окончена. На этом фоне часто упоминают о расправе над Пеппино Импастато — левым активистом, объявившим мафии войну и убитого на излете "свинцовых лет" (периода разгула правого и левого радикализма), то есть в 1978 году. Посмотреть фотографии Пеппино и почитать о его гибели можно вот здесь, в канале, который пригодится каждому, чей интерес к итальянскому слову не исчерпывается грамматикой.
О Пеппино (одно из популярных сокращений Джузеппе — наряду с Беппе) чаще всего вспоминают именно в контексте низовой борьбы с мафией. Но его фигура любопытна с т.з. левой политической культуры, сложившейся в Италии в 70-е годы. К концу 70-х при всей ее запоздалости там были и контакты с североевропейскими хиппи, и своего рода сексуальная революция, и пропаганда, в которой использовалась уже не газета, а любительская радиостанция и музконцерты.
Мне же кажется важным отметить три особенности этой истории, которые контрастируют с представлением о долгом европейском 68-м как о а) преимущественно французском явлении б) бунте богемных студентов, которые жгли машины, а хотели новой культуры. Это, во-первых, антибогемность, скромность Пеппино и его круга. Во-вторых, локальность и локальный патриотизм — Пеппино сицилиец и с мафиози сражался не в лице абстрактной или распределенной по стране угрозы, а в лице своих ближайших соседей. В-третьих, тот факт, что направленной борьбе с мафией предшествовал период работы Пеппино в левом крыле социалистов. Собственно, радио, рок-музыка, контркультура — все это он развивал не как субститут, а как средство агитации, пройдя через годы выступлений бок о бок с крестьянами и рабочими профсоюзами.
К слову, итальянцы терпеть не могут стереотип о гламурных мафиози, блюдущих загадочную высокую мораль, возникший на волне популярности американских фильмов вроде Крестного отца. Мафия — это не привлекательно и не весело. Занятно, что некоторую симпатию к мафии как к своего рода ренегатам, отрицающим государство и строящим альтернативные структуры общения, в том числе помогая мелким предпринимателям и отстраивая церкви (т.е. крышуя тех и других), можно при желании вычитать...изнутри левой историографии.
В 1959 году Эрик Хобсбаум опубликовал великолепное исследование Primitive Rebels, а десять лет спустя — своих не менее великолепных Bandits. Это действительно увлекательные книги, написанные на обширном итальянском материале. Социальный бандитизм, как называл его Хобсбаум, представляет собой примитивную форму классовой борьбы. А мифы и легенды о людях вроде Робин Гуда занимали популярное воображение именно потому, что в таких героях никогда не иссякала потребность. Мафия как жесткая иерархическая организация, конечно, не совсем вписывается в эту концепцию. Социальные бандиты — это героизированные маргиналы, которые при этом нередко вставали на защиту бедных и нуждаюшихся, а также по случаю присоединялись к разного рода восстаниям и протестам против местной власти.
Хобсбаум, впрочем, не романтизировал ни мафию, ни социальных бандитов и не выдавал последних за органических революционеров, обманутых, запутавшихся или сбившихся с пути. Недаром Грамши писал о том, что социальные бандиты — sovversivi, они заняты подрывом порядка, но безо всякого политического смысла и обладают "негативным классовым сознанием" (т.е. политизировать класс здесь попросту невозможно, там структурный провал — это как пытаться сварить дырку от бублика). Однако то, что носители альтернативной (пусть и традиционной) морали и организаторы альтернативных (традиционных и небюрократизированных) структур, до сих пор будоражат чье-то воображение, показывает, что Хобсбаум уловил что-то простое и трогательное. Какое-то общее желание, чтобы каждый подлец и преступник глубоко в душе оказался Робин Гудом.
О Пеппино (одно из популярных сокращений Джузеппе — наряду с Беппе) чаще всего вспоминают именно в контексте низовой борьбы с мафией. Но его фигура любопытна с т.з. левой политической культуры, сложившейся в Италии в 70-е годы. К концу 70-х при всей ее запоздалости там были и контакты с североевропейскими хиппи, и своего рода сексуальная революция, и пропаганда, в которой использовалась уже не газета, а любительская радиостанция и музконцерты.
Мне же кажется важным отметить три особенности этой истории, которые контрастируют с представлением о долгом европейском 68-м как о а) преимущественно французском явлении б) бунте богемных студентов, которые жгли машины, а хотели новой культуры. Это, во-первых, антибогемность, скромность Пеппино и его круга. Во-вторых, локальность и локальный патриотизм — Пеппино сицилиец и с мафиози сражался не в лице абстрактной или распределенной по стране угрозы, а в лице своих ближайших соседей. В-третьих, тот факт, что направленной борьбе с мафией предшествовал период работы Пеппино в левом крыле социалистов. Собственно, радио, рок-музыка, контркультура — все это он развивал не как субститут, а как средство агитации, пройдя через годы выступлений бок о бок с крестьянами и рабочими профсоюзами.
К слову, итальянцы терпеть не могут стереотип о гламурных мафиози, блюдущих загадочную высокую мораль, возникший на волне популярности американских фильмов вроде Крестного отца. Мафия — это не привлекательно и не весело. Занятно, что некоторую симпатию к мафии как к своего рода ренегатам, отрицающим государство и строящим альтернативные структуры общения, в том числе помогая мелким предпринимателям и отстраивая церкви (т.е. крышуя тех и других), можно при желании вычитать...изнутри левой историографии.
В 1959 году Эрик Хобсбаум опубликовал великолепное исследование Primitive Rebels, а десять лет спустя — своих не менее великолепных Bandits. Это действительно увлекательные книги, написанные на обширном итальянском материале. Социальный бандитизм, как называл его Хобсбаум, представляет собой примитивную форму классовой борьбы. А мифы и легенды о людях вроде Робин Гуда занимали популярное воображение именно потому, что в таких героях никогда не иссякала потребность. Мафия как жесткая иерархическая организация, конечно, не совсем вписывается в эту концепцию. Социальные бандиты — это героизированные маргиналы, которые при этом нередко вставали на защиту бедных и нуждаюшихся, а также по случаю присоединялись к разного рода восстаниям и протестам против местной власти.
Хобсбаум, впрочем, не романтизировал ни мафию, ни социальных бандитов и не выдавал последних за органических революционеров, обманутых, запутавшихся или сбившихся с пути. Недаром Грамши писал о том, что социальные бандиты — sovversivi, они заняты подрывом порядка, но безо всякого политического смысла и обладают "негативным классовым сознанием" (т.е. политизировать класс здесь попросту невозможно, там структурный провал — это как пытаться сварить дырку от бублика). Однако то, что носители альтернативной (пусть и традиционной) морали и организаторы альтернативных (традиционных и небюрократизированных) структур, до сих пор будоражат чье-то воображение, показывает, что Хобсбаум уловил что-то простое и трогательное. Какое-то общее желание, чтобы каждый подлец и преступник глубоко в душе оказался Робин Гудом.
Telegram
Altrettanto 🤌
От Пеппино Импастато почти ничего не осталось. Утром 9 мая 1978 года обходчики железнодорожных путей на линии Палермо-Трапани обнаружили кратер, оставленный взрывом динамита, и вызвали карабинеров. В тот же день в Риме обнаружили тело премьер-министра Альдо…
👍44🖕1
Справа налево в мире идей
Раз уж на следующей неделе нам со слушателями предстоит читать Перри Андерсона про русский абсолютизм как перезаряженный и перенаправленный феодализм, хочу поделиться с вами очередными пиратскими новинками. На сей раз двумя томами переработанных обзоров и рецензий Андерсона, написанных в основном для New Left Review и London Review of Books. Героями их были в основном социальные историки (чуть выше упомянутый Хобсбаум, а еще Фернан Бродель, Карло Гинзбург, Эдвард Палмер Томпсон, etc.) и политические философы (Карл Шмитт, Норберто Боббио, Майкл Оукшотт, etc.)
Естественно, для меня наибольший интерес представляло и представляет редкое упоминание социологов. Особенно рецензия на первый том «Источников социальной власти» Майкла Манна. Ради нее я даже давным-давно специально поехал в РНБ на Парк Победы, так как в сети ее нигде не было не было. Что тут сказать: я обожаю, как стильно и лаконично пишет Андерсон, а тут целый текст про одного из моих любимых авторов, о котором еще и мало написано вообще. Как будто послушать кавер Дримсов на мейденовский «To Tame a Land» или Маstodon – на метелкинский «Orion».
Еще после того прочтения я впервые уловил, в чем именно состоит влияние Дюркгейма и Маркса на Манна. Андерсон обращает на этот синтез особое внимание, хотя другие комментаторы обычно кредитуют Манна исключительно как неовеберианца. В соседнем эссе эта операция провернута на 180° уже на примере «Наций и национализма» учителя Манна Эрнеста Геллнера, в котором Андерсон обнаруживает основное влияние мотивов социологии религии Вебера. (Хотя я тогда находился под обаянием объяснения Велько Вуячича, что Геллнер = Дюркгейм + Маркс.) Короче, ненапряжное с точки зрения языка чтение, поднимающее фундаментальные вопросы социологической теории и правил сравнительно-исторического метода.
Раз уж на следующей неделе нам со слушателями предстоит читать Перри Андерсона про русский абсолютизм как перезаряженный и перенаправленный феодализм, хочу поделиться с вами очередными пиратскими новинками. На сей раз двумя томами переработанных обзоров и рецензий Андерсона, написанных в основном для New Left Review и London Review of Books. Героями их были в основном социальные историки (чуть выше упомянутый Хобсбаум, а еще Фернан Бродель, Карло Гинзбург, Эдвард Палмер Томпсон, etc.) и политические философы (Карл Шмитт, Норберто Боббио, Майкл Оукшотт, etc.)
Естественно, для меня наибольший интерес представляло и представляет редкое упоминание социологов. Особенно рецензия на первый том «Источников социальной власти» Майкла Манна. Ради нее я даже давным-давно специально поехал в РНБ на Парк Победы, так как в сети ее нигде не было не было. Что тут сказать: я обожаю, как стильно и лаконично пишет Андерсон, а тут целый текст про одного из моих любимых авторов, о котором еще и мало написано вообще. Как будто послушать кавер Дримсов на мейденовский «To Tame a Land» или Маstodon – на метелкинский «Orion».
Еще после того прочтения я впервые уловил, в чем именно состоит влияние Дюркгейма и Маркса на Манна. Андерсон обращает на этот синтез особое внимание, хотя другие комментаторы обычно кредитуют Манна исключительно как неовеберианца. В соседнем эссе эта операция провернута на 180° уже на примере «Наций и национализма» учителя Манна Эрнеста Геллнера, в котором Андерсон обнаруживает основное влияние мотивов социологии религии Вебера. (Хотя я тогда находился под обаянием объяснения Велько Вуячича, что Геллнер = Дюркгейм + Маркс.) Короче, ненапряжное с точки зрения языка чтение, поднимающее фундаментальные вопросы социологической теории и правил сравнительно-исторического метода.
👏27👍19🖕1
Социальные науки и политэкономические уклады
Как обычно, обсуждали с коллегой Хуан Щю исторические траектории наших грешных родин, и я задумался, что проблемы достижения автономии социальных наук в современной западной академии и при плановых хозяйствах являются зеркальными противоположностями. Сейчас в условных Беркли или Эколь Нормаль можно писать практически на любую тему. Идеологических ограничений нет. Более того, левая и критическая проблематика в широком смысле даже поощряется. Однако крайне тяжело найти финансирование на по-настоящему фундаментальный проект. Тем более долгосрочное и коллективное.
Понятное дело, в СССР и других странах социалистического лагеря писать было можно только то, что вписывалось в доксу правящей партии. Конечно, можно было лавировать и притворяться, играя с церемониальными ссылками и эзоповым языком, но все равно необходимо было втиснуть свои идеи в официозный дискурс. Однако экономически обществовед или гуманитарий при социализме был довольно раскован. Какую-то ставку в периферийном НИИ или педагогическом университете находили даже тем, кто отстаивал идеи на грани с диссидентством. При этом жестких KPI не существовало. Сохранилось куча воспоминаний, как научные сотрудники целыми днями гоняли чаи на рабочем месте. Увольнение им не грозило.
Какая система лучше? Обе хуже. Аксиома Эскобара. Политическая свобода и экономическая несвобода при одной против политической несвободы и экономической свободы при другой. Возможно, выходом является борьба за безусловный базовый доход. Он поможет избежать дисфункций организации науки, характерных для обоих случаев. Конечно, это автоматически не двинет соцгум знание вперед, ведь никуда не денется проблема отсева неортодоксальных ученых от городских сумасшедших. Однако начинать лучше с базиса.
Как обычно, обсуждали с коллегой Хуан Щю исторические траектории наших грешных родин, и я задумался, что проблемы достижения автономии социальных наук в современной западной академии и при плановых хозяйствах являются зеркальными противоположностями. Сейчас в условных Беркли или Эколь Нормаль можно писать практически на любую тему. Идеологических ограничений нет. Более того, левая и критическая проблематика в широком смысле даже поощряется. Однако крайне тяжело найти финансирование на по-настоящему фундаментальный проект. Тем более долгосрочное и коллективное.
Понятное дело, в СССР и других странах социалистического лагеря писать было можно только то, что вписывалось в доксу правящей партии. Конечно, можно было лавировать и притворяться, играя с церемониальными ссылками и эзоповым языком, но все равно необходимо было втиснуть свои идеи в официозный дискурс. Однако экономически обществовед или гуманитарий при социализме был довольно раскован. Какую-то ставку в периферийном НИИ или педагогическом университете находили даже тем, кто отстаивал идеи на грани с диссидентством. При этом жестких KPI не существовало. Сохранилось куча воспоминаний, как научные сотрудники целыми днями гоняли чаи на рабочем месте. Увольнение им не грозило.
Какая система лучше? Обе хуже. Аксиома Эскобара. Политическая свобода и экономическая несвобода при одной против политической несвободы и экономической свободы при другой. Возможно, выходом является борьба за безусловный базовый доход. Он поможет избежать дисфункций организации науки, характерных для обоих случаев. Конечно, это автоматически не двинет соцгум знание вперед, ведь никуда не денется проблема отсева неортодоксальных ученых от городских сумасшедших. Однако начинать лучше с базиса.
👍51👏6🖕4👎1🤝1
Прошел ровно год, как я поразился качеству документального фильма Александра Штефанова про военную антропологию Донбасса и пожелал ему не захлебнуться хайпом. И вот Александр уже у Дудя. Мой вердикт: пока не захлебнулся. Все так же базирует базу. Продолжаем следить за его работой.
👍72🖕6👏2🤝2👎1👌1
Forwarded from Александр Штефанов
Как-то так...
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШТЕФАНОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ
https://youtu.be/6xIeLJGcpfU?si=nf_axYffa7aUkPJw
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШТЕФАНОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ
https://youtu.be/6xIeLJGcpfU?si=nf_axYffa7aUkPJw
YouTube
Штефанов – новая звезда политического ютуба / вДудь
Подписывайтесь на наш телеграм-канал: https://t.iss.one/yurydud/
Поддержать следующие выпуски вДудя можно здесь:
https://taplink.cc/vdud
Блогер-историк Александр Штефанов https://www.youtube.com/@Chamade
0:00 Вперед!
1:48 Почему тебя называют «котиком»?
3:38…
Поддержать следующие выпуски вДудя можно здесь:
https://taplink.cc/vdud
Блогер-историк Александр Штефанов https://www.youtube.com/@Chamade
0:00 Вперед!
1:48 Почему тебя называют «котиком»?
3:38…
👍35🖕9👎1
Мыслители в отсутствие мысли
Первый раз я увидел документальный сериал «Отдел» про историю советской послевоенной философии еще давным-давно, когда его показывали на телеканале «Культура». Правда, я тогда почти ничего не понял и не запомнил. (Кроме сюжета о происхождении сект щедровитян, в нескольких ОДИ которых я случайно принял участие почти тогда же в Академгородке.) Но вот захотелось уже спокойно и внимательно пересмотреть все серии перед сном.
Главный минус сериала, пожалуй, в том, что автор сценария и закадровый голос – Александр Архангельский – до приторности романтизирует своих героев. Даже их кринжовые качества типа сексизма Щедровицкого или патологической конфликтности на грани социопатии Зиновьева преподносятся как маленькие милые детали их драматической биографии. Я уже молчу про открытое превознесение тотального снобизма всей интеллигентской среды, которая считала себя почему-то более свободной и просвещенной частью советского общества, хотя из самого сериала очевидно, что свобода и просвещенность были дарованы им партией свыше как привилегия.
Другим упущением является почти полное отсутствие систематической презентации идей. Ильенков и Мамардашвили называются общеевропейскими и даже общемировыми по масштабу интеллектуальными фигурами. Ольга Зиновьева вообще молится своему мужу как буквально полубогу на уровне Платона или Гегеля. Но в чем состоял их вклад, собственно, в философскую мысль? Совершенно непонятно. Нам остается просто поверить разным живым на момент 2010 года свидетелям эпохи в том, что гении они потому что гении. Если бы я за кружечкой чая не слушал лекции легендарного Сюткина про универсальное значение советской мысли, просто пожал бы плечами от неадеквата.
Вместе с тем, мне очень зашла спонтанно социологическая оптика создателей. Во-первых, удачно показан феномен позднесоветской экспертизы как игрыпрестолов отделов, секторов, институтов. Во-вторых, распространение полуофициальных и полуподпольных кружков и школ. В-третьих, связь философского сообщества с политикой не только внутри СССР, но и за его пределами: французским Красным маем, вводом войск в Чехословакию, возникновением лояльных СССР социальных движений. Но опять-таки: социальная среда занимает в нарративе место за счет самой мысли. Значит ли, что последняя не особо и актуальна?
Последнее: для меня особенно круто, что наряду с самими философами достаточно места отведено первопроходцам советской социологии: Леваде, Грушину, Замошкину. Или критикам (а на самом деле скрытым обожателям) западной социологии типа Пиамы Гайденко или Игоря Кона. Здесь тоже не надейтесь узнать что-то про их научные труды. Больше про обстоятельства и связи. Тем не менее, несмотря на слабые моменты, несколько вечеров пролетели для меня почти незаметно, что характеризует сериал, пожалуй, лучше, чем предыдущие критические замечания.
Первый раз я увидел документальный сериал «Отдел» про историю советской послевоенной философии еще давным-давно, когда его показывали на телеканале «Культура». Правда, я тогда почти ничего не понял и не запомнил. (Кроме сюжета о происхождении сект щедровитян, в нескольких ОДИ которых я случайно принял участие почти тогда же в Академгородке.) Но вот захотелось уже спокойно и внимательно пересмотреть все серии перед сном.
Главный минус сериала, пожалуй, в том, что автор сценария и закадровый голос – Александр Архангельский – до приторности романтизирует своих героев. Даже их кринжовые качества типа сексизма Щедровицкого или патологической конфликтности на грани социопатии Зиновьева преподносятся как маленькие милые детали их драматической биографии. Я уже молчу про открытое превознесение тотального снобизма всей интеллигентской среды, которая считала себя почему-то более свободной и просвещенной частью советского общества, хотя из самого сериала очевидно, что свобода и просвещенность были дарованы им партией свыше как привилегия.
Другим упущением является почти полное отсутствие систематической презентации идей. Ильенков и Мамардашвили называются общеевропейскими и даже общемировыми по масштабу интеллектуальными фигурами. Ольга Зиновьева вообще молится своему мужу как буквально полубогу на уровне Платона или Гегеля. Но в чем состоял их вклад, собственно, в философскую мысль? Совершенно непонятно. Нам остается просто поверить разным живым на момент 2010 года свидетелям эпохи в том, что гении они потому что гении. Если бы я за кружечкой чая не слушал лекции легендарного Сюткина про универсальное значение советской мысли, просто пожал бы плечами от неадеквата.
Вместе с тем, мне очень зашла спонтанно социологическая оптика создателей. Во-первых, удачно показан феномен позднесоветской экспертизы как игры
Последнее: для меня особенно круто, что наряду с самими философами достаточно места отведено первопроходцам советской социологии: Леваде, Грушину, Замошкину. Или критикам (а на самом деле скрытым обожателям) западной социологии типа Пиамы Гайденко или Игоря Кона. Здесь тоже не надейтесь узнать что-то про их научные труды. Больше про обстоятельства и связи. Тем не менее, несмотря на слабые моменты, несколько вечеров пролетели для меня почти незаметно, что характеризует сериал, пожалуй, лучше, чем предыдущие критические замечания.
👍61👏5🖕1🤝1
Рубикон подментованности
Не хочется говорить банальные слова о том, что Европейский университет уже не тот, но, увы, после ситуации с увольнением Ивана Куриллы только такие слова и напрашиваются. Если не в сто или тысячу раз жестче. Вообще, после начала войны ректор и его команда уже инициировали ряд скандальных и болезненных уходов некоторых преподавателей, которые хотели преподавать из-за рубежа или поддерживать аффилиацию с зарубежными организациями. Европейский любил позиционировать себя как республику, но похоже, что Рубикон по направлению к какому-то другому режиму давно пройден.
Вспоминаю, как пришел записываться на курс Ивана по политической истории XX века, но он, узнав, что у меня уже есть историческое образование, отвел меня в сторону и сказал: «Андрей, вам не надо сюда ходить. Этот курс для политологов, которые не знают, кто такой Хо Ши Мин». Я расстроился, но послушался. Зато потом удалось взять у него интервью про его извилистую карьеру регионального ученого в 1990–2010-е гг. для моей так и не написанной диссертации. Ивана уже увольняли из Смольного, теперь и из Европейского. Скажу другую банальность: значит, хороший преподаватель.
Вообще, одна из ключевых институций постсоветского общественного и гуманитарного образования становится неотличимой от других российских университетов в плане соблюдения прав коллектива. Очень жаль. Впрочем, я хочу выразить слова поддержки не только Ивану, а всем преподавателям и студентам, с которыми я имел счастье учиться и работать! Администрация – это одно, а сообщество – другое! Мы как-нибудь выживем и без подментованного руководства.
Не хочется говорить банальные слова о том, что Европейский университет уже не тот, но, увы, после ситуации с увольнением Ивана Куриллы только такие слова и напрашиваются. Если не в сто или тысячу раз жестче. Вообще, после начала войны ректор и его команда уже инициировали ряд скандальных и болезненных уходов некоторых преподавателей, которые хотели преподавать из-за рубежа или поддерживать аффилиацию с зарубежными организациями. Европейский любил позиционировать себя как республику, но похоже, что Рубикон по направлению к какому-то другому режиму давно пройден.
Вспоминаю, как пришел записываться на курс Ивана по политической истории XX века, но он, узнав, что у меня уже есть историческое образование, отвел меня в сторону и сказал: «Андрей, вам не надо сюда ходить. Этот курс для политологов, которые не знают, кто такой Хо Ши Мин». Я расстроился, но послушался. Зато потом удалось взять у него интервью про его извилистую карьеру регионального ученого в 1990–2010-е гг. для моей так и не написанной диссертации. Ивана уже увольняли из Смольного, теперь и из Европейского. Скажу другую банальность: значит, хороший преподаватель.
Вообще, одна из ключевых институций постсоветского общественного и гуманитарного образования становится неотличимой от других российских университетов в плане соблюдения прав коллектива. Очень жаль. Впрочем, я хочу выразить слова поддержки не только Ивану, а всем преподавателям и студентам, с которыми я имел счастье учиться и работать! Администрация – это одно, а сообщество – другое! Мы как-нибудь выживем и без подментованного руководства.
👍134🤝15🙏10👎3🖕1
Бесполезность теологии
Среди моих друзей и коллег-философов в последние годы моден стал теологический поворот. Он инициирован, понятно, давным-давно Шмиттом с предложением прослеживать понятия политического к их теологическим предшественникам. Среди более свежих авторов можно отметить Джона Милбэнка, который доказывает, что уже и социологическая теория корнями уходит в богословие. Я понимаю, что не все так просто. Для кого-то необходимость теологии обосновывается аполитичностью и цинизмом современной России, как у Андрея Денисова. А кто-то, как Владимир Шалларь, вообще взламывает теологический дискурс в левом ключе. Тем не менее, все эти ходы с обоснованием примата теологии над секуляризированным знанием мне кажутся довольно наигранными, и вот почему.
Во-первых, через указание на то, что основные категории политических и социальных наук рождаются изначально в богословском дискурсе, как-то поспешно делается вывод из их вторичности. Никто не спорит, в принципе, что все знание Нового времени так или иначе началось со средневековых университетов и схоластики. Но и что дальше? Почему нам нужно вернуться туда? Птицы вот когда-то были динозаврами. Им надо теперь отрезать крылья?
Во-вторых, можно в ответ задать встречный вопрос: а откуда взялись категории самого богословского дискурса? Их корни тоже можно генеалогически проследить до чего-то иного? До греческого политеизма? Обычно на этом месте рефлексия останавливается. Понятно, что из Откровения. Как можно вообще такие малограмотные вопросы задавать?!
В-третьих, теология, которой следует заняться, бросив все эти смешные и наивные социальные науки, это всегда почему-то всегда по умолчанию христианская теология. Не исламская, не индуистская, ни какая-то другая. Но почему? Ислам также претендует на ученость и универсализм, индуизм доказал, что на его основе можно построить миллиардную демократию, и т. п.
Для меня лучший ответ на все эти вещи дал старый добрый Дюркгейм, который честно написал о преемственности современных наук по отношению к религии давным-давно. Однако он четко показывал, что: а) науки не сводятся к религии ни идейно, ни на уровне социальной организации; б) сама теология имеет корни в архаических религиях, где не было ни представлений о боге, ни кодифицированных текстов; в) необходимо выйти за рамки европоцентричного понимания религии, чтобы понять ее базовую структуру. Короче, социология знания > теология. Prove me wrong.
Среди моих друзей и коллег-философов в последние годы моден стал теологический поворот. Он инициирован, понятно, давным-давно Шмиттом с предложением прослеживать понятия политического к их теологическим предшественникам. Среди более свежих авторов можно отметить Джона Милбэнка, который доказывает, что уже и социологическая теория корнями уходит в богословие. Я понимаю, что не все так просто. Для кого-то необходимость теологии обосновывается аполитичностью и цинизмом современной России, как у Андрея Денисова. А кто-то, как Владимир Шалларь, вообще взламывает теологический дискурс в левом ключе. Тем не менее, все эти ходы с обоснованием примата теологии над секуляризированным знанием мне кажутся довольно наигранными, и вот почему.
Во-первых, через указание на то, что основные категории политических и социальных наук рождаются изначально в богословском дискурсе, как-то поспешно делается вывод из их вторичности. Никто не спорит, в принципе, что все знание Нового времени так или иначе началось со средневековых университетов и схоластики. Но и что дальше? Почему нам нужно вернуться туда? Птицы вот когда-то были динозаврами. Им надо теперь отрезать крылья?
Во-вторых, можно в ответ задать встречный вопрос: а откуда взялись категории самого богословского дискурса? Их корни тоже можно генеалогически проследить до чего-то иного? До греческого политеизма? Обычно на этом месте рефлексия останавливается. Понятно, что из Откровения. Как можно вообще такие малограмотные вопросы задавать?!
В-третьих, теология, которой следует заняться, бросив все эти смешные и наивные социальные науки, это всегда почему-то всегда по умолчанию христианская теология. Не исламская, не индуистская, ни какая-то другая. Но почему? Ислам также претендует на ученость и универсализм, индуизм доказал, что на его основе можно построить миллиардную демократию, и т. п.
Для меня лучший ответ на все эти вещи дал старый добрый Дюркгейм, который честно написал о преемственности современных наук по отношению к религии давным-давно. Однако он четко показывал, что: а) науки не сводятся к религии ни идейно, ни на уровне социальной организации; б) сама теология имеет корни в архаических религиях, где не было ни представлений о боге, ни кодифицированных текстов; в) необходимо выйти за рамки европоцентричного понимания религии, чтобы понять ее базовую структуру. Короче, социология знания > теология. Prove me wrong.
👍111👏11✍8🖕8👎4
В продолжение религиозной темы
Опять читаю тексты Дмитрия Фурмана – «советского Макса Вебера», как назвал его Георгий Матвеевич Дергуньян. Фурман не был горячим сторонником советского строя, а просто тихо-мирно работал в институте США и Канады, где изучал американскую политическую культуру в сравнительной перспективе. Однако после прихода к власти Горбачева он резко политизировался и поддержал Перестройку. На первый взгляд, типичная карьера интеллигента-шестидесятника. Но нет, не типичная.
Характерно, что, когда СССР стал распадаться, Фурман не переметнулся в стан ельцинских либералов, а начал критиковать новый режим с позиций убежденного горбачевиста, т. е. социалиста с человеческим лицом. В одном интервью у него даже спрашивают: «А чего это вы, Дмитрий, так вдруг угорели по советским ценностям, если даже отказываетесь называть себя марксистом?»
Фурман отвечает, что с юношества понимал марксизм-ленинизм как религию. Однако говорить так – это не значит отвергать марксизм-ленинизм. Любая религия полезна с точки зрения общества, так как сплачивает его. Отвергнуть социалистическую идеологию со стороны бывшей номенклатуры – это то же самое, если б Индийский национальный конгресс стал искоренять индуизм, распустив штаты по этнонациональным государствам, а вместо постройки собственной промышленности раздал бы все ресурсы обратно британским компаниям. Короче, это просто очень и очень тупо.
Честно говоря, меня купил этот остроумный пример со сравнением КПСС и ИНК. В этом что-то есть. А еще мне захотелось реконструировать условный круг чтения Фурмана в 1960–1970-е. Мне кажется, там точно были условные Роберт Белла или Шмуэль Эйзенштадт. Дюркгеймианец дюркгеймианца видит издалека. Занимаясь американской политической культурой, Фурман не мог не читать их. Ну или он еще более гениальный, если придумал это самостоятельно.
Опять читаю тексты Дмитрия Фурмана – «советского Макса Вебера», как назвал его Георгий Матвеевич Дергуньян. Фурман не был горячим сторонником советского строя, а просто тихо-мирно работал в институте США и Канады, где изучал американскую политическую культуру в сравнительной перспективе. Однако после прихода к власти Горбачева он резко политизировался и поддержал Перестройку. На первый взгляд, типичная карьера интеллигента-шестидесятника. Но нет, не типичная.
Характерно, что, когда СССР стал распадаться, Фурман не переметнулся в стан ельцинских либералов, а начал критиковать новый режим с позиций убежденного горбачевиста, т. е. социалиста с человеческим лицом. В одном интервью у него даже спрашивают: «А чего это вы, Дмитрий, так вдруг угорели по советским ценностям, если даже отказываетесь называть себя марксистом?»
Фурман отвечает, что с юношества понимал марксизм-ленинизм как религию. Однако говорить так – это не значит отвергать марксизм-ленинизм. Любая религия полезна с точки зрения общества, так как сплачивает его. Отвергнуть социалистическую идеологию со стороны бывшей номенклатуры – это то же самое, если б Индийский национальный конгресс стал искоренять индуизм, распустив штаты по этнонациональным государствам, а вместо постройки собственной промышленности раздал бы все ресурсы обратно британским компаниям. Короче, это просто очень и очень тупо.
Честно говоря, меня купил этот остроумный пример со сравнением КПСС и ИНК. В этом что-то есть. А еще мне захотелось реконструировать условный круг чтения Фурмана в 1960–1970-е. Мне кажется, там точно были условные Роберт Белла или Шмуэль Эйзенштадт. Дюркгеймианец дюркгеймианца видит издалека. Занимаясь американской политической культурой, Фурман не мог не читать их. Ну или он еще более гениальный, если придумал это самостоятельно.
👍69👏7👎1
Ревность и песок
Несколько разочаровала вторая часть «Дюны». Называйте меня гиком, но самое мощное, что есть в книге Герберта (и что было по максимуму использовано в первой части) – это вселенная, которая по проработанности сообществ, культов и языков не уступает даже Средиземью. «Дюна» для меня – в первую очередь классика soft sci-fi, проложившая дорогу еще более упоротым мирам Урсулы Ле Гуин и Филипа К. Дика, а потом уже все остальное. Увы, весь богатейший лор уходит на второй план.
А что взамен лора? Во-первых, психологические метания Пола и Чани, которых в первоисточнике почти нет. Наверное, это неплохо с точки зрения развития характеров, но за взаимоотношениями главных героев совсем теряется пророческая миссия Пола. Сомневающийся в себе маг и фокусник – вот так в воображении секулярного франко-канадца ведет себя лидер, из-за которого люди готовы устроить галактических размеров Джихад.
Во-вторых, сильная сторона Вильнева во всех его фильмах – это визуальная. Но здесь виды пустынного ландшафта на пятый час просмотра просто надоедают. Несколько раз делается попытка перенести на нас на другие системы и в открытый космос, но камера сразу пятится обратно на Арракис. Как будто весь бюджет потрачен на звездный актерский ансамбль.
Ладно, не буду только жаловаться. В любом случае фильм принес мне неожиданный прилив ностальгии по детству, когда можно было брать у двоюродной бабушки научно-фантастические книжки и читать их в метро по дороге до школы. Захотелось даже повспоминать, какие там социальные структуры описывались у упомянутых Ле Гуин, Дика и моего главного фаворита тех лет – Хайнлайна. Конечно, ничего перечитывать я не буду, а, как сейчас принято, послушаю какие-нибудь видосы или подкастики перед сном.
Несколько разочаровала вторая часть «Дюны». Называйте меня гиком, но самое мощное, что есть в книге Герберта (и что было по максимуму использовано в первой части) – это вселенная, которая по проработанности сообществ, культов и языков не уступает даже Средиземью. «Дюна» для меня – в первую очередь классика soft sci-fi, проложившая дорогу еще более упоротым мирам Урсулы Ле Гуин и Филипа К. Дика, а потом уже все остальное. Увы, весь богатейший лор уходит на второй план.
А что взамен лора? Во-первых, психологические метания Пола и Чани, которых в первоисточнике почти нет. Наверное, это неплохо с точки зрения развития характеров, но за взаимоотношениями главных героев совсем теряется пророческая миссия Пола. Сомневающийся в себе маг и фокусник – вот так в воображении секулярного франко-канадца ведет себя лидер, из-за которого люди готовы устроить галактических размеров Джихад.
Во-вторых, сильная сторона Вильнева во всех его фильмах – это визуальная. Но здесь виды пустынного ландшафта на пятый час просмотра просто надоедают. Несколько раз делается попытка перенести на нас на другие системы и в открытый космос, но камера сразу пятится обратно на Арракис. Как будто весь бюджет потрачен на звездный актерский ансамбль.
Ладно, не буду только жаловаться. В любом случае фильм принес мне неожиданный прилив ностальгии по детству, когда можно было брать у двоюродной бабушки научно-фантастические книжки и читать их в метро по дороге до школы. Захотелось даже повспоминать, какие там социальные структуры описывались у упомянутых Ле Гуин, Дика и моего главного фаворита тех лет – Хайнлайна. Конечно, ничего перечитывать я не буду, а, как сейчас принято, послушаю какие-нибудь видосы или подкастики перед сном.
👍51👏8
Осколки империи, осколки дисциплин
Задумался о неочевидном сходстве между британскими и советскими социальными науками 1950–1980-х гг. В обеих державах социология была относительно непрестижной дисциплиной, а наиболее интересный вклад в типично социологические вопросы сделали представители социальной антропологии или социальной истории. Про специфику советского кейса обязательно напишу в будущем. Только начинаю в него погружаться. А вот совсем коротко про Британию.
Ключевые послевоенные обществоведы там – это исследователи покоренных народов начинающей распадаться империи, которые в какой-то момент стали использовать свои находки вне Европы для описания обществ метрополий. Можно вспомнить мою любимую Мэри Дуглас, а также Бенедикта Андерсона, Эрнеста Геллнера, Макса Глакмана, Джека Гуди, Кристофера Бейли... Список просто огромный, на самом деле.
Все эти авторы серьезно занимались социологической теорией. Все они продвигали сравнительный метод анализа макро- и мезоструктур. Все воспитали учеников-социологов, которые перенесли их идеи в США. Например, Майкл Буравой – это ребенок Манчестерской школы, а Майкл Манн – междисциплинарного семинара Лондонской школы экономики.
Такое ощущение, что сейчас их наследие немного в подвешенном состоянии. Как будто в каноны антропологов и историков многие их поздние работы уже не влезают (хотя тут я бы хотел поинтересоваться у коллег: насколько мое субъективное впечатление верно?) В социологии же, особенно американской, им тоже до конца своими стать не удалось: слишком экзотично, слишком публицистически, слишком мало количественных методов. Как будто только в nationalist studies или religious studies им нашлось местечко классиков.
Задумался о неочевидном сходстве между британскими и советскими социальными науками 1950–1980-х гг. В обеих державах социология была относительно непрестижной дисциплиной, а наиболее интересный вклад в типично социологические вопросы сделали представители социальной антропологии или социальной истории. Про специфику советского кейса обязательно напишу в будущем. Только начинаю в него погружаться. А вот совсем коротко про Британию.
Ключевые послевоенные обществоведы там – это исследователи покоренных народов начинающей распадаться империи, которые в какой-то момент стали использовать свои находки вне Европы для описания обществ метрополий. Можно вспомнить мою любимую Мэри Дуглас, а также Бенедикта Андерсона, Эрнеста Геллнера, Макса Глакмана, Джека Гуди, Кристофера Бейли... Список просто огромный, на самом деле.
Все эти авторы серьезно занимались социологической теорией. Все они продвигали сравнительный метод анализа макро- и мезоструктур. Все воспитали учеников-социологов, которые перенесли их идеи в США. Например, Майкл Буравой – это ребенок Манчестерской школы, а Майкл Манн – междисциплинарного семинара Лондонской школы экономики.
Такое ощущение, что сейчас их наследие немного в подвешенном состоянии. Как будто в каноны антропологов и историков многие их поздние работы уже не влезают (хотя тут я бы хотел поинтересоваться у коллег: насколько мое субъективное впечатление верно?) В социологии же, особенно американской, им тоже до конца своими стать не удалось: слишком экзотично, слишком публицистически, слишком мало количественных методов. Как будто только в nationalist studies или religious studies им нашлось местечко классиков.
👍44
Самое важное голосование этого уикэнда. Бюллетень испортить тут нельзя, в отличие от прочих.
👍39🖕1
Forwarded from низгораев
Кто Вам ближе, чьи взгляды Вы разделяете — Луман, Хабермас, Бурдье, Фуко, Гидденс или Латур?
Anonymous Poll
6%
Луман
6%
Хабермас
24%
Бурдье
19%
Фуко
6%
Гидденс
12%
Латур
11%
Не знаю таких (такого)
17%
Затрудняюсь выбрать
👍31
Критическая расовая теория, совиет эдишн
Коллега Александров обратил мое внимание на малоизвестный факт: в 1959 году в Москву на открытие Института Африки приезжал уже пожилой Уильям Дюбуа – один из первых американских социологов, критически изучавший расовое неравенство, и по совместительству идеолог панафриканизма. (Конечно, правильно писать Дюбойс, но я оставлю уже закрепившийся в советской традиции вариант). Причем это был не единственный его визит: приезжал он еще в сталинские времена. Кроме того, какое-то время Дюбуа переписывался с самим Хрущевым, а через несколько лет три его книги и биографию за авторством Роберта Иванова издали в СССР.
Институт Африки создавался учеными и аппаратчиками, которые стремились наладить тесные связи с субсахарским постколониальным миром. Кто из искреннего сочувствия освободительным движениям, кто из-за чисто этнографической мечты съездить туда в длительную экспедицию, а кто и по соображениям Realpolitik Холодной войны. Фигура радикального социолога, отказавшегося в знак протеста от американского гражданства и переехавшего в Гану, была идеальным выбором в качестве символа международного сотрудничества по всем каналам для советских африканистов.
Тем поразительнее, что уже к концу брежневского Застоя Институт Африки станет одним из первых бастионов того, что сейчас называется цивилизационной теорией. Вместе с Марксом там начнут аккуратно ссылаться на Гумилева и Тойнби и обосновывать особый путь внешней политики государства российского. Антиколониальный дух почти полностью испарится оттуда вместе с ветрами Перестройки. Правда, это повод рассказать уже другую байку в каком-нибудь новом посте.
Коллега Александров обратил мое внимание на малоизвестный факт: в 1959 году в Москву на открытие Института Африки приезжал уже пожилой Уильям Дюбуа – один из первых американских социологов, критически изучавший расовое неравенство, и по совместительству идеолог панафриканизма. (Конечно, правильно писать Дюбойс, но я оставлю уже закрепившийся в советской традиции вариант). Причем это был не единственный его визит: приезжал он еще в сталинские времена. Кроме того, какое-то время Дюбуа переписывался с самим Хрущевым, а через несколько лет три его книги и биографию за авторством Роберта Иванова издали в СССР.
Институт Африки создавался учеными и аппаратчиками, которые стремились наладить тесные связи с субсахарским постколониальным миром. Кто из искреннего сочувствия освободительным движениям, кто из-за чисто этнографической мечты съездить туда в длительную экспедицию, а кто и по соображениям Realpolitik Холодной войны. Фигура радикального социолога, отказавшегося в знак протеста от американского гражданства и переехавшего в Гану, была идеальным выбором в качестве символа международного сотрудничества по всем каналам для советских африканистов.
Тем поразительнее, что уже к концу брежневского Застоя Институт Африки станет одним из первых бастионов того, что сейчас называется цивилизационной теорией. Вместе с Марксом там начнут аккуратно ссылаться на Гумилева и Тойнби и обосновывать особый путь внешней политики государства российского. Антиколониальный дух почти полностью испарится оттуда вместе с ветрами Перестройки. Правда, это повод рассказать уже другую байку в каком-нибудь новом посте.
👍76✍9👎1
Не раз упоминал здесь, как в юношестве мечтал стать спортивным журналистом. Чтение футбольных колонок и блогов совершенно случайно завело меня в науку. Ну и, конечно, Василий Уткин, который работал для нас целые сутки. «Чем Реал отличается от такси?», «Мама, ты не поверишь, что я смотрю этот футбол!» и вот это последнее, антивоенное… Вечная память.
🙏71
Forwarded from Александр Штефанов
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
F
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШТЕФАНОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШТЕФАНОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ
🙏77👏7🤝4👍3
О политической пластичности
В ходе занятий на курсе мы с участниками частенько выходим на вопрос политической подоплеки социологических теорий. Проще говоря, к какому действию (или бездействию) косвенно призывает теоретик, который концептуализирует социальное вот так, а не иначе. На сей счет мне очень нравится соображение Фредерика Брандмайра о том, что любая социологическая теория гибка или пластична. В ней всегда присутствует политическое послание. Совершенно нейтральных концепций нет. Но интересно, что даже с легчайшим сдвигом контекста восприятия аудитория всегда может перевернуть это послание с ног на голову. (Чуть подробнее про идею Брандмайра я как-то писал здесь.)
Последние занятия дали целых два отличных примера в копилку наблюдений о пластичности. Во-первых, интерпретация теории группы–разметки Мэри Дуглас Эдинбургской школой. Дуглас нормативно определяет высокогрупповые и высокорешетчатые космологии наиболее желаемым стандартом социальных верований, включая и теории сообщества ученых. Однако уже через несколько лет после публикации «Естественных символов» Дэвид Блур с опорой на ее же теорию обосновывает схоластичность замкнутых космологий в научных дебатах и начинает топить за свободолюбивый индивидуализм против монополизации знания. Вжух, и консервативно-коммунитаристское дюркгеймианство Дуглас теперь анархо-либеральное!
Другой пример – это мир-системная теория Иммануила Валлерстайна. Созданная как критика зависимости третьего мира от первого, она внезапно начинает привлекать почвенников с интеллектуальных полупериферий. Одним из первых читателей и популяризаторов построений Валлерстайна еще в СССР стал востоковед Андрей Фурсов, который тоже предлагает бороться с внешним управлением России со стороны глобальных капиталистов. Только обращается он уже не к антисистемным движениям, а к национальным элитам. Сейчас его проторенной дорогой следует уже целая толпа красконов.
Принцип рассуждения Брандмайра еще важен тем, что позволяет критиковать практические подходы к чтению, которые искусственно берут в скобки оба контекста: автора и аудитории. Например, такой, который среди многих коллег известен как аналитическое чтение. Читая исключительно текст и ничего более за его пределами, вы всегда неосознанно будете навязывать ему свои интерпретации, которые сами же не контролируете. Разумеется, и общественно-политический заряд при таком подходе также будет изменяться до неузнаваемости. Не надо так.
В ходе занятий на курсе мы с участниками частенько выходим на вопрос политической подоплеки социологических теорий. Проще говоря, к какому действию (или бездействию) косвенно призывает теоретик, который концептуализирует социальное вот так, а не иначе. На сей счет мне очень нравится соображение Фредерика Брандмайра о том, что любая социологическая теория гибка или пластична. В ней всегда присутствует политическое послание. Совершенно нейтральных концепций нет. Но интересно, что даже с легчайшим сдвигом контекста восприятия аудитория всегда может перевернуть это послание с ног на голову. (Чуть подробнее про идею Брандмайра я как-то писал здесь.)
Последние занятия дали целых два отличных примера в копилку наблюдений о пластичности. Во-первых, интерпретация теории группы–разметки Мэри Дуглас Эдинбургской школой. Дуглас нормативно определяет высокогрупповые и высокорешетчатые космологии наиболее желаемым стандартом социальных верований, включая и теории сообщества ученых. Однако уже через несколько лет после публикации «Естественных символов» Дэвид Блур с опорой на ее же теорию обосновывает схоластичность замкнутых космологий в научных дебатах и начинает топить за свободолюбивый индивидуализм против монополизации знания. Вжух, и консервативно-коммунитаристское дюркгеймианство Дуглас теперь анархо-либеральное!
Другой пример – это мир-системная теория Иммануила Валлерстайна. Созданная как критика зависимости третьего мира от первого, она внезапно начинает привлекать почвенников с интеллектуальных полупериферий. Одним из первых читателей и популяризаторов построений Валлерстайна еще в СССР стал востоковед Андрей Фурсов, который тоже предлагает бороться с внешним управлением России со стороны глобальных капиталистов. Только обращается он уже не к антисистемным движениям, а к национальным элитам. Сейчас его проторенной дорогой следует уже целая толпа красконов.
Принцип рассуждения Брандмайра еще важен тем, что позволяет критиковать практические подходы к чтению, которые искусственно берут в скобки оба контекста: автора и аудитории. Например, такой, который среди многих коллег известен как аналитическое чтение. Читая исключительно текст и ничего более за его пределами, вы всегда неосознанно будете навязывать ему свои интерпретации, которые сами же не контролируете. Разумеется, и общественно-политический заряд при таком подходе также будет изменяться до неузнаваемости. Не надо так.
👏32👍28👎2
Коллеги-философы передают, что особенно ждут на свою междисциплинарную конференцию социологов, занимающихся медициной, гендером, социальными движениями. Короче, всем, что вовлекает анализ коллективных эмоций. Эх, жаль только, что упущен такой шанс назвать мероприятие «Эмоции наносят ответный удар»…
👍35