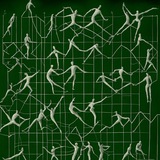Forwarded from pole.media
С момента своего рождения в XVII веке современная наука как процесс, а не результат оставалась тайной как для обывателя, так и для сильных мира сего. Философы и ученые занимались своими делами в стенах университетов, отвлекаясь только на обучение студентов. Вторая мировая война изменила все.
Ученые не просто были призваны в армию, они стали частью армии как социальная группа. Атомные проекты в США, а затем в СССР и в других странах требовали огромных средств и множества лучших умов, привлечение которых обеспечило государство. В силу сложности работы ученых и инженеров государство не могло непосредственно контролировать, что именно происходило в Лос-Аламосе или Озёрске.
Так происходит выдвижение крупных научных лидеров — таких как Роберт Оппенгеймер или Игорь Курчатов — на позиции государственных деятелей, наделенных огромными полномочиями. Со временем появляется целая группа «атомных академиков», людей которые должны были иметь дело с тайнами атомного ядра, примирять конфликты высоких умов в своих лабораториях и ориентироваться в хитросплетениях государственной политики.
Этим людям и тому, как они изменили облик современной науки, посвящена лекция доцента Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошколы) Тюменского государственного университета Михаила Пискунова.
🗓️Дата: 11 декабря 2023
⏰ Время: 16.00 CET (18.00 мск)
📝 Регистрация на встречу — https://pole.media/polyn
Ученые не просто были призваны в армию, они стали частью армии как социальная группа. Атомные проекты в США, а затем в СССР и в других странах требовали огромных средств и множества лучших умов, привлечение которых обеспечило государство. В силу сложности работы ученых и инженеров государство не могло непосредственно контролировать, что именно происходило в Лос-Аламосе или Озёрске.
Так происходит выдвижение крупных научных лидеров — таких как Роберт Оппенгеймер или Игорь Курчатов — на позиции государственных деятелей, наделенных огромными полномочиями. Со временем появляется целая группа «атомных академиков», людей которые должны были иметь дело с тайнами атомного ядра, примирять конфликты высоких умов в своих лабораториях и ориентироваться в хитросплетениях государственной политики.
Этим людям и тому, как они изменили облик современной науки, посвящена лекция доцента Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошколы) Тюменского государственного университета Михаила Пискунова.
🗓️Дата: 11 декабря 2023
⏰ Время: 16.00 CET (18.00 мск)
📝 Регистрация на встречу — https://pole.media/polyn
👍25👏6👎3
Цвет настроения серый
Отправил документы во все семь университетов, в которые хотел. Теперь остается просто ждать февраля, когда комиссии дадут обратную связь. Честно говоря, позитива ощущается мало.
Во-первых, чувствую колоссальную психологическую усталость. Летом думал, что если сократить преподавательскую нагрузку этой осенью, удастся в относительно расслабленном режиме сконцентрироваться на поступлении. Получилось, что сделал только хуже. Без постоянного взаимодействия со студентами слишком сильно погрузился в одни заявки и выгорел. Последние недели существую только за счет двойных доз квена и поддержки легендарной Лихининой.
Во-вторых, остался недоволен качеством заявок. Очень долго прорабатывал и кастомизировал стейтменты под программы, но в итоге перередактировал их. Потеряно чувство свежести и непосредственного понимания, чего я, собственно, хочу изучать. Понятно, что это субъективные впечатления, но вкупе с довольно низкой востребованностью социологии науки в американских уни и отсутствия каких-то бэнгеров в моем CV, типа статей на английском, кажется, что шансы куда-то отобраться довольно скромные.
В-третьих, впервые за несколько лет начал всерьез критически относиться к собственной карьере в академии. Такое последний раз было несколько лет назад, когда я работал рисерчером в музейной организации и чувствовал себя отлично. Но тогда из-за ряда случайных обстоятельств поперся в аспирантуру, чтобы стать настоящим ученым. Сейчас думаю, что, пережив нынешнюю кампанию, готов пережить еще одну в следующем году, но не больше. Хочется не вечно писать заявки, а работать – преподавать. Возможно, для психологического здоровья было бы лучше вернуться в школьное образование, откуда я пришел. Ну посмотрим.
Отправил документы во все семь университетов, в которые хотел. Теперь остается просто ждать февраля, когда комиссии дадут обратную связь. Честно говоря, позитива ощущается мало.
Во-первых, чувствую колоссальную психологическую усталость. Летом думал, что если сократить преподавательскую нагрузку этой осенью, удастся в относительно расслабленном режиме сконцентрироваться на поступлении. Получилось, что сделал только хуже. Без постоянного взаимодействия со студентами слишком сильно погрузился в одни заявки и выгорел. Последние недели существую только за счет двойных доз квена и поддержки легендарной Лихининой.
Во-вторых, остался недоволен качеством заявок. Очень долго прорабатывал и кастомизировал стейтменты под программы, но в итоге перередактировал их. Потеряно чувство свежести и непосредственного понимания, чего я, собственно, хочу изучать. Понятно, что это субъективные впечатления, но вкупе с довольно низкой востребованностью социологии науки в американских уни и отсутствия каких-то бэнгеров в моем CV, типа статей на английском, кажется, что шансы куда-то отобраться довольно скромные.
В-третьих, впервые за несколько лет начал всерьез критически относиться к собственной карьере в академии. Такое последний раз было несколько лет назад, когда я работал рисерчером в музейной организации и чувствовал себя отлично. Но тогда из-за ряда случайных обстоятельств поперся в аспирантуру, чтобы стать настоящим ученым. Сейчас думаю, что, пережив нынешнюю кампанию, готов пережить еще одну в следующем году, но не больше. Хочется не вечно писать заявки, а работать – преподавать. Возможно, для психологического здоровья было бы лучше вернуться в школьное образование, откуда я пришел. Ну посмотрим.
🙏118👍10👏5🤝4👌1
Пространство Блау
Михаил Соколов учил нас читать социологические тексты не только для работы, но и для удовольствия, в ванне и с бокалом вина. Я решил последовать заповеди в той части, которая про читать для удовольствия, и наконец-то одолеть основные работы Питера Блау. Только приступил, а впечатлений уже много. В один пост не влезут. Короче, астрологи объявляют неделю Питера Блау на этом канале.
Содержательно Блау со своим структурализмом многомерного социального пространства мне кажется довольно сильно похожим на Бурдье (поэтому и хочу познакомиться), но стилистически это совсем разные авторы. Если Бурдье – это бастард парижских салонов, то Блау – сухой сторонник австрийского постпозитивизма. Там, где у первого литературоцентричность, у второго – +100500 дедуктивных гипотез. Доведенные до предела, оба стиля меня немного раздражают, но что делать, если социология состоит из таких разных дисциплинарных культур. Если уж удовольствие, то извращенное.
Что касается содержания, то сходство в одном месте прямо совсем отчетливое. У Бурдье было две ключевых характеристики любого поля: господство–подчинение и автономия. У Блау в чем-то похожие свойства для всего пространства: неравенство и гетерогенность (так его главный теоретический трактат и называется). Вот это желание поженить Маркса и Дюркгейма для меня очень близко с точки зрения теоретического паззла.
Еще интересный ход. Как количественный социолог со стажем, Блау предлагает считать порядковые переменные выражающими измерение неравенства, а категориальные – гетерогенности. Явное упрощение, но такое смешивание методологией с теорией мне кажется очень остроумным. Ладно, читаем дальше. Извините, что пока так сумбурно.
Михаил Соколов учил нас читать социологические тексты не только для работы, но и для удовольствия, в ванне и с бокалом вина. Я решил последовать заповеди в той части, которая про читать для удовольствия, и наконец-то одолеть основные работы Питера Блау. Только приступил, а впечатлений уже много. В один пост не влезут. Короче, астрологи объявляют неделю Питера Блау на этом канале.
Содержательно Блау со своим структурализмом многомерного социального пространства мне кажется довольно сильно похожим на Бурдье (поэтому и хочу познакомиться), но стилистически это совсем разные авторы. Если Бурдье – это бастард парижских салонов, то Блау – сухой сторонник австрийского постпозитивизма. Там, где у первого литературоцентричность, у второго – +100500 дедуктивных гипотез. Доведенные до предела, оба стиля меня немного раздражают, но что делать, если социология состоит из таких разных дисциплинарных культур. Если уж удовольствие, то извращенное.
Что касается содержания, то сходство в одном месте прямо совсем отчетливое. У Бурдье было две ключевых характеристики любого поля: господство–подчинение и автономия. У Блау в чем-то похожие свойства для всего пространства: неравенство и гетерогенность (так его главный теоретический трактат и называется). Вот это желание поженить Маркса и Дюркгейма для меня очень близко с точки зрения теоретического паззла.
Еще интересный ход. Как количественный социолог со стажем, Блау предлагает считать порядковые переменные выражающими измерение неравенства, а категориальные – гетерогенности. Явное упрощение, но такое смешивание методологией с теорией мне кажется очень остроумным. Ладно, читаем дальше. Извините, что пока так сумбурно.
👏35👍23👌2✍1🤝1
Пространство Макфирсона
Давным-давно Чарльз Кули придумал термин прожорливых институтов (жадных, ненасытных, короче, greedy по-английски). К таким он относил те формы социальной организации, которые забирают у индивида все его время и силы, не оставляя их для других форм. Наиболее яркий пример – это монашеские ордена.
Ученик Блау Миллер Макфирсон развивает идею своего учителя о социальном пространстве, предлагая следующую модель. А что если все институты – прожорливые? Что если задача любой социальной формы – это потреблять человеческие время и силы? Просто у одних это получается лучше, чем у других. На первый взгляд, здесь возникает какая-то страшная картина паразитизма, но нет. Скорее, подойдет идея о симбиозе между людьми и обществом, где первые предоставляют свою энергию, а второе – когнитивные схемы, правила и т. п.
Макфирсон приводит пример из собственных исследований упадка волонтерских организаций в США. В начале XX века они успешно существовали за счет неоплачиваемого труда женщин. Потом женщины все чаще стали выходить на рынок труда и строить карьеры. Волонтерские организации не смогли привлечь никого на смену, и случился их закат. Короче, у прожорливого института кончилась социально-демографическая база.
Эта идея делает представление о социальном пространстве Блау более динамичным. Далекие от друг друга социальные формы конкурируют за тела и души. Близкие вступают в комплексные отношения этакого шеринга людьми. Социальное пространство непрерывно то сжимается, то расширяется в зависимости от доступности демографических ресурсов.
Мне очень нравится такое представление о социальном своим полным абстрагированием от индивидуальных действий, но, увы, его изнанкой является почти полное отсутствие нормативной рамки и деполитизация. Есть монашеские ордена, волонтерские организации, капиталистические корпорации, ЧВК. Между ними якобы нет никакой разницы в том, как именно они потребляют демографический ресурс. Впрочем, это, скорее, претензия к Макфирсону, чем к Блау. У последнего критическая роль социолога плохо прописана, но сохраняется.
Давным-давно Чарльз Кули придумал термин прожорливых институтов (жадных, ненасытных, короче, greedy по-английски). К таким он относил те формы социальной организации, которые забирают у индивида все его время и силы, не оставляя их для других форм. Наиболее яркий пример – это монашеские ордена.
Ученик Блау Миллер Макфирсон развивает идею своего учителя о социальном пространстве, предлагая следующую модель. А что если все институты – прожорливые? Что если задача любой социальной формы – это потреблять человеческие время и силы? Просто у одних это получается лучше, чем у других. На первый взгляд, здесь возникает какая-то страшная картина паразитизма, но нет. Скорее, подойдет идея о симбиозе между людьми и обществом, где первые предоставляют свою энергию, а второе – когнитивные схемы, правила и т. п.
Макфирсон приводит пример из собственных исследований упадка волонтерских организаций в США. В начале XX века они успешно существовали за счет неоплачиваемого труда женщин. Потом женщины все чаще стали выходить на рынок труда и строить карьеры. Волонтерские организации не смогли привлечь никого на смену, и случился их закат. Короче, у прожорливого института кончилась социально-демографическая база.
Эта идея делает представление о социальном пространстве Блау более динамичным. Далекие от друг друга социальные формы конкурируют за тела и души. Близкие вступают в комплексные отношения этакого шеринга людьми. Социальное пространство непрерывно то сжимается, то расширяется в зависимости от доступности демографических ресурсов.
Мне очень нравится такое представление о социальном своим полным абстрагированием от индивидуальных действий, но, увы, его изнанкой является почти полное отсутствие нормативной рамки и деполитизация. Есть монашеские ордена, волонтерские организации, капиталистические корпорации, ЧВК. Между ними якобы нет никакой разницы в том, как именно они потребляют демографический ресурс. Впрочем, это, скорее, претензия к Макфирсону, чем к Блау. У последнего критическая роль социолога плохо прописана, но сохраняется.
👍55👏8
Илья Смирнов (нет, не эпатажный музыкальный критик, а латурианец) продолжает свою серию видео-эссе про разнообразные направления в STS-исследованиях. Новый выпуск посвящен перформативности экономики, менеджмента, статистики. Мне немного не хватило упоминания моего любимого Дерозье, но зато Мертону нашлось место. Короче, найс.
👍28
Forwarded from Versia
Описывая реальность, социальные ученые ее создают?
На моем YouTube канале уже вышло третье видео, в рамках которого я вкратце рассказал о перформативности научного знания, сосредоточившись [пока что] только на социальных науках. От самоисполняющегося пророчества Мертона и теории речевых актов Остина до экономической перформативности Каллона и надзорного капитализма Зубофф.
На моем YouTube канале уже вышло третье видео, в рамках которого я вкратце рассказал о перформативности научного знания, сосредоточившись [пока что] только на социальных науках. От самоисполняющегося пророчества Мертона и теории речевых актов Остина до экономической перформативности Каллона и надзорного капитализма Зубофф.
👍26👏6
Бремя жизни на вершинах рейтингов
Вы знали историю соперничества Университета Гумбольдта и Свободного университета Берлина? Оба претендуют на право наследовать первому в мировой истории исследовательскому университету. Но если Гумбольдт долгое время был главным поставщиком кадров для элиты ГДР, то Фрай жил на деньги западных союзников Западного Берлина. Их траектории пересеклись после объединения Германии, но наследие Холодной войны сказывается на обоих до сих пор. Я вот узнал про это только сейчас из новой книги Уильяма Кирби об истории управления исследовательскими университетами.
Минус книги в том, что там нет четкой концепции или четкого послания. Иногда Кирби жалуется, что государственные университеты в США недостаточно финансируются, а иногда восхищается новой волной частных университетов в Германии. Иногда ругает КПК за нарушение университетской автономии, а иногда призывает будущих политических лидеров использовать университеты как инструмент глобальной конкуренции. Порою кажется, что автор, как и многие другие представители management studies, имеет настолько гибкий позвоночник, что готов продать любую модель управления. Зависит от покупателя. Тем не менее, книга вполне работает как набор скетчей по истории нескольких всемирно-известных университетов из Германии, США и Китая с фокусом на их управлении.
Один из кейсов Кирби – это успех Университета Дьюка, который имеет нетипичную для частных американских университетов централизированную систему управления. Кирби описывает Дьюк как своего рода восточноазиатское государство развития среди академических организаций. Далеко отставая от конкурентов из Лиги плюща, Дьюк добился больших результатов за счет планомерной координации деятельности факультетов и центров, начиная с конца 1950-х гг. Кирби приводит в качестве контрастного негативного примера своей родной Гарвард, где руководители подразделений вечно ветируют любые инициативы ректората.
Другой кейс – это борьба за выживание Университета Гонконга. Это единственный китайский университет, где преподавание ведется исключительно на английском и где можно найти практически любую учебную программу по западным стандартам, включая gender studies. Вместе с тем, китайские континентальные гиганты типа Цинхуа могут демпинговать цены на обучение, а Университет Сингапура – гарантировать свободу от вмешательства партийных чиновников. Гонконг получается и ни туда, и ни сюда, что все больше подрывает его популярность среди студентов. Печальная судьба.
Вы знали историю соперничества Университета Гумбольдта и Свободного университета Берлина? Оба претендуют на право наследовать первому в мировой истории исследовательскому университету. Но если Гумбольдт долгое время был главным поставщиком кадров для элиты ГДР, то Фрай жил на деньги западных союзников Западного Берлина. Их траектории пересеклись после объединения Германии, но наследие Холодной войны сказывается на обоих до сих пор. Я вот узнал про это только сейчас из новой книги Уильяма Кирби об истории управления исследовательскими университетами.
Минус книги в том, что там нет четкой концепции или четкого послания. Иногда Кирби жалуется, что государственные университеты в США недостаточно финансируются, а иногда восхищается новой волной частных университетов в Германии. Иногда ругает КПК за нарушение университетской автономии, а иногда призывает будущих политических лидеров использовать университеты как инструмент глобальной конкуренции. Порою кажется, что автор, как и многие другие представители management studies, имеет настолько гибкий позвоночник, что готов продать любую модель управления. Зависит от покупателя. Тем не менее, книга вполне работает как набор скетчей по истории нескольких всемирно-известных университетов из Германии, США и Китая с фокусом на их управлении.
Один из кейсов Кирби – это успех Университета Дьюка, который имеет нетипичную для частных американских университетов централизированную систему управления. Кирби описывает Дьюк как своего рода восточноазиатское государство развития среди академических организаций. Далеко отставая от конкурентов из Лиги плюща, Дьюк добился больших результатов за счет планомерной координации деятельности факультетов и центров, начиная с конца 1950-х гг. Кирби приводит в качестве контрастного негативного примера своей родной Гарвард, где руководители подразделений вечно ветируют любые инициативы ректората.
Другой кейс – это борьба за выживание Университета Гонконга. Это единственный китайский университет, где преподавание ведется исключительно на английском и где можно найти практически любую учебную программу по западным стандартам, включая gender studies. Вместе с тем, китайские континентальные гиганты типа Цинхуа могут демпинговать цены на обучение, а Университет Сингапура – гарантировать свободу от вмешательства партийных чиновников. Гонконг получается и ни туда, и ни сюда, что все больше подрывает его популярность среди студентов. Печальная судьба.
👍43👏6
Люблю Кропоткина за оптимистический дух Просвещения, который подзабыт многими современными анархистами, впадающими в эстетизацию своих аффектов. Круто, что «Эгалите» взялись за такое роскошное переиздание Петра Алексеевича. Еще круче, что это находит отклик у аудитории.
👍44
Forwarded from ЭГАЛИТÉ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Такого не было в истории нашего коллектива ещё никогда. За меньше, чем неделю вы помогли нам собрать 100 тысяч рублей на переиздание сложнейшей, но богатой и увлекательной книги, которую мы очень любим — и любовью к которой хотим поделиться с вами.
Сейчас нам предстоят последние правки перед тем, как отправить Кропоткина в типографию. Вычитка текста, сверка перевода предисловия, поиск опечаток и внесение всех-всех благодарностей на последнюю страницу.
Мы очень счастливы тому, что этот список — огромен и очень благодарны вам за поддержку и добрые слова
Книжка увидит свет в середине января. Как только в типографиях застучат станки, мы дадим вам знать о точных датах релиза.
Заказать книжку можно будет у нас тут
Помимо этого, уже этой зимой у нас будет ещё один важный анонс — следите за обновлениями
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30🤝2
Книга года
Коллега запустил опрос о том, сколько монографий вы прочитали за прошедший год от корки до корки. Я вот подумал и понял, что от корки до корки практически ничего не читаю. Только те куски, которые нужны для работы. Эстетическое и/или религиозное измерение академического чтения почти пропало из моей жизни, но я не скажу, что сильно жалею об этом. Мне нравится, что я сейчас читаю намного эффективнее и аналитически, чем раньше. Но есть одно исключение. Это книга Моники Краузе «Модельные кейсы», которую я мало что прочитал полностью, но и потом много раз перечитывал отдельные части.
Пересказывать работу не имеет большого смысла, потому что она наполовину представляет из себя довольно виртуозную сравнительную этнографию академических дисциплин. В ней нельзя выделить какие-то обобщающие тезисы, а нужно следить за тонкими наблюдениями автора за жизнью разных ученых гуманитариев. Краузе на одной странице описывает то, как историки ходят в архивы, а на следующей странице уже то, как литературоведы отбирают тексты для канона. Постоянное переключение между разными практиками создает впечатляющий эффект уничтожения естественной установки каждой из описанных дисциплин. Любому вдумчивому читателю становится понятно, что в академии нет самих самой разумеющихся режимов, а Краузе и сама метаиронично относится и к своей работе качественного социолога.
Другая условная половина книги – теоретическая. И она тоже мощнейшая. Объединяющий рефрен всех глав в том, что объект исследования сопроизводит научное знание с учеными. В принципе, классический провокативный тезис АСТ, но Краузе делает его одновременно менее радикальным и более убедительным. Ведь объект в соцгум науках – это сами люди. Особенно Краузе привлекает сюжет спонсорства – того, как разные люди поощряют исследования самих себя. В основном финансово, но не только. Его, например, иллюстрирует история о том, как разные организации в Чикаго повлияли на создание и развитие Чикагской школы в социологии города.
Часто приходится слышать, что социология интеллектуально застряла в XX веке, когда сложились современные отрасли дисциплины и была написана актуальная классика. Это отчасти правда. С теми золотыми временами мало что сравнится. Но книга Краузе показывает, что по-настоящему творческая и прорывная интеллектуальная работа возможна и сегодня. Для меня «Модельные кейсы» встали на одну воображаемую полку с «Homo Academicus» Бурдье, «Хаосом дисциплин» Эбботта, «Закатом немецких мандаринов» Рингера, «Социологией философий» Коллинза… И неизвестно, для кого это большая честь: для Краузе или для ее предшественников.
Коллега запустил опрос о том, сколько монографий вы прочитали за прошедший год от корки до корки. Я вот подумал и понял, что от корки до корки практически ничего не читаю. Только те куски, которые нужны для работы. Эстетическое и/или религиозное измерение академического чтения почти пропало из моей жизни, но я не скажу, что сильно жалею об этом. Мне нравится, что я сейчас читаю намного эффективнее и аналитически, чем раньше. Но есть одно исключение. Это книга Моники Краузе «Модельные кейсы», которую я мало что прочитал полностью, но и потом много раз перечитывал отдельные части.
Пересказывать работу не имеет большого смысла, потому что она наполовину представляет из себя довольно виртуозную сравнительную этнографию академических дисциплин. В ней нельзя выделить какие-то обобщающие тезисы, а нужно следить за тонкими наблюдениями автора за жизнью разных ученых гуманитариев. Краузе на одной странице описывает то, как историки ходят в архивы, а на следующей странице уже то, как литературоведы отбирают тексты для канона. Постоянное переключение между разными практиками создает впечатляющий эффект уничтожения естественной установки каждой из описанных дисциплин. Любому вдумчивому читателю становится понятно, что в академии нет самих самой разумеющихся режимов, а Краузе и сама метаиронично относится и к своей работе качественного социолога.
Другая условная половина книги – теоретическая. И она тоже мощнейшая. Объединяющий рефрен всех глав в том, что объект исследования сопроизводит научное знание с учеными. В принципе, классический провокативный тезис АСТ, но Краузе делает его одновременно менее радикальным и более убедительным. Ведь объект в соцгум науках – это сами люди. Особенно Краузе привлекает сюжет спонсорства – того, как разные люди поощряют исследования самих себя. В основном финансово, но не только. Его, например, иллюстрирует история о том, как разные организации в Чикаго повлияли на создание и развитие Чикагской школы в социологии города.
Часто приходится слышать, что социология интеллектуально застряла в XX веке, когда сложились современные отрасли дисциплины и была написана актуальная классика. Это отчасти правда. С теми золотыми временами мало что сравнится. Но книга Краузе показывает, что по-настоящему творческая и прорывная интеллектуальная работа возможна и сегодня. Для меня «Модельные кейсы» встали на одну воображаемую полку с «Homo Academicus» Бурдье, «Хаосом дисциплин» Эбботта, «Закатом немецких мандаринов» Рингера, «Социологией философий» Коллинза… И неизвестно, для кого это большая честь: для Краузе или для ее предшественников.
👍86👏4👎1🤝1
Формация Спинозы
У Этьена Балибара есть книжка, где он пытается дать свою оригинальную интерпретацию Спинозы и спорит с собеседниками из левого лагеря типа Делеза и Негри. Честно сказать, в этой полемике между современными философами я разбираюсь в лучшем случае по-любительски. Лучше спросите легендарного Сюткина, в чем там главный прикол. Но мне близки те разделы книги, которые по сути являются спонтанной социологией соцгум знания.
Балибар вскрывает подоплеку сочинений Спинозы, находя ее в социальных противоречиях раннекапиталистического общества Соединенных провинций. Республиканцы – ориентированная на глобальную торговлю фракция буржуазии – топят за веротерпимость. Они готовы сосуществовать и с разными протестантскими движениями, и с католиками, и с евреями. Другая фракция правящего класса – Оранжисты. Они привязаны к землевладению и начхали на религиозные свободы меньшинств. Для них кальвинизм должен стать единственной и беспрекословной верой, объединяющей народ вокруг статхаудера.
Спиноза, изгнанный из еврейской общины за ересь, конечно, тяготеет к Республиканцам. Они по крайней мере считают его за человека. Однако он видит в их доктрине индивидуального выбора веры слабость, которая не дает сторонникам республики серьезно объединиться вокруг позитивной программы. Согласно Спинозе, Республиканцы просто не врубаются, что такое религия и почему она важна для политического строя. Он пытается предложить какую-то версию гражданского культа, но его мало кто слушает. Оранжисты в итоге переманивают на свою сторону нижние слои и разгромно выигрывают религиозно-политическую борьбу. (Тут очень соблазнительно усмотреть параллели между тем кальвинизмом и сегодняшними правыми популистами.)
Основа социологии знания Балибара – творческий марксизм. Разумеется, он в первую очередь ищет причины распространения тех или иных идей в экономическом базисе общества, но при этом, во-первых, признает автономию религии, а, во-вторых, самой философии, которая именно через труды Спинозы постепенно обретает собственную проблематику, эмансипируясь от теологии. В итоге у Балибара и собственный философский метод обнаружения противоречий обосновывается социологически! По крайней мере частично. Хотелось бы, чтоб больше философов следовало его примеру, укореняя свою мысль в социальных структурах.
У Этьена Балибара есть книжка, где он пытается дать свою оригинальную интерпретацию Спинозы и спорит с собеседниками из левого лагеря типа Делеза и Негри. Честно сказать, в этой полемике между современными философами я разбираюсь в лучшем случае по-любительски. Лучше спросите легендарного Сюткина, в чем там главный прикол. Но мне близки те разделы книги, которые по сути являются спонтанной социологией соцгум знания.
Балибар вскрывает подоплеку сочинений Спинозы, находя ее в социальных противоречиях раннекапиталистического общества Соединенных провинций. Республиканцы – ориентированная на глобальную торговлю фракция буржуазии – топят за веротерпимость. Они готовы сосуществовать и с разными протестантскими движениями, и с католиками, и с евреями. Другая фракция правящего класса – Оранжисты. Они привязаны к землевладению и начхали на религиозные свободы меньшинств. Для них кальвинизм должен стать единственной и беспрекословной верой, объединяющей народ вокруг статхаудера.
Спиноза, изгнанный из еврейской общины за ересь, конечно, тяготеет к Республиканцам. Они по крайней мере считают его за человека. Однако он видит в их доктрине индивидуального выбора веры слабость, которая не дает сторонникам республики серьезно объединиться вокруг позитивной программы. Согласно Спинозе, Республиканцы просто не врубаются, что такое религия и почему она важна для политического строя. Он пытается предложить какую-то версию гражданского культа, но его мало кто слушает. Оранжисты в итоге переманивают на свою сторону нижние слои и разгромно выигрывают религиозно-политическую борьбу. (Тут очень соблазнительно усмотреть параллели между тем кальвинизмом и сегодняшними правыми популистами.)
Основа социологии знания Балибара – творческий марксизм. Разумеется, он в первую очередь ищет причины распространения тех или иных идей в экономическом базисе общества, но при этом, во-первых, признает автономию религии, а, во-вторых, самой философии, которая именно через труды Спинозы постепенно обретает собственную проблематику, эмансипируясь от теологии. В итоге у Балибара и собственный философский метод обнаружения противоречий обосновывается социологически! По крайней мере частично. Хотелось бы, чтоб больше философов следовало его примеру, укореняя свою мысль в социальных структурах.
👏29👍13✍4👌1
Гуманитариям здесь не место
Вчера с третьей попытки удалось показать легендарной Лихининой Новосибирской Академгородок: сосновый лес, проспекты, общежития интерната СУНЦ. Добрый вахтер даже позволил нам попасть в Лабораторный корпус. Правда, полноценного вечера воспоминаний не получилось. Теперь в Лабе на месте исторических аудиторий этаж химиков. Да и самого Гуманитарного факультета нет – всех слили в один зонтичный институт еще несколько лет назад и перевезли в новое здание. Рад, что НГУ продолжает разрастаться, но, увы, гуманитарные специальности от этого почти ничего не выигрывают.
Одновременно пришла печальная новость из Тюмени. Там упраздняют «Антропошколу» – уникальную коллаборацию географов и историков по изучению сибирской экологии. Тоже на фоне слияния подразделений и экономии денег на строительство нового корпуса. Формулировки про повышение эффективности снова одни и те же.
Осуждать цензуру в социальных и гуманитарных науках – это важно, но слишком мало говорят о неолиберальных мерах по сокращению всего живого. От них страдает куда больше работников академического сектора, но про это толком никто и не знает. Тихо сокращаются кадры. Так же тихо, как снег падает в Академгородке.
Вчера с третьей попытки удалось показать легендарной Лихининой Новосибирской Академгородок: сосновый лес, проспекты, общежития интерната СУНЦ. Добрый вахтер даже позволил нам попасть в Лабораторный корпус. Правда, полноценного вечера воспоминаний не получилось. Теперь в Лабе на месте исторических аудиторий этаж химиков. Да и самого Гуманитарного факультета нет – всех слили в один зонтичный институт еще несколько лет назад и перевезли в новое здание. Рад, что НГУ продолжает разрастаться, но, увы, гуманитарные специальности от этого почти ничего не выигрывают.
Одновременно пришла печальная новость из Тюмени. Там упраздняют «Антропошколу» – уникальную коллаборацию географов и историков по изучению сибирской экологии. Тоже на фоне слияния подразделений и экономии денег на строительство нового корпуса. Формулировки про повышение эффективности снова одни и те же.
Осуждать цензуру в социальных и гуманитарных науках – это важно, но слишком мало говорят о неолиберальных мерах по сокращению всего живого. От них страдает куда больше работников академического сектора, но про это толком никто и не знает. Тихо сокращаются кадры. Так же тихо, как снег падает в Академгородке.
🙏85🤝6👍4👎3👏1
Структура визуализированная
Во время постновогоднего лимба я неожиданно для себя залез в хайповоз Кандинского и стал визуализировать разные социологические образы, которые приходили на ум. Процесс оказался невероятно медитативным. Машина не всегда откликается правильно, но зато иногда выводит на неожиданные визуализации. Можно среагировать на ее пас и переформулировать промпт чуть в другую сторону.
Мне так понравилось, что я решил поставить самую любимую из получившихся картинок на аватарку канала. Все-таки предыдущая висит с момента его создания, а надо двигаться дальше!
Ставьте лойсы (дизлойсы), если вам нравится (нет)! И всех поздравляю с наступившим!
Во время постновогоднего лимба я неожиданно для себя залез в хайповоз Кандинского и стал визуализировать разные социологические образы, которые приходили на ум. Процесс оказался невероятно медитативным. Машина не всегда откликается правильно, но зато иногда выводит на неожиданные визуализации. Можно среагировать на ее пас и переформулировать промпт чуть в другую сторону.
Мне так понравилось, что я решил поставить самую любимую из получившихся картинок на аватарку канала. Все-таки предыдущая висит с момента его создания, а надо двигаться дальше!
Ставьте лойсы (дизлойсы), если вам нравится (нет)! И всех поздравляю с наступившим!
👍156👎9🤝7🙏2
Постпанки читают даму
Позабавила история о том, как британский профессор и бывший научный директор околоблэровского аналитического центра Demos Дэвид Эшворт официально поменял свое имя на Перри 6 (Perri 6). По его собственному признанию, потому что очень хотел увидеть в серьезной академической публикации сокращение «6, P.» Смотрится прикольно, но ценой того, что нагуглить его работы практически невозможно. Да и Леву Би-2 по оригинальности он вряд ли переплюнул.
Как я вообще про него узнал? Перри 6 – соавтор двух недавних книг про Мэри Дуглас. В первой он со своим коллегой Полом Ричардсом пытается необычно интерпретировать Дуглас не как католическую идеалистку, а как теоретика социальных конфликтов и их разрешения. Необычная перспектива, но, несомненно, оправданная.
Вторая книга – более конвенциональная интеллектуальная биография с разбором эволюции идей дамы от ранних полевых этнографических зарисовок в Конго до поздней структуралистской метатеории культуры. Про жизнь и идеи Дуглас уже выходила толстенная монография Ричарда Фэрдона. Он и здесь упомянут в благодарностях как первый читатель и критик рукописи. Однако книга 6 и Ричардса более сжатая и пунктирная, написанная для студентов.
Закончу пост кратким тизером. После новогодних каникул начну набор на курс по структуралисткому воображению в социологической теории. Полный анонс будет через неделю. Наконец-то появится возможность серьезно поразмышлять об идеях Дуглас и других очень важных для меня авторов, к которым я давно не возвращался: Маркса, Зиммеля, Валлерстайна... Надеюсь, что найдутся желающие перечитать их со мной.
Позабавила история о том, как британский профессор и бывший научный директор околоблэровского аналитического центра Demos Дэвид Эшворт официально поменял свое имя на Перри 6 (Perri 6). По его собственному признанию, потому что очень хотел увидеть в серьезной академической публикации сокращение «6, P.» Смотрится прикольно, но ценой того, что нагуглить его работы практически невозможно. Да и Леву Би-2 по оригинальности он вряд ли переплюнул.
Как я вообще про него узнал? Перри 6 – соавтор двух недавних книг про Мэри Дуглас. В первой он со своим коллегой Полом Ричардсом пытается необычно интерпретировать Дуглас не как католическую идеалистку, а как теоретика социальных конфликтов и их разрешения. Необычная перспектива, но, несомненно, оправданная.
Вторая книга – более конвенциональная интеллектуальная биография с разбором эволюции идей дамы от ранних полевых этнографических зарисовок в Конго до поздней структуралистской метатеории культуры. Про жизнь и идеи Дуглас уже выходила толстенная монография Ричарда Фэрдона. Он и здесь упомянут в благодарностях как первый читатель и критик рукописи. Однако книга 6 и Ричардса более сжатая и пунктирная, написанная для студентов.
Закончу пост кратким тизером. После новогодних каникул начну набор на курс по структуралисткому воображению в социологической теории. Полный анонс будет через неделю. Наконец-то появится возможность серьезно поразмышлять об идеях Дуглас и других очень важных для меня авторов, к которым я давно не возвращался: Маркса, Зиммеля, Валлерстайна... Надеюсь, что найдутся желающие перечитать их со мной.
👏46👍30🤝3👎1
Структурализм как стиль мышления
На самом деле я только сейчас серьезно поставил перед собой этот вопрос, чтобы понять, чем объединить разные идеи разных теоретиков, которые будут обсуждаться в курсе. Может показаться, что общего между той же Мэри Дуглас, Зиммелем и Валлерстайном совсем немного. Тем не менее, я думаю, что можно выделить единый структуралистский стиль мышления в социологической теории. Вот его три основные черты.
Во-первых, это признание существования независимых коллективных социальных образований, больших, чем единичные индивидуальные практики, взаимодействия, обмены. Примером могут служить семьи, организации, социальные движения... Или даже целые сферы деятельности. Например, футбол или рок. Все они существуют в известной степени отдельно от действий индивидов. Стиви Джи давно закончил карьеру, но Ливерпуль все так же играет в АПЛ. Какие-то панки давно сторчались или стали яппи, но панк как стиль жизни или стиль искусства жив.
Во-вторых, простого признания существования недостаточно. Важно, что структуры теперь влияют на поведение составляющих его частей. Мы в своих действиях ориентируемся на них. Сознательно или бессознательно. Увязая в ограничениях или получая новые возможности. Кому-то может показаться, что это очередное репрессивное сведение части к целому, но нет. Структуры – комплексны и порождают внутри себя плюрализм. Те структуры, которые подавляют его, обычно не существуют долго.
В-третьих, идея о том, что необходимо изучать социальные образования с помощью теоретико-дедуктивных схем. Если социальные образования действительно преодолевают в масштабе отдельные действия, то и опытные данные о них дадут только частичную и искаженную картину их устройства. Так что нужно разобраться в логических отношения. Это совсем не отказ от эмпирики. Это лишь предложение сперва уделить внимание концептуальному аппарату, а потом уже собирать данные.
На самом деле я только сейчас серьезно поставил перед собой этот вопрос, чтобы понять, чем объединить разные идеи разных теоретиков, которые будут обсуждаться в курсе. Может показаться, что общего между той же Мэри Дуглас, Зиммелем и Валлерстайном совсем немного. Тем не менее, я думаю, что можно выделить единый структуралистский стиль мышления в социологической теории. Вот его три основные черты.
Во-первых, это признание существования независимых коллективных социальных образований, больших, чем единичные индивидуальные практики, взаимодействия, обмены. Примером могут служить семьи, организации, социальные движения... Или даже целые сферы деятельности. Например, футбол или рок. Все они существуют в известной степени отдельно от действий индивидов. Стиви Джи давно закончил карьеру, но Ливерпуль все так же играет в АПЛ. Какие-то панки давно сторчались или стали яппи, но панк как стиль жизни или стиль искусства жив.
Во-вторых, простого признания существования недостаточно. Важно, что структуры теперь влияют на поведение составляющих его частей. Мы в своих действиях ориентируемся на них. Сознательно или бессознательно. Увязая в ограничениях или получая новые возможности. Кому-то может показаться, что это очередное репрессивное сведение части к целому, но нет. Структуры – комплексны и порождают внутри себя плюрализм. Те структуры, которые подавляют его, обычно не существуют долго.
В-третьих, идея о том, что необходимо изучать социальные образования с помощью теоретико-дедуктивных схем. Если социальные образования действительно преодолевают в масштабе отдельные действия, то и опытные данные о них дадут только частичную и искаженную картину их устройства. Так что нужно разобраться в логических отношения. Это совсем не отказ от эмпирики. Это лишь предложение сперва уделить внимание концептуальному аппарату, а потом уже собирать данные.
👍51✍14👏8👌2👎1
У «Структуры» сегодня день рождения! Решил, что лучший способ отпраздновать эту дату – это откликнуться на предложение Дмитрия Прокофьева и ассистировать ему в составлении списка топовых академических каналов по соцгум тематике. Пост ниже – первый из серии. Следите за обновлениями! И, конечно, спасибо всем, кто все эти три года комментил и лайкал! Без вашей обратной связи я бы не продержался так долго.
👍61👏16
Forwarded from Деньги и песец
Умные люди. В канун «Cтарого Нового года» я рад предложить уважаемым читателям несколько «умных каналов» (в том смысле, что ведут их умные люди, к мнению и аргументам которых имеет смысл прислушаться), и особо хочу поблагодарить уважаемых коллег @structurestrikesback за их рекомендации и советы – кого читать и о чем подумать.
@AnthropoLOGS - Взгляд антропологов. Общество, культура, гуманитарные и социальные науки: антропология-этнология-этнография и вот это вот всё
@blackberryanthro - Канал об антропологической теории и социальных исследованиях
@nizgoraev2 - Аналитика, гипотезы, суждения о социальной политике. Новости научного общения.
@archizba - канал об антропологии архитектуры и архитекторов (а еще об урбанистике, городах, деревнях, и, конечно, об избах, которые автор субъективно считает величайшими сооружениями человечества)
@datastudies - канал о том, как (цифровые) технологии и данные меняют общество (и как они этим обществом делаются, оспариваются и меняют свое значение)
@theversia - о том, как социальные науки осмысляют столкновение культурного и технологического
@philosophero - Философская публицистика — остро и нежно одновременно
@structurestrikesback Канал о социологической теории и исследованиях социальных и гуманитарных наук (SSSH)
@AnthropoLOGS - Взгляд антропологов. Общество, культура, гуманитарные и социальные науки: антропология-этнология-этнография и вот это вот всё
@blackberryanthro - Канал об антропологической теории и социальных исследованиях
@nizgoraev2 - Аналитика, гипотезы, суждения о социальной политике. Новости научного общения.
@archizba - канал об антропологии архитектуры и архитекторов (а еще об урбанистике, городах, деревнях, и, конечно, об избах, которые автор субъективно считает величайшими сооружениями человечества)
@datastudies - канал о том, как (цифровые) технологии и данные меняют общество (и как они этим обществом делаются, оспариваются и меняют свое значение)
@theversia - о том, как социальные науки осмысляют столкновение культурного и технологического
@philosophero - Философская публицистика — остро и нежно одновременно
@structurestrikesback Канал о социологической теории и исследованиях социальных и гуманитарных наук (SSSH)
👍29👏7
Набор на онлайн-курс по структурной социологии
Категория социальной структуры практически забыта в современных дискурсах академии и медиа. Для кого-то структур вообще не существует, а общество является не более чем суммой индивидов, обменивающихся друг с другом товарами и услугами. Для других структуры имеют значение, но только как оковы, которые должны быть скорее разрушены ради освобождения репрессированных идентичностей.
Онлайн-курс «Структурное воображение в социологии» направлен на обоснование решающего влияния объективно существующих коллективных паттернов на любую социальную жизнь. Знакомясь с аргументами классиков дисциплины (Маркса, Зиммеля, Бурдье, Валлерстайна и др.), слушатели научатся обнаруживать следы социальных структур в своей повседневности. Обсуждая современные эмпирические исследования, участники курса познакомятся с многообразием структурных методов анализа и типов данных.
Курс направлен на широкую аудиторию от студентов общественно-научных и гуманитарных специальностей до любителей интеллектуального досуга. Автор курса – социолог, однако лекции и семинары не имеют жестких дисциплинарных рамок и будут интересны политологам, историкам, философам.
Участие в курсе подразумевает оплату. Спешите забронировать для себя место! Для этого нужно написать @theghostagainstthemachine, представившись и рассказав пару слов о себе в качестве знакомства. По сложившейся традиции предусмотрены и бюджетные места – на этот раз целых шесть! Их займут победители конкурса мотивационных писем, которые можно направлять до 2 февраля на гугл-форму.
Присоединяйтесь! Делитесь с друзьями с коллегами! На ваши вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.
Категория социальной структуры практически забыта в современных дискурсах академии и медиа. Для кого-то структур вообще не существует, а общество является не более чем суммой индивидов, обменивающихся друг с другом товарами и услугами. Для других структуры имеют значение, но только как оковы, которые должны быть скорее разрушены ради освобождения репрессированных идентичностей.
Онлайн-курс «Структурное воображение в социологии» направлен на обоснование решающего влияния объективно существующих коллективных паттернов на любую социальную жизнь. Знакомясь с аргументами классиков дисциплины (Маркса, Зиммеля, Бурдье, Валлерстайна и др.), слушатели научатся обнаруживать следы социальных структур в своей повседневности. Обсуждая современные эмпирические исследования, участники курса познакомятся с многообразием структурных методов анализа и типов данных.
Курс направлен на широкую аудиторию от студентов общественно-научных и гуманитарных специальностей до любителей интеллектуального досуга. Автор курса – социолог, однако лекции и семинары не имеют жестких дисциплинарных рамок и будут интересны политологам, историкам, философам.
Участие в курсе подразумевает оплату. Спешите забронировать для себя место! Для этого нужно написать @theghostagainstthemachine, представившись и рассказав пару слов о себе в качестве знакомства. По сложившейся традиции предусмотрены и бюджетные места – на этот раз целых шесть! Их займут победители конкурса мотивационных писем, которые можно направлять до 2 февраля на гугл-форму.
Присоединяйтесь! Делитесь с друзьями с коллегами! На ваши вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.
👏58👍19👎4✍1
Полгода назад писал о лекции Вячеслава про применение Лакло и Муфф к международным отношениям, а тут такое. Пока совсем непонятно, в чем мотивация эстонских силовиков: провокация, месть, ошибка или что-то иное. Понятно только, что российским ученым чувствовать себя в безопасности уже нигде нельзя.
🙏26✍7👍3👎1🤝1