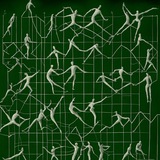Forwarded from РБК. Новости. Главное
В Эстонии задержали профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в «разведывательной деятельности», сообщает ERR со ссылкой на прокуратуру.
Он был арестован 3 января на два месяца, вуз объявил о прекращении трудовых отношений с Морозовым.
Морозов — профессор политологии в Институте Шютте Тартуского университета. До 2023 года он занимался исследованиями Европейского союза и России, а с сентября 2023 года — международной политической теорией.
Он был арестован 3 января на два месяца, вуз объявил о прекращении трудовых отношений с Морозовым.
Морозов — профессор политологии в Институте Шютте Тартуского университета. До 2023 года он занимался исследованиями Европейского союза и России, а с сентября 2023 года — международной политической теорией.
🙏33🖕6👍5👎4✍1
Лаборатория Дуглас
Наткнулся на хрестоматию, составленную Мэри Дуглас по следам ее курса в UCL по антропологии повседневности в 1973 году. Это время ознаменовало ее прыжок из более эмпирических ранних работ к каркасу теории социальной организации символов, которая принесла ей позднейшую известность. По подборке как раз можно понять, кем она вдохновлялась, чтобы совершить подобную трансформацию.
Одна группа авторов довольно предсказуема. Это различные представители дюркгеймианской традиции в социологии и социальной антропологии: понятно, что сам Дюркгейм, а также Мосс, Роберт Герц, Бэзил Бернштайн и, что характерно, тогда еще молодой и малоизвестный в англоязычной академии Пьер Бурдье.
Вторая группа – это самые разные феноменологи: Гуссерль, Шюц, Гарфинкель, Витгенштейн (ок-ок, последний не вполне феноменолог, но вы поняли идею). Теперь я, кажется, просек, откуда и зачем взялся флирт структуралистки Дуглас с этнометодологией в более поздних работах. Жду не дождусь, чтобы обсудить это на курсе.
Но есть самая неожиданная на первый взгляд группа текстов, которую я бы определил в рубрику «разное». Тут отрывки и из нобелевского романа Германа Гессе, и из анонимного средневекового жизнеописания Франциска Ассизского, и даже из лекции экспериментального композитора Джона Кейджа про время. Ну того, который написал 4’33’’. Прокомментирую лишь одним словом: красиво!
Наткнулся на хрестоматию, составленную Мэри Дуглас по следам ее курса в UCL по антропологии повседневности в 1973 году. Это время ознаменовало ее прыжок из более эмпирических ранних работ к каркасу теории социальной организации символов, которая принесла ей позднейшую известность. По подборке как раз можно понять, кем она вдохновлялась, чтобы совершить подобную трансформацию.
Одна группа авторов довольно предсказуема. Это различные представители дюркгеймианской традиции в социологии и социальной антропологии: понятно, что сам Дюркгейм, а также Мосс, Роберт Герц, Бэзил Бернштайн и, что характерно, тогда еще молодой и малоизвестный в англоязычной академии Пьер Бурдье.
Вторая группа – это самые разные феноменологи: Гуссерль, Шюц, Гарфинкель, Витгенштейн (ок-ок, последний не вполне феноменолог, но вы поняли идею). Теперь я, кажется, просек, откуда и зачем взялся флирт структуралистки Дуглас с этнометодологией в более поздних работах. Жду не дождусь, чтобы обсудить это на курсе.
Но есть самая неожиданная на первый взгляд группа текстов, которую я бы определил в рубрику «разное». Тут отрывки и из нобелевского романа Германа Гессе, и из анонимного средневекового жизнеописания Франциска Ассизского, и даже из лекции экспериментального композитора Джона Кейджа про время. Ну того, который написал 4’33’’. Прокомментирую лишь одним словом: красиво!
👍54🙏3👎2👏2🤝1
История советской социологии
На собеседовании в магистратуру ЕУСПб мне со всех сторон сыпались вопросы с подвохом. Чтобы совсем не поплыть, я избрал образ наигранно уверенного в себе агрессивного подростка. Самый последний вопрос был от Бориса Максимовича Фирсова: «Андрей, вот вы хотите изучать своих собственных коллег, но что, если в процессе исследования о них вскроется что-то негативное, нелицеприятное? Вы не думаете, что встанете перед этической дилеммой?» Я сразу парировал: «Научная объективность намного важнее отношений с коллегами!» Борис Максимович сделал вид, что ответом удовлетворен.
Потом мне удалось еще раза полтора посмолточить с ним где-то в кулуарах, но вот эта первая интеракция осталась самой осмысленной. Наверное, первый раз в жизни мне задали вопрос о рефлексивности социологии, но я был слишком необразован, чтобы понять его важность. Куда более осознанным для меня потом стал воображаемый разговор с Борисом Максимовичем через чтение «Истории советской социологии». При всех мемуарных ограничениях это до сих пор такая база, которую необходимо прочитать любому, кто хочет что-то узнать о предмете.
Для меня уход Бориса Максимовича именно сейчас глубоко символичен. Он был активным действующим лицом всех эпох нашей социологии, о которых потом писал: от оттепельных мечтаний до раннепутинской наигранной уверенности в себе. Всего этого теперь больше нет. История социологии должна писаться без него, но я пока не уверен, что мы сможем это дело потянуть.
На собеседовании в магистратуру ЕУСПб мне со всех сторон сыпались вопросы с подвохом. Чтобы совсем не поплыть, я избрал образ наигранно уверенного в себе агрессивного подростка. Самый последний вопрос был от Бориса Максимовича Фирсова: «Андрей, вот вы хотите изучать своих собственных коллег, но что, если в процессе исследования о них вскроется что-то негативное, нелицеприятное? Вы не думаете, что встанете перед этической дилеммой?» Я сразу парировал: «Научная объективность намного важнее отношений с коллегами!» Борис Максимович сделал вид, что ответом удовлетворен.
Потом мне удалось еще раза полтора посмолточить с ним где-то в кулуарах, но вот эта первая интеракция осталась самой осмысленной. Наверное, первый раз в жизни мне задали вопрос о рефлексивности социологии, но я был слишком необразован, чтобы понять его важность. Куда более осознанным для меня потом стал воображаемый разговор с Борисом Максимовичем через чтение «Истории советской социологии». При всех мемуарных ограничениях это до сих пор такая база, которую необходимо прочитать любому, кто хочет что-то узнать о предмете.
Для меня уход Бориса Максимовича именно сейчас глубоко символичен. Он был активным действующим лицом всех эпох нашей социологии, о которых потом писал: от оттепельных мечтаний до раннепутинской наигранной уверенности в себе. Всего этого теперь больше нет. История социологии должна писаться без него, но я пока не уверен, что мы сможем это дело потянуть.
👍63🙏34✍7👏2👎1
У многих мейнстримных экономистов еще есть прикол, что люди, конечно, спонтанно тяготеют к рынку и собственности, но на всякий случай им нужны правовые институты. Институты же должны обеспечиваться аппаратом государства, а аппарат государства, в свою очередь, должны консультировать сами экономисты. Вот такая человеческая природа. Следите за руками, короче говоря.
👍47👏7👎4🤝2
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
Экономисты употребляют очень странный прием в своих рассуждениях. Для них существует только два рода институтов: одни - искусственные, другие - естественные. Феодальные институты - искусственные, буржуазные - естественные. В этом случае экономисты похожи на теологов, которые тоже устанавливают два рода религий. Всякая чужая религия является выдумкой людей, тогда как их собственная религия есть эманация бога. Говоря, что существующие отношения - отношения буржуазного производства - являются естественными, экономисты хотят этим сказать, что это именно те отношения, при которых производство богатства и развитие производительных сил совершаются сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются не зависящими от влияния времени естественными законами. Это - вечные законы, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих пор была история, а теперь ее более нет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53✍8🤝4👎1👏1🖕1
Этот разный структурализм
Спасибо легендарному Сюткину не только за анонс наших с коллегой Денисовым образовательных инициатив, но и за многочисленные дискуссии со мной вокруг моих любимых авторов. Антон стал самым важным собеседником, когда идея перечитать всех классиков структурализма была в самом зачаточном состоянии. Без его эрудиции в истории идей мне было бы намного сложнее пробираться через кладбища белых мертвых мужчин. Хочу ответить на два его замечания: про дефиницию подхода и про влияние Георга Зиммеля.
Во-первых, социологический структурализм сегодня не сводится к структурализму во Франции 1950–1960 гг. Когда Энтони Гидденс отчасти случайно популяризировал термин «структура» в социологии, он несомненно имел ввиду и философские проекты Леви-Стросса с Альтюссером, но ярлык в итоге приклеился к подходам куда более конвенциональных социологов. В первую очередь к американским сетевым теоретикам и Пьеру Бурдье. Отношения между классическим структурализмом и структуралистскими школами в социологии – вопрос достаточно комплексный. Было место и непосредственному влиянию, и независимому изобретению велосипедов.
Во-вторых, я действительно считаю, что Зиммель – главный теневой теоретик в сегодняшних дебатах о социальных структурах. Многие из его идей стали сегодня стандартом, консенсусом, даже ортодоксией. Однако в этом и заключается проблема. Большинство последователей Зиммеля предлагают довольно слабое и компромиссное определение структуры, которое вполне отвечает либеральному мейнстриму в социальных науках. Грубо говоря, структура в зиммелевском духе – это множество устоявшихся межличностных отношений. С него можно начинать, но у него много уязвимых мест.
Поэтому для меня очень важны фигуры двух других титанов структурного понимания общества: Маркса и Дюкргейма. Оба предложили варианты куда более холистического социологического воображения, альтернативные либеральному аристократизму Зиммеля. Однако и критика капитализма Маркса, и криптокатолицизм Дюркгейма тяжело воспринимаются здравым смыслом современного атомизированного индивида. Что, впрочем, только подтверждает поинты обоих насчет структуры современного общества и организации знания в нем.
Спасибо легендарному Сюткину не только за анонс наших с коллегой Денисовым образовательных инициатив, но и за многочисленные дискуссии со мной вокруг моих любимых авторов. Антон стал самым важным собеседником, когда идея перечитать всех классиков структурализма была в самом зачаточном состоянии. Без его эрудиции в истории идей мне было бы намного сложнее пробираться через кладбища белых мертвых мужчин. Хочу ответить на два его замечания: про дефиницию подхода и про влияние Георга Зиммеля.
Во-первых, социологический структурализм сегодня не сводится к структурализму во Франции 1950–1960 гг. Когда Энтони Гидденс отчасти случайно популяризировал термин «структура» в социологии, он несомненно имел ввиду и философские проекты Леви-Стросса с Альтюссером, но ярлык в итоге приклеился к подходам куда более конвенциональных социологов. В первую очередь к американским сетевым теоретикам и Пьеру Бурдье. Отношения между классическим структурализмом и структуралистскими школами в социологии – вопрос достаточно комплексный. Было место и непосредственному влиянию, и независимому изобретению велосипедов.
Во-вторых, я действительно считаю, что Зиммель – главный теневой теоретик в сегодняшних дебатах о социальных структурах. Многие из его идей стали сегодня стандартом, консенсусом, даже ортодоксией. Однако в этом и заключается проблема. Большинство последователей Зиммеля предлагают довольно слабое и компромиссное определение структуры, которое вполне отвечает либеральному мейнстриму в социальных науках. Грубо говоря, структура в зиммелевском духе – это множество устоявшихся межличностных отношений. С него можно начинать, но у него много уязвимых мест.
Поэтому для меня очень важны фигуры двух других титанов структурного понимания общества: Маркса и Дюкргейма. Оба предложили варианты куда более холистического социологического воображения, альтернативные либеральному аристократизму Зиммеля. Однако и критика капитализма Маркса, и криптокатолицизм Дюркгейма тяжело воспринимаются здравым смыслом современного атомизированного индивида. Что, впрочем, только подтверждает поинты обоих насчет структуры современного общества и организации знания в нем.
👍56
Как похорошел Куала-Лумпур при Бен Омаре
Мир-системная теория предоставляет возможность воображать социальные структуры глобально, связывая воедино на первый взгляд удаленные друг от друга феномены в пространстве и времени. Однако у теории есть как минимум одно уязвимое место: ее очень сложно верифицировать. Если вы утверждаете, что работаете с вместилищем буквально всех социальных отношений в новейшей истории, то как конкретизировать это и на каком материале?
Одним из выходов является изучение ключевых глобальных полей в мир-системе. Например, иерархии городов – центров капиталистической экономики. Американо-китайская группа исследователей придумала для этого остроумный индикатор – данные о пассажирских авиаперелетах между городами, предоставленные Международной организацией гражданской авиации с 1975 по 2005 годы. В Urban Studies опубликованы результаты панельных регрессий и сетевого анализа, основанных на этой базе с добавленными к ней цифрами по населению городов и их ВВП.
Первая группа наблюдений довольно предсказуема. За обозначенный период крупнейшие города Восточных Тигров и Китая резко рванули вперед. За пределами Азии такие же темпы восходящей мобильности среди мировой транспортной сети городов смогли поддержать Мехико, Сан-Паулу, Прага и Лиссабон. Тем не менее, все они действительно соответствуют тому, что называется полупериферией. Векторы перелетов из них по-прежнему устремлены в вершины глобальной сети городов, находящиеся в Европе и США. Как и разница между количеством прилетов и вылетов, которая намекает на направления миграции. Забавно, что на уровне анекдотических доказательств это подтверждается кейсами моих российских коллег и друзей, часть которых за последние два года релоцировалась не в самые очевидные места типа Ханоя или Манилы.
Второй вывод еще более грустный. Разрыв между ядром и полупериферией хоть и сохраняется, но где-то сократился. Но вот многие чисто периферийные города в Африке и на Ближнем Востоке за последний виток глобализации откатились еще дальше на обочину пассажиропотоков. Кому альфа-города, а кому хи-, пси-, омежки. Если не фиксить такое развитие неразвитости в этих зависимых регионах мир-системы, то кризисы оттуда все чаще будут перекидываться на ядро. Например, через те же потоки беженцев.
Мир-системная теория предоставляет возможность воображать социальные структуры глобально, связывая воедино на первый взгляд удаленные друг от друга феномены в пространстве и времени. Однако у теории есть как минимум одно уязвимое место: ее очень сложно верифицировать. Если вы утверждаете, что работаете с вместилищем буквально всех социальных отношений в новейшей истории, то как конкретизировать это и на каком материале?
Одним из выходов является изучение ключевых глобальных полей в мир-системе. Например, иерархии городов – центров капиталистической экономики. Американо-китайская группа исследователей придумала для этого остроумный индикатор – данные о пассажирских авиаперелетах между городами, предоставленные Международной организацией гражданской авиации с 1975 по 2005 годы. В Urban Studies опубликованы результаты панельных регрессий и сетевого анализа, основанных на этой базе с добавленными к ней цифрами по населению городов и их ВВП.
Первая группа наблюдений довольно предсказуема. За обозначенный период крупнейшие города Восточных Тигров и Китая резко рванули вперед. За пределами Азии такие же темпы восходящей мобильности среди мировой транспортной сети городов смогли поддержать Мехико, Сан-Паулу, Прага и Лиссабон. Тем не менее, все они действительно соответствуют тому, что называется полупериферией. Векторы перелетов из них по-прежнему устремлены в вершины глобальной сети городов, находящиеся в Европе и США. Как и разница между количеством прилетов и вылетов, которая намекает на направления миграции. Забавно, что на уровне анекдотических доказательств это подтверждается кейсами моих российских коллег и друзей, часть которых за последние два года релоцировалась не в самые очевидные места типа Ханоя или Манилы.
Второй вывод еще более грустный. Разрыв между ядром и полупериферией хоть и сохраняется, но где-то сократился. Но вот многие чисто периферийные города в Африке и на Ближнем Востоке за последний виток глобализации откатились еще дальше на обочину пассажиропотоков. Кому альфа-города, а кому хи-, пси-, омежки. Если не фиксить такое развитие неразвитости в этих зависимых регионах мир-системы, то кризисы оттуда все чаще будут перекидываться на ядро. Например, через те же потоки беженцев.
👍39✍8👌4
Вот и закончилось мое месячное турне на родину и обратно. Было круто встретиться с уймой коллег, хотя и не со всеми получилось. С Катей Колпинец и Григорием Винокуровым вообще увиделся вживую впервые после долгого общения в соцсетях. У молодых соцгум ученых жизнь кипит: собирают подписи за Надеждина, готовятся защищать диссертации, пишут книги, сдают статьи, тащат вперед проекты. Если вам кто-то скажет, что все таланты уже уехали, то посылайте такого нафиг.
👍50👏3
Forwarded from Колпинец
На днях наконец развиртуализировались с Андреем, автором одного из лучших каналов о социологической теории и социологах. Посплетничали о Вышке и ЕУ, обсудили превратности академической жизни российских и американских университетов, поговорили о планах на будущие книги. Сейчас Андрей запускает авторский курс о структурном воображении в социологии (что вполне логично, поскольку его канал называется «Структура наносит ответный удар»), где собирается произвести ревизию дисциплины и попытаться по-новому взглянуть на ее классиков, а также познакомить слушателей со структурными методами анализа.
Все подробности здесь
Все подробности здесь
👍36👎1
Футбольный оффтоп
Тяжело представить себе клуб настолько же валидольный для болельщика, как Ливерпуль. Сколько раз они вдребезги разбивали мне сердце, но потом зачем-то дарили радость и надежду. Каждый год с последнего сезона Бенитеса я говорю себе: «Все, в этом году болеть за них не буду!» Но никак не могу прекратить. Такую историю сложно поставить на паузу. Михаил Соколов сказал бы, что так я боюсь безвозвратных потерь. Поп-психологи сказали бы, что я в созависимых отношениях.
Для тех, кто не особо в теме: главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, с которым связаны все успехи клуба за последние девять лет, внезапно объявил об уходе после этого сезона. Юнцом я мечтал, чтоб кто-то пришел и поставил Красным такой же напористый и энергичный футбол, который был у клопповской Боруссии в начале 2010-х гг. Клопп и в самом деле пришел и не только поставил игру, а просто вышел со своими гегенпрессингом на запредельный уровень.
Вкупе с совершенно новым подходом к комплектованию от скаутского отдела это была настоящая революция. Я даже не мог удержаться и студентам на парах о Бурдье пересказывал кейсы Клоппа и Стива Керра в качестве архетипических примеров символических революций в полях культурного производства вместо кейсов Флобера и Мане, которые были у классика в оригинале. Извините спортивного гика, пожалуйста.
Теперь сердце не просто разрывается, а останавливается. Зная судьбу Арсенала и МЮ после ухода их легендарных тренеров, предполагаю, мой бог, сколько впереди будет полного трэша… Но перестать болеть за Красных сейчас тем более решительно невозможно.
Walk on through the wind
Walk on through the rain
For your dreams be tossed and blown
Тяжело представить себе клуб настолько же валидольный для болельщика, как Ливерпуль. Сколько раз они вдребезги разбивали мне сердце, но потом зачем-то дарили радость и надежду. Каждый год с последнего сезона Бенитеса я говорю себе: «Все, в этом году болеть за них не буду!» Но никак не могу прекратить. Такую историю сложно поставить на паузу. Михаил Соколов сказал бы, что так я боюсь безвозвратных потерь. Поп-психологи сказали бы, что я в созависимых отношениях.
Для тех, кто не особо в теме: главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, с которым связаны все успехи клуба за последние девять лет, внезапно объявил об уходе после этого сезона. Юнцом я мечтал, чтоб кто-то пришел и поставил Красным такой же напористый и энергичный футбол, который был у клопповской Боруссии в начале 2010-х гг. Клопп и в самом деле пришел и не только поставил игру, а просто вышел со своими гегенпрессингом на запредельный уровень.
Вкупе с совершенно новым подходом к комплектованию от скаутского отдела это была настоящая революция. Я даже не мог удержаться и студентам на парах о Бурдье пересказывал кейсы Клоппа и Стива Керра в качестве архетипических примеров символических революций в полях культурного производства вместо кейсов Флобера и Мане, которые были у классика в оригинале. Извините спортивного гика, пожалуйста.
Теперь сердце не просто разрывается, а останавливается. Зная судьбу Арсенала и МЮ после ухода их легендарных тренеров, предполагаю, мой бог, сколько впереди будет полного трэша… Но перестать болеть за Красных сейчас тем более решительно невозможно.
Walk on through the wind
Walk on through the rain
For your dreams be tossed and blown
🙏35👍12👎6🖕3👏1
У истоков мир-системной теории
Довольно интересно, что переход Иммануила Валлерстайна от более-менее копирования модернизационных теорий своих учителей к собственной исследовательской программе произошел почти одновременно с тем, как это сделала Мэри Дуглас. Второе доработанное издание Natural Symbols вышло в 1973 году, а первый том Modern World-System – годом позже. В обоих случаях это произошло очень быстро. Почти по структуралистскому щелчку, бац, и парадигмы сменились!
Первая причина довольно очевидна: события долгого 1968 года сильно поколебали позиции ортодоксальных теорий в социологии и антропологии. Появилось пространство маневра, которым более молодые и более голодные до признания теоретики воспользовались. Вторая причина, про которую говорят меньше – это последняя волна расширения систем высшего образования в странах ядра. Просто критиковать ортодоксию мало. Необходима зарплата, чтобы кушать. Необходима легитимация собственных работ через ученые звания и публикации. И главное: необходимы заинтересованные студенты, на которых можно обкатывать идеи, а потом вербовать их в собственный круг. Все эти возможности как раз предоставляли новые учебные программы в только что открытых университетах или расширяющихся старых.
Большую четверку мир-системного анализа обычно представляют так (в алфавитном порядке): Амин, Арриги, Франк, Валлерстайн. Но, возможно, главным из них был Теренс Хопкинс, который стал организационным покровителем своих головастых друзей. Воспользовавшись открытием кампуса SUNY (университетская система штата Нью-Йорк) в Бингемтоне, он пролоббировал там социологическую аспирантуру и выбил финансирование на Центр Фернана Броделя. Ну и захантил старого товарища и однокашника Валлерстайна, который как раз искал длительную позицию. Аспирантура в Бингемтоне до сих пор существует, а вот центр и его журнал Review были, к сожалению, закрыты после смерти Хопкинса и Валлерстайна.
Довольно интересно, что переход Иммануила Валлерстайна от более-менее копирования модернизационных теорий своих учителей к собственной исследовательской программе произошел почти одновременно с тем, как это сделала Мэри Дуглас. Второе доработанное издание Natural Symbols вышло в 1973 году, а первый том Modern World-System – годом позже. В обоих случаях это произошло очень быстро. Почти по структуралистскому щелчку, бац, и парадигмы сменились!
Первая причина довольно очевидна: события долгого 1968 года сильно поколебали позиции ортодоксальных теорий в социологии и антропологии. Появилось пространство маневра, которым более молодые и более голодные до признания теоретики воспользовались. Вторая причина, про которую говорят меньше – это последняя волна расширения систем высшего образования в странах ядра. Просто критиковать ортодоксию мало. Необходима зарплата, чтобы кушать. Необходима легитимация собственных работ через ученые звания и публикации. И главное: необходимы заинтересованные студенты, на которых можно обкатывать идеи, а потом вербовать их в собственный круг. Все эти возможности как раз предоставляли новые учебные программы в только что открытых университетах или расширяющихся старых.
Большую четверку мир-системного анализа обычно представляют так (в алфавитном порядке): Амин, Арриги, Франк, Валлерстайн. Но, возможно, главным из них был Теренс Хопкинс, который стал организационным покровителем своих головастых друзей. Воспользовавшись открытием кампуса SUNY (университетская система штата Нью-Йорк) в Бингемтоне, он пролоббировал там социологическую аспирантуру и выбил финансирование на Центр Фернана Броделя. Ну и захантил старого товарища и однокашника Валлерстайна, который как раз искал длительную позицию. Аспирантура в Бингемтоне до сих пор существует, а вот центр и его журнал Review были, к сожалению, закрыты после смерти Хопкинса и Валлерстайна.
👍46👌4
Я настолько испорчен ситкомами, что первая ассоциация с Троцким у меня – камео Адама Сэндлера в Brooklyn-99. А если серьезно, то неприятие Троцкого как реального политика не должно перечеркивать его значение как мощнейшего публициста и аналитика. Я бы и отличным социологом его назвал за «Историю русской революции» и «Преданную революцию».
👍35🤝4🖕1
Forwarded from directio libera
Как часто вы слышали эту фразу? Но знаете ли, откуда она?
Уже больше сотни лет подобные оправдания можно услышать от политиков всех мастей. Будь то анонимный сербский демократ, процитированный выше, или облеченные властью лица на сегодняшнем телевидении. Поэтому серия путевых заметок и интервью военного корреспондента Льва Троцкого с полей Балканских войн 1912-1913 не потеряла своей актуальности.
Аннексии и контрибуции, этнические чистки и депортации на Балканах стали прологом Первой Мировой, а не уроком для потомков. Поэтому путешествие по пятам Троцкого выглядит как вояж по знакомым местам и ситуациям даже 120 лет спустя.
Мы открываем предзаказ на книгу с военными репортажами Льва Троцкого. «Изнанка войны: Балканы и балканская война».
Прочитав ее, вы поймете, меняется ли война и какова изнанка победы в ней.
Лев Троцкий. «Изнанка войны: Балканы и балканская война»
995₽ | ПРЕДЗАКАЗ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35👏4✍3
Голливудские гении и злодеи
До вчерашнего дня я считал, что выражение «быть в потоке» – это пустое означающее из птичьего языка бизнес-коучей. Выяснилось, что это не так. Во всяком случае, не всегда было так. Психолог с невероятно сложной фамилией Михай Чиксентмихайи придумал концепцию потока еще в 1970-х гг., чтобы обозначить состояние, когда высокому уровню задачи, стоящей перед человеком, соответствует высокий уровень его или ее навыков. В принципе, никакого кринжа здесь нет, а есть вполне логичная теория.
Более того, работы Чиксентмихайи не прошли мимо итальянских социологов, которые справедливо решили, что и уровень задачи, и уровень навыков вполне можно операционализировать как социальные факты. Джино Каттани и Симоне Ферриани собрали базу из участников съемочных команд голливудских фильмов, которые были высоко оценены критиками, и проанализировали получившуюся бимодальную сеть для Organization Science.
Если опустить нюансы, то наиболее высокие результаты с точки зрения творческого признания показывают команды, в которых есть люди как из ядра, так и из периферии сложившихся сетей. Вообще, ротация актеров, сценаристов, режиссеров и представителей творческих профессий – это хорошо с точки зрения художественных решений. Люди с периферии сети не обладают нужными навыками, а люди из ядра склонны засиживаться, бронзоветь и переставать ставить сложные творческие задачи.
Также в статье есть поинт, освещающий темную сторону киноиндустрии. Оказалось, что самой успешной студией, находящей людей на периферии и подключающей к съемочному процессу обожаемых критиками работ, была Miramax Харви Вайнштейна. Именно эта стратегия посредничества и позволяла продюсеру обладать огромной властью над женщинами, только начинающими путь в профессии, и принуждать их к сексу. Увы, успех и злоупотребление положением в креативных полях зачастую оказываются неразрывно переплетены.
До вчерашнего дня я считал, что выражение «быть в потоке» – это пустое означающее из птичьего языка бизнес-коучей. Выяснилось, что это не так. Во всяком случае, не всегда было так. Психолог с невероятно сложной фамилией Михай Чиксентмихайи придумал концепцию потока еще в 1970-х гг., чтобы обозначить состояние, когда высокому уровню задачи, стоящей перед человеком, соответствует высокий уровень его или ее навыков. В принципе, никакого кринжа здесь нет, а есть вполне логичная теория.
Более того, работы Чиксентмихайи не прошли мимо итальянских социологов, которые справедливо решили, что и уровень задачи, и уровень навыков вполне можно операционализировать как социальные факты. Джино Каттани и Симоне Ферриани собрали базу из участников съемочных команд голливудских фильмов, которые были высоко оценены критиками, и проанализировали получившуюся бимодальную сеть для Organization Science.
Если опустить нюансы, то наиболее высокие результаты с точки зрения творческого признания показывают команды, в которых есть люди как из ядра, так и из периферии сложившихся сетей. Вообще, ротация актеров, сценаристов, режиссеров и представителей творческих профессий – это хорошо с точки зрения художественных решений. Люди с периферии сети не обладают нужными навыками, а люди из ядра склонны засиживаться, бронзоветь и переставать ставить сложные творческие задачи.
Также в статье есть поинт, освещающий темную сторону киноиндустрии. Оказалось, что самой успешной студией, находящей людей на периферии и подключающей к съемочному процессу обожаемых критиками работ, была Miramax Харви Вайнштейна. Именно эта стратегия посредничества и позволяла продюсеру обладать огромной властью над женщинами, только начинающими путь в профессии, и принуждать их к сексу. Увы, успех и злоупотребление положением в креативных полях зачастую оказываются неразрывно переплетены.
👍68✍5👎2
Преподавательские дилеммы
Какой-то невероятно большой конкурс на бесплатные места в этот раз. Не мог предвидеть такую ситуацию, когда задумывал самый гиковский курс за всю мою практику преподавания социологии. Благодарю всех участников! Вчера внимательно прочитал все ваши заявки. Между двумя из них (не скажу чьими, конечно) была прям железобетонная ничья, поэтому решил пригласить обоих претендентов. Итак, у нас целых 7 победителей!
Другим мучительным выбором последних дней был отбор текстов для семинаров. Хотелось, чтобы были представлены разные методы и разные темы в социологии, связанные со структурным теоретизированием. По методам в итоге удалось установить плюрализм между разными качественными и количественными заходами, а вот в темах доминирует социология политики, науки и, внезапно, гендера. Для тех, кто думал присоединиться к курсу на платной основе, но никак не мог решиться, выкладываю окончательный силлабус. Вдруг именно он для вас станет difference maker’ом. Еще есть несколько дней до начала.
Кстати говоря, у Андрея «Есенина современной философии» Денисова набор на бюджет в курсе про Ницше будет продолжаться до 7 февраля. Если кому-то хочется совершенно иного по стилю интеллектуального чтения, чем про социальные структуры, то это именно то. Планируется разобрать всю интеллектуальную эволюцию философа, его непростые отношения с Шопенгауэром и Вагнером. Если вы думали, что Ницше – это персонаж читательского дневника драматичных тинейджеров, то Андрей покажет, что на самом деле его жизнь и мысль были довольно академичными и основательными.
Какой-то невероятно большой конкурс на бесплатные места в этот раз. Не мог предвидеть такую ситуацию, когда задумывал самый гиковский курс за всю мою практику преподавания социологии. Благодарю всех участников! Вчера внимательно прочитал все ваши заявки. Между двумя из них (не скажу чьими, конечно) была прям железобетонная ничья, поэтому решил пригласить обоих претендентов. Итак, у нас целых 7 победителей!
Другим мучительным выбором последних дней был отбор текстов для семинаров. Хотелось, чтобы были представлены разные методы и разные темы в социологии, связанные со структурным теоретизированием. По методам в итоге удалось установить плюрализм между разными качественными и количественными заходами, а вот в темах доминирует социология политики, науки и, внезапно, гендера. Для тех, кто думал присоединиться к курсу на платной основе, но никак не мог решиться, выкладываю окончательный силлабус. Вдруг именно он для вас станет difference maker’ом. Еще есть несколько дней до начала.
Кстати говоря, у Андрея «Есенина современной философии» Денисова набор на бюджет в курсе про Ницше будет продолжаться до 7 февраля. Если кому-то хочется совершенно иного по стилю интеллектуального чтения, чем про социальные структуры, то это именно то. Планируется разобрать всю интеллектуальную эволюцию философа, его непростые отношения с Шопенгауэром и Вагнером. Если вы думали, что Ницше – это персонаж читательского дневника драматичных тинейджеров, то Андрей покажет, что на самом деле его жизнь и мысль были довольно академичными и основательными.
👍51👏7
Поучаствовал в прикольной инициативе товарищей, рассказав первые пришедшие в голову ассоциации с пространством. На поверку оказалось, что большинство моих образов еще из детства. Сразу захотелось наиграть на басу что-нибудь из альтернативки 1990-х. Вот только он запыленный стоит за тысячи километров в шкафу у мамы дома.
👍23👏2👎1
Forwarded from Post-Marxist Studies
Метод ассоциаций
Мы продолжаем интеллектуально-теоретическое введение в тему пространств, территорий и границ. На этот раз решили поговорить с философ_инями, политическими и социальными исследователь_ницами, подругами и друзьями нашего коллектива и всеми, кто нам близок идейно.
Задача состояла в том, чтобы поделиться впечатлениями и ощущениями от любых перемещений на местности, преодолений границ, работ с пространством и территориальностью. Такие ассоциации — не просто научный эксперимент, но множественные отсылки на личный опыт, для кого-то — опыт (внутренней) эмиграции, для других — наблюдательский, но сопричастный, сочувствующий и (само)рефлексивный.
Разные образы и тропы нашли отражение в переплетающихся нарративах и сюжетных линиях, чувствах, знакомых многим, но не нашедшим подходящего языка для артикуляции и эмпатии, кроме как визуального.
💬 Также делимся ссылками на телеграм-каналы участни_ц материала:
- BraveNewWorld (Илья Будрайтскис)
- Radio Ljubljana (Вадим Квачев)
- Эгалитé (Александра Пушная и Александр Мигурский)
- Структура наносит ответный удар (Андрей Герасимов)
- Absolute studies (Антон Сюткин)
- Это базис (Анна Нижник)
Мы продолжаем интеллектуально-теоретическое введение в тему пространств, территорий и границ. На этот раз решили поговорить с философ_инями, политическими и социальными исследователь_ницами, подругами и друзьями нашего коллектива и всеми, кто нам близок идейно.
Задача состояла в том, чтобы поделиться впечатлениями и ощущениями от любых перемещений на местности, преодолений границ, работ с пространством и территориальностью. Такие ассоциации — не просто научный эксперимент, но множественные отсылки на личный опыт, для кого-то — опыт (внутренней) эмиграции, для других — наблюдательский, но сопричастный, сочувствующий и (само)рефлексивный.
Разные образы и тропы нашли отражение в переплетающихся нарративах и сюжетных линиях, чувствах, знакомых многим, но не нашедшим подходящего языка для артикуляции и эмпатии, кроме как визуального.
- BraveNewWorld (Илья Будрайтскис)
- Radio Ljubljana (Вадим Квачев)
- Эгалитé (Александра Пушная и Александр Мигурский)
- Структура наносит ответный удар (Андрей Герасимов)
- Absolute studies (Антон Сюткин)
- Это базис (Анна Нижник)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23👎2👏1👌1