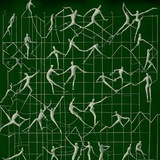Опять эти двое
Курсы в Европейском университете и в онлайне устроены по-разному. Однако по случайному совпадению следующие две недели и там, и там мы будем разбирать Фуко с Латуром. Постоянные читатели знают, какой интенсивный хейт/лав я испытываю к обоим. Так что не могу отказать себе в очередной раз порефлексировать над широким распространением их идей за пределы академических дискуссий на ступеньки хипстерских баров типа «Хроник» или даже иных сторис в Инсте.
Популярность обоих французов легко объяснима в российской социальной системе, устойчивость которой теперь гарантируется только батальонами заключенных и иранскими беспилотниками. Как будто тейки Фуко и Латура просто созданы для описания нашего района мир-системы. В этом, как я думаю, и заключается самая главная проблема со всеобщим признанием любимых всеми теоретиков. Такая радость узнавания социальной жизни вокруг за какой-то сложной мыслью в тексте – штука крайне проблематичная. Главным образом из-за того, что использование концептуального языка, близкого тому, который и так интуитивно уже используется в аномичном обществе, полностью лишает нас исследовательской дистанции. Это, в свою очередь, блокирует формулировку общественных и политических альтернатив. Мы как будто добровольно сдаемся и запираем себя в происходящем вокруг ужасе.
Вместе с тем, обратим внимание, что дисциплинарная власть у Фуко – это не просто голое принуждение и страх. Нет, такая техника в первую очередь основана на закреплении регулярного неявного знания на уровне тел. Именно эффективность знания делает эффективным исполнение власти. Хм, значит, голой власти все-таки не бывает? Значит, истинное знание все-таки является нередуцируемым остатком, которое может быть проанализированно само по себе? Так? Такой же трюк, в принципе, осуществим и с Латуром. Если ключевая операция для укрепления своей актор-сети – это поиск надежных союзников, возможно, мы можем представить себе отношения альянса и без внешних врагов? Значит, солидарность возможна и где-то вне контекста постоянного испытывания на прочность сил друг друга?
Короче говоря, уже у самих классиков можно встретить массу намеков на то, как разломать неоницшианские заборы в нашей голове, которые перформативно убеждают нас, что общества – это не более чем флуктуации конфликтной материи. Это в перспективе вообще может означать побег из курятника мейнстримной французской мысли. Надеюсь, что хотя бы социологи смогут в ближайшее время осуществить рывок туда, где по-прежнему можно провести различие между знанием и властью, между смыслом и силой. А там и остальные подтянутся.
Курсы в Европейском университете и в онлайне устроены по-разному. Однако по случайному совпадению следующие две недели и там, и там мы будем разбирать Фуко с Латуром. Постоянные читатели знают, какой интенсивный хейт/лав я испытываю к обоим. Так что не могу отказать себе в очередной раз порефлексировать над широким распространением их идей за пределы академических дискуссий на ступеньки хипстерских баров типа «Хроник» или даже иных сторис в Инсте.
Популярность обоих французов легко объяснима в российской социальной системе, устойчивость которой теперь гарантируется только батальонами заключенных и иранскими беспилотниками. Как будто тейки Фуко и Латура просто созданы для описания нашего района мир-системы. В этом, как я думаю, и заключается самая главная проблема со всеобщим признанием любимых всеми теоретиков. Такая радость узнавания социальной жизни вокруг за какой-то сложной мыслью в тексте – штука крайне проблематичная. Главным образом из-за того, что использование концептуального языка, близкого тому, который и так интуитивно уже используется в аномичном обществе, полностью лишает нас исследовательской дистанции. Это, в свою очередь, блокирует формулировку общественных и политических альтернатив. Мы как будто добровольно сдаемся и запираем себя в происходящем вокруг ужасе.
Вместе с тем, обратим внимание, что дисциплинарная власть у Фуко – это не просто голое принуждение и страх. Нет, такая техника в первую очередь основана на закреплении регулярного неявного знания на уровне тел. Именно эффективность знания делает эффективным исполнение власти. Хм, значит, голой власти все-таки не бывает? Значит, истинное знание все-таки является нередуцируемым остатком, которое может быть проанализированно само по себе? Так? Такой же трюк, в принципе, осуществим и с Латуром. Если ключевая операция для укрепления своей актор-сети – это поиск надежных союзников, возможно, мы можем представить себе отношения альянса и без внешних врагов? Значит, солидарность возможна и где-то вне контекста постоянного испытывания на прочность сил друг друга?
Короче говоря, уже у самих классиков можно встретить массу намеков на то, как разломать неоницшианские заборы в нашей голове, которые перформативно убеждают нас, что общества – это не более чем флуктуации конфликтной материи. Это в перспективе вообще может означать побег из курятника мейнстримной французской мысли. Надеюсь, что хотя бы социологи смогут в ближайшее время осуществить рывок туда, где по-прежнему можно провести различие между знанием и властью, между смыслом и силой. А там и остальные подтянутся.
👍54
Кстати говоря, наперекор плохим новостям один из слушателей нашего курса отсканировал и выложил русский перевод «Гендерного беспокойства» Батлер в открытый доступ, приурочив это как раз к моей сегодняшней лекции по теме. Горжусь!
👍42👎1
Forwarded from форель разбивает лоб
Позорный закон о запрете "гей-пропаганды" окажет существенное негативное влияние на российскую науку:
Есть очевидные вещи:
- еще один стимул уехать (правда, все мои ЛГБТ-друзья и знакомые из науки это уже сделали).
- сворачивание "опасных" тематик во многих областях - от gender studies до эпидемиологии
Но вот что еще удручает:
Фактически, речь про введение цензуры в отношении огромного количества научных изданий, где ЛГБТ описывается и анализируется не так, как того требует закон. Это десятки профильных журналов и многие сотни тех, где соответствующие статьи публикуются эпизодически. Издатели этих журналов - Elsevier и т.д. - продают\продавали их электронные версии в России в составе пакетов подписок. Сейчас, когда хоть что-то из этих подписок пытаются сохранить, риски получить штраф за какую-нибудь статью в мейнстримном психологическом\социологическом журнале совершенно не к месту, при том, что выявить такие статьи стукачам элементарно, достаточно периодически искать по ключевым словам.
Дальнейший уход в пиратство? Но пиратские сервисы, будь то уснувший Сайхаб, Либген или ныне актуальный Нексус, построены по принципу единого окна и вряд ли будут изымать "неправильные" статьи хоть про геев, хоть про войну. Будут ли власти заколачивать эти оставшиеся "окна в Европу"? Исключить такой вариант нельзя. Легальные OA-издания с текстами про ЛГБТ, естественно, тоже в зоне риска. Репозитории таких изданий (например, Pubmed Central) - тоже.
Есть очевидные вещи:
- еще один стимул уехать (правда, все мои ЛГБТ-друзья и знакомые из науки это уже сделали).
- сворачивание "опасных" тематик во многих областях - от gender studies до эпидемиологии
Но вот что еще удручает:
Фактически, речь про введение цензуры в отношении огромного количества научных изданий, где ЛГБТ описывается и анализируется не так, как того требует закон. Это десятки профильных журналов и многие сотни тех, где соответствующие статьи публикуются эпизодически. Издатели этих журналов - Elsevier и т.д. - продают\продавали их электронные версии в России в составе пакетов подписок. Сейчас, когда хоть что-то из этих подписок пытаются сохранить, риски получить штраф за какую-нибудь статью в мейнстримном психологическом\социологическом журнале совершенно не к месту, при том, что выявить такие статьи стукачам элементарно, достаточно периодически искать по ключевым словам.
Дальнейший уход в пиратство? Но пиратские сервисы, будь то уснувший Сайхаб, Либген или ныне актуальный Нексус, построены по принципу единого окна и вряд ли будут изымать "неправильные" статьи хоть про геев, хоть про войну. Будут ли власти заколачивать эти оставшиеся "окна в Европу"? Исключить такой вариант нельзя. Легальные OA-издания с текстами про ЛГБТ, естественно, тоже в зоне риска. Репозитории таких изданий (например, Pubmed Central) - тоже.
👍37👎4
Нет Бога, кроме Генома
В ближайшие недели мне предстоит посетить сразу два ивента, где от меня ждут рассказа про современное состояние исследований соцгум наук. Да и вообще, я чувствую, что произошло какое-то перенасыщение канала хабермасами и латурами. Так что буду исправляться и возвращать слегка забытый жанр обзоров на качественные статьи и монографии, посвященные академической и околоакадемической сферам.
Начну со статьи Рена Ушияма в American Journal of Cultural Sociology. В ней исследуется интеллектуальная карьера Ричарда Докинза на материале 177 случаев выступлений того в медиа. Ушияма указывает на сдвиг, произошедший в публичной самопрезентации Докинза в 2006 году. До этого времени он уже был известен широкой аудитории, но только как популяризатор собственных исследований и исследований своих коллег в области эволюционной биологии. После этой даты Докинз начал последовательно выстраивать образ критика религии, что резко увеличило не только его популярность, но и противоречивость.
Сдвиг был осуществлен через несколько сильных ходов по формированию оригинального пакета интеллектуальных предложений. Во-первых, через отождествление сциентизма и атеизма. Во-вторых, добавления туда же секуляризации как главного культурного достижения не только Британии, но и Запада. В-третьих, посредством образования альянса с известными американскими философами типа Сэма Харриса и Дэниела Деннета, что позволило Докинзу выйти на более крупный и горячий рынок новой атеистической литературы.
Сейчас подобные фигуры кажутся довольно типичными для полей медиа и нон-фикшна многих стран. Скажем, у нас очень похожими способами успеха добились Ася Казанцева и Александр Панчин. Вместе с тем, именно Докинз первым проложил дорожку из академической биологии к общественному вниманию. Кажется, впрочем, что сейчас паттерны публичных споров далеко ушли от противостояния науки и религии. Скажем, Джордан Питерсон явно работает во многом по противоположным лекалам и на совсем на иную аудиторию.
Ушияма принадлежит к кругу учеников Патрика Баерта, поэтому его подход к карьере Докинза имеет ярко выраженный символико-интеракционистский характер. (Ранее я уже писал про другого соратника Баерта, исследующего такими же способами биографию Славоя Жижека.) Тем не менее, статья сильна взвешенным историографическим обзором, где раскладываются и соперничающие теории интеллектуалов от Бурдье, Чарльза Камика, Рэндалла Коллинза, etc. Тем, кто хочет вслед за мной и коллегой Машуковым запрыгнуть в фургон с оркестром SSSH, работа очень рекомендуется в качестве доступного и обстоятельного введения в проблематику.
В ближайшие недели мне предстоит посетить сразу два ивента, где от меня ждут рассказа про современное состояние исследований соцгум наук. Да и вообще, я чувствую, что произошло какое-то перенасыщение канала хабермасами и латурами. Так что буду исправляться и возвращать слегка забытый жанр обзоров на качественные статьи и монографии, посвященные академической и околоакадемической сферам.
Начну со статьи Рена Ушияма в American Journal of Cultural Sociology. В ней исследуется интеллектуальная карьера Ричарда Докинза на материале 177 случаев выступлений того в медиа. Ушияма указывает на сдвиг, произошедший в публичной самопрезентации Докинза в 2006 году. До этого времени он уже был известен широкой аудитории, но только как популяризатор собственных исследований и исследований своих коллег в области эволюционной биологии. После этой даты Докинз начал последовательно выстраивать образ критика религии, что резко увеличило не только его популярность, но и противоречивость.
Сдвиг был осуществлен через несколько сильных ходов по формированию оригинального пакета интеллектуальных предложений. Во-первых, через отождествление сциентизма и атеизма. Во-вторых, добавления туда же секуляризации как главного культурного достижения не только Британии, но и Запада. В-третьих, посредством образования альянса с известными американскими философами типа Сэма Харриса и Дэниела Деннета, что позволило Докинзу выйти на более крупный и горячий рынок новой атеистической литературы.
Сейчас подобные фигуры кажутся довольно типичными для полей медиа и нон-фикшна многих стран. Скажем, у нас очень похожими способами успеха добились Ася Казанцева и Александр Панчин. Вместе с тем, именно Докинз первым проложил дорожку из академической биологии к общественному вниманию. Кажется, впрочем, что сейчас паттерны публичных споров далеко ушли от противостояния науки и религии. Скажем, Джордан Питерсон явно работает во многом по противоположным лекалам и на совсем на иную аудиторию.
Ушияма принадлежит к кругу учеников Патрика Баерта, поэтому его подход к карьере Докинза имеет ярко выраженный символико-интеракционистский характер. (Ранее я уже писал про другого соратника Баерта, исследующего такими же способами биографию Славоя Жижека.) Тем не менее, статья сильна взвешенным историографическим обзором, где раскладываются и соперничающие теории интеллектуалов от Бурдье, Чарльза Камика, Рэндалла Коллинза, etc. Тем, кто хочет вслед за мной и коллегой Машуковым запрыгнуть в фургон с оркестром SSSH, работа очень рекомендуется в качестве доступного и обстоятельного введения в проблематику.
👍37
Общество мертвых писателей
В американской социологии есть два человека, о которых я мало упоминаю на канале, хотя оба являются для меня в определенным смысле ролевыми моделями. Речь идет о Рэндалле Коллинзе и Эндрю Эбботте, которые отметились и написанием блестящих учебников по социологической теории, и влиятельными работами о конструировании соцгум знания. В общем, что тот, что другой – этакие заокеанские ответы Бурдье, с которым оба много спорили, но при этом и продолжали его начинания.
Перечитывал тут некоторые биографические материалы и подметил еще одну общую черту между двумя патриархами. На этот раз не совсем академическую. Она заключается в любви к письму, которая иногда превосходила в их карьерах любовь, собственно, к социологии.
Коллинз даже уходил из университета на время, чтобы стать автором детективов, но потом вернулся. По собственному признанию – потому что в американской академии платят больше денег, чем в писательском ремесле. Зато, когда ему наконец-то удалось выйти на почетную пенсию, он развернулся на полную катушку и создал целый фантастический роман о распаде США после гражданской религиозной войны. Эбботт никуда не отлучался, но параллельно с работой в Чикагском университете давно пишет рецензии на книги самых разных жанров под выдуманным альтер-эго. Которым почему-то стала девушка из недалекого будущего Барбара Селарент.
Я, конечно, не могу похвастаться такими high-brow вкусами. Художка во многом прошла мимо меня. Однако все равно тихо порадовался, что моя генеалогия чем-то похожа. В школе я мечтал быть спортивным или музыкальным обозревателем. Где-нибудь на «Спорце» или в «Афише». Вроде не получилось… Хотя почему? Я пишу все те же обзоры. Правда, вместо футболистов и металистов их героями стали почему-то социологи. Ну еще мне за это не платят. В остальном мечта сбылась.
В американской социологии есть два человека, о которых я мало упоминаю на канале, хотя оба являются для меня в определенным смысле ролевыми моделями. Речь идет о Рэндалле Коллинзе и Эндрю Эбботте, которые отметились и написанием блестящих учебников по социологической теории, и влиятельными работами о конструировании соцгум знания. В общем, что тот, что другой – этакие заокеанские ответы Бурдье, с которым оба много спорили, но при этом и продолжали его начинания.
Перечитывал тут некоторые биографические материалы и подметил еще одну общую черту между двумя патриархами. На этот раз не совсем академическую. Она заключается в любви к письму, которая иногда превосходила в их карьерах любовь, собственно, к социологии.
Коллинз даже уходил из университета на время, чтобы стать автором детективов, но потом вернулся. По собственному признанию – потому что в американской академии платят больше денег, чем в писательском ремесле. Зато, когда ему наконец-то удалось выйти на почетную пенсию, он развернулся на полную катушку и создал целый фантастический роман о распаде США после гражданской религиозной войны. Эбботт никуда не отлучался, но параллельно с работой в Чикагском университете давно пишет рецензии на книги самых разных жанров под выдуманным альтер-эго. Которым почему-то стала девушка из недалекого будущего Барбара Селарент.
Я, конечно, не могу похвастаться такими high-brow вкусами. Художка во многом прошла мимо меня. Однако все равно тихо порадовался, что моя генеалогия чем-то похожа. В школе я мечтал быть спортивным или музыкальным обозревателем. Где-нибудь на «Спорце» или в «Афише». Вроде не получилось… Хотя почему? Я пишу все те же обзоры. Правда, вместо футболистов и металистов их героями стали почему-то социологи. Ну еще мне за это не платят. В остальном мечта сбылась.
👍54
Девиация по Мертону
Сижу я вчера вечером в детской социологов и политологов Европейского университета, никого не трогаю, распиваю молочный улун с коллегами. Про существование Телеграма вообще забыл. Выхожу из кабинета, проверяю впервые телефон и вижу, что в личке у меня настоящий шторм! Друзья, коллеги, даже дальние знакомые пишут: в порядке ли я? Где нахожусь? Не на холодильнике ли я уже? Оказалось, что по социальным сетям молнией разнеслась инфа о том, что у нас тут военкомы-де разгуливают по зданию, а сотрудники прячутся от них на заднем дворе.
Во-первых, да, как подтвердила администрация, вчера неприятные люди приходили в отдел кадров университета и пытались отдать под подпись повестки на имена некоторых сотрудников. Там сослались на то, что ректора нет на месте, а без него принять ничего нельзя. Незваные гости стали сначала угрожать полицией, а потом ушли, пообещав прийти завтра, т.е. уже сегодня. Ситуация неприятная, но пока, вроде, ничего летально плохого не случилось. Вот сидим ждем, как она будет развиваться.
Во-вторых, огромное спасибо всем, кто интересовался. Приятно, когда беспокоятся в Тюмени, Тбилиси и даже Мэдисоне, штат Висконсин. Супер иметь таких бдительных коллег! Хотя и смешно, и страшно, что вы узнаете какие-то новости про университет быстрее, чем это делаю я, находясь тупо в нем самом. Галактика Цукерберга, блин.
Кстати сказать, мы тут с магистрантами во вторник читали на семинаре «Социальная структура и аномия» Мертона. Суперактуальный текст, как оказалось! Пытались вписать поведение различных категорий людей в условиях мобилизации в пять различных категорий, которые представлены в статье. Больше всего споров возникло по поводу женщин, которые передают военкоматам данные своих бывших мужей, не платящих алименты. Мария Щепетнева пыталась доказать, что это инновация, а я – что в этой ситуации цели относительно одобряемые. Так что это вообще не девиация по Мертону. Не знаю, строго говоря, как это связано с предыдущими абзацами, но просто к слову пришлось.
Сижу я вчера вечером в детской социологов и политологов Европейского университета, никого не трогаю, распиваю молочный улун с коллегами. Про существование Телеграма вообще забыл. Выхожу из кабинета, проверяю впервые телефон и вижу, что в личке у меня настоящий шторм! Друзья, коллеги, даже дальние знакомые пишут: в порядке ли я? Где нахожусь? Не на холодильнике ли я уже? Оказалось, что по социальным сетям молнией разнеслась инфа о том, что у нас тут военкомы-де разгуливают по зданию, а сотрудники прячутся от них на заднем дворе.
Во-первых, да, как подтвердила администрация, вчера неприятные люди приходили в отдел кадров университета и пытались отдать под подпись повестки на имена некоторых сотрудников. Там сослались на то, что ректора нет на месте, а без него принять ничего нельзя. Незваные гости стали сначала угрожать полицией, а потом ушли, пообещав прийти завтра, т.е. уже сегодня. Ситуация неприятная, но пока, вроде, ничего летально плохого не случилось. Вот сидим ждем, как она будет развиваться.
Во-вторых, огромное спасибо всем, кто интересовался. Приятно, когда беспокоятся в Тюмени, Тбилиси и даже Мэдисоне, штат Висконсин. Супер иметь таких бдительных коллег! Хотя и смешно, и страшно, что вы узнаете какие-то новости про университет быстрее, чем это делаю я, находясь тупо в нем самом. Галактика Цукерберга, блин.
Кстати сказать, мы тут с магистрантами во вторник читали на семинаре «Социальная структура и аномия» Мертона. Суперактуальный текст, как оказалось! Пытались вписать поведение различных категорий людей в условиях мобилизации в пять различных категорий, которые представлены в статье. Больше всего споров возникло по поводу женщин, которые передают военкоматам данные своих бывших мужей, не платящих алименты. Мария Щепетнева пыталась доказать, что это инновация, а я – что в этой ситуации цели относительно одобряемые. Так что это вообще не девиация по Мертону. Не знаю, строго говоря, как это связано с предыдущими абзацами, но просто к слову пришлось.
👍85
Частная жизнь звезд
Обожаю жанр интервью с социологами. Во-первых, там, как правило, можно найти пересказы идей, тем и проблем, про которые в первоисточнике читать лень. Во-вторых, хороший интервьюер всегда раскрутит собеседника на малоизвестные подробности биографии, которые приоткрывают кулисы далекой от нас горько-сладкой западной академической жизни.
Как первого, так и второго очень много в сборнике бесед с видными американскими социологами, изданном пару лет назад для китайской аудитории. Мишель Ламонт в нем рассказывает, как писала магистерскую про взгляды на общество Ленина, которого боготворила в студенчестве. Вивиана Зелизер – как, переехав из своей родной Аргентины в Нью-Йорк, первое время работала синхронным переводчиком и на социологию поступила случайно. Это тогда показалось ей лучшим способом в будущем получить работу в ООН. Питер Бирман – о том, что во времена его аспирантства Хариссон Уайт снискал репутацию сумасшедшего ученого. В поднаучные к нему шли только самые отмороженные любители количественной социологии, которые и сами в коммуникацию не очень умели. Типа самого Бирмана, конечно.
Сборник представляет собой довольно продуманный срез разных слоев социологического истеблишмента США. Кроме указанных имен там есть Майкл Буравой, Арли Хохшильд, Джеффри Александер, Эндрю Эбботт и многие другие. Вероятно, каждый найдет там человека, который представляет его субдисциплину. Я наткнулся на это издание позавчера и капитально залип на нем вместо того, чтобы готовиться к парам. Не повторяйте моей ошибки.
Обожаю жанр интервью с социологами. Во-первых, там, как правило, можно найти пересказы идей, тем и проблем, про которые в первоисточнике читать лень. Во-вторых, хороший интервьюер всегда раскрутит собеседника на малоизвестные подробности биографии, которые приоткрывают кулисы далекой от нас горько-сладкой западной академической жизни.
Как первого, так и второго очень много в сборнике бесед с видными американскими социологами, изданном пару лет назад для китайской аудитории. Мишель Ламонт в нем рассказывает, как писала магистерскую про взгляды на общество Ленина, которого боготворила в студенчестве. Вивиана Зелизер – как, переехав из своей родной Аргентины в Нью-Йорк, первое время работала синхронным переводчиком и на социологию поступила случайно. Это тогда показалось ей лучшим способом в будущем получить работу в ООН. Питер Бирман – о том, что во времена его аспирантства Хариссон Уайт снискал репутацию сумасшедшего ученого. В поднаучные к нему шли только самые отмороженные любители количественной социологии, которые и сами в коммуникацию не очень умели. Типа самого Бирмана, конечно.
Сборник представляет собой довольно продуманный срез разных слоев социологического истеблишмента США. Кроме указанных имен там есть Майкл Буравой, Арли Хохшильд, Джеффри Александер, Эндрю Эбботт и многие другие. Вероятно, каждый найдет там человека, который представляет его субдисциплину. Я наткнулся на это издание позавчера и капитально залип на нем вместо того, чтобы готовиться к парам. Не повторяйте моей ошибки.
👍69
Марксисты помогают
Наконец-то вернулся к дописыванию обзора на современные теоретические подходы в социологии социальных и гуманитарных наук, первые черновики которого я выкладывал тут давным-давно. Держу пальцы, чтобы он был опубликован в специальном номере «Логоса» в будущем году. Может, и правильно, что я надолго забросил работу. За время образовавшейся паузы в моей голове из мутной субстанции выкристаллизовались два четких тезиса. Поймал себя на мысли, что оба хорошо передаются двумя мемными понятиями, изобретенными Фредриком Джеймисоном. Смешно, но я никогда не читал его труды в оригинале. Зато коллеги Сюткин и Жихаревич мне неоднократно пересказывали, и с тех пор не могу отделаться от них.
Первое зацепившее меня понятие – это когнитивная картография. Джеймисон предлагает схватывать культурные разломы через их артикуляцию в пространственных образах. Собственно, я этим давно занимаюсь через рисование квадратиков в социальной теории. Моя идея в том, что, занимая позицию, теоретик автоматически фокусируется на какой-то стороне изучаемого феномена, игнорируя другие. Скажем, если вы исследуете структуру научного сообщества, то отвлекаетесь от взаимодействий между отдельными учеными, и наоборот. Картографирование позволяет увидеть слепые пятна каждой теории. Культовый американский марксист вряд ли был бы доволен моим толкованием, но все равно спасибо за подбор нужных красивых слов.
Второе – это политическое бессознательное. Тут смысл в том, что каждая концептуализация социальных наук имплицитно подразумевает то или иное соотношение между объяснением общества и изменением его. Например, для классических мертоновцов социология – предприятие в первую очередь моральное. Нормы уже есть (знаменитое «CUDOS»). Надо им только следовать, что означает быть вне политики. Напротив, всякие разные новые материалисты вслед за Фуко и Латуром политизируют науку, показывая, что даже за формализмами официальной государственной статистики или биг даты скрываются линии силовых противостояний.
Впрочем, потенциал этой второй идеи уже явно выходит за границы предполагаемого обзора и главы диссертации, которая из него должна получиться. Надо будет в будущем писать отдельный текст про политико-эпистемологические проблемы изучения социальных наук в целом. Возможно, к нему и Джеймисона наконец прочитаю. А там уже даже взыскательный вкус Григория Борисыча будет удовлетворен.
Наконец-то вернулся к дописыванию обзора на современные теоретические подходы в социологии социальных и гуманитарных наук, первые черновики которого я выкладывал тут давным-давно. Держу пальцы, чтобы он был опубликован в специальном номере «Логоса» в будущем году. Может, и правильно, что я надолго забросил работу. За время образовавшейся паузы в моей голове из мутной субстанции выкристаллизовались два четких тезиса. Поймал себя на мысли, что оба хорошо передаются двумя мемными понятиями, изобретенными Фредриком Джеймисоном. Смешно, но я никогда не читал его труды в оригинале. Зато коллеги Сюткин и Жихаревич мне неоднократно пересказывали, и с тех пор не могу отделаться от них.
Первое зацепившее меня понятие – это когнитивная картография. Джеймисон предлагает схватывать культурные разломы через их артикуляцию в пространственных образах. Собственно, я этим давно занимаюсь через рисование квадратиков в социальной теории. Моя идея в том, что, занимая позицию, теоретик автоматически фокусируется на какой-то стороне изучаемого феномена, игнорируя другие. Скажем, если вы исследуете структуру научного сообщества, то отвлекаетесь от взаимодействий между отдельными учеными, и наоборот. Картографирование позволяет увидеть слепые пятна каждой теории. Культовый американский марксист вряд ли был бы доволен моим толкованием, но все равно спасибо за подбор нужных красивых слов.
Второе – это политическое бессознательное. Тут смысл в том, что каждая концептуализация социальных наук имплицитно подразумевает то или иное соотношение между объяснением общества и изменением его. Например, для классических мертоновцов социология – предприятие в первую очередь моральное. Нормы уже есть (знаменитое «CUDOS»). Надо им только следовать, что означает быть вне политики. Напротив, всякие разные новые материалисты вслед за Фуко и Латуром политизируют науку, показывая, что даже за формализмами официальной государственной статистики или биг даты скрываются линии силовых противостояний.
Впрочем, потенциал этой второй идеи уже явно выходит за границы предполагаемого обзора и главы диссертации, которая из него должна получиться. Надо будет в будущем писать отдельный текст про политико-эпистемологические проблемы изучения социальных наук в целом. Возможно, к нему и Джеймисона наконец прочитаю. А там уже даже взыскательный вкус Григория Борисыча будет удовлетворен.
👍53
Грядет двухдневное обсуждение успехов и неудач Советского проекта от моих друзей и коллег-историков, одновременно членов различных левых организаций. Кроме участия в дискуссии, можно будет задонатить средства на нужды политзаключенных. Присоединяйтесь!
👍20
Forwarded from РСД — Российское социалистическое движение
Онлайн марафон «К новому образу будущего: пересобирая ХХ век»
ПРОГРАММА 5 НОЯБРЯ
14:00-14:15
Политические заключенные в России
14:15-14:30
Юрий Манвелян
Приветствие
14:30-14:45
Гарри Азарян
Перспективы международного сотрудничества левых на постсоветском пространстве
14:45-15:00
Дискуссия
Блок 1. Советские эмансипаторные и прогрессивные проекты
15:00-15:35
Глеб Альберт + Александр Резник
Практики интернационализма в первое десятилетие советской власти: беседа с историком Глебом Альбертом
15:35-16:10
Николай Кунцевич
Ленинская национальная политика в контексте права Беларуси на самоопределение
16:10 -16:45
Иван Нестор
Вепсы. Малые народы. Как Советская власть помогала малым народам
16:45-17:20
Булат Гильманов
Между союзом и «империей добра» - почему мы сто лет не слышали о российском колониализме?
17:20-17:55
Мансур Газимзянов
Татары-мусульмане и советский проект
17:55-18:30
Игорь Кузинер
Мракобесы против антихристов. Религия в советском пространстве
Блок 3. Были ли социальные альтернативы советскому проекту?
18:30-19:05
Леонид Чернов
Правительства эсеров и меньшевиков в Сибири и на Дальнем Востоке. Почему не удалась альтернатива большевизму
19:05-19:40
Евгений Синин
Зиновьев и товарищи. Почему старые большевики в годы репрессий оказались бессильны?
Блок 2. Основные социально-политические проблемы на постсоветском пространстве
19:40-20:15
Джошуа Ротгоцкий
Социальная стратификация казахской степи: от революции до реставрации
20:15-20:50
Алексей Кудрицкий
Популизм и демократия в Беларуси
Ссылка на трансляцию
ПРОГРАММА 5 НОЯБРЯ
14:00-14:15
Политические заключенные в России
14:15-14:30
Юрий Манвелян
Приветствие
14:30-14:45
Гарри Азарян
Перспективы международного сотрудничества левых на постсоветском пространстве
14:45-15:00
Дискуссия
Блок 1. Советские эмансипаторные и прогрессивные проекты
15:00-15:35
Глеб Альберт + Александр Резник
Практики интернационализма в первое десятилетие советской власти: беседа с историком Глебом Альбертом
15:35-16:10
Николай Кунцевич
Ленинская национальная политика в контексте права Беларуси на самоопределение
16:10 -16:45
Иван Нестор
Вепсы. Малые народы. Как Советская власть помогала малым народам
16:45-17:20
Булат Гильманов
Между союзом и «империей добра» - почему мы сто лет не слышали о российском колониализме?
17:20-17:55
Мансур Газимзянов
Татары-мусульмане и советский проект
17:55-18:30
Игорь Кузинер
Мракобесы против антихристов. Религия в советском пространстве
Блок 3. Были ли социальные альтернативы советскому проекту?
18:30-19:05
Леонид Чернов
Правительства эсеров и меньшевиков в Сибири и на Дальнем Востоке. Почему не удалась альтернатива большевизму
19:05-19:40
Евгений Синин
Зиновьев и товарищи. Почему старые большевики в годы репрессий оказались бессильны?
Блок 2. Основные социально-политические проблемы на постсоветском пространстве
19:40-20:15
Джошуа Ротгоцкий
Социальная стратификация казахской степи: от революции до реставрации
20:15-20:50
Алексей Кудрицкий
Популизм и демократия в Беларуси
Ссылка на трансляцию
👍24
Сфинксы вглядываются друг в друга
В американской социологии никто не читал и читает Лумана. Он не придавал значения эмпирике, он не писал в журнальном формате, он развивает Парсонса вместо того, чтобы его похоронить и т. п. Правда, есть одно исключение. Вот в этом милом интервью Харрисона Уайта немецким коллегам американец называет Лумана аж духовным родственником и вспоминает, как тот однажды пригласил его в Билефельд обсудить вместе проблемы конструирования смысла.
Родственная близость между обоими состоит, грубо говоря, в идее того, что общество – это острова смысловой стабильности в совершенно штормовом океане бессмыслицы. Луман называет этот океан шумом, а Уайт в разных местах по-разному: турбулентностью, стохастичностью, неопределенностью. Также оба считают, что индивиды – это не те, кто насыпает эти острова, а только маленькие песчинки на них. В этом оба противостоят любым формам методологического индивидуализма. Правда, и феноменологическим подходам оба сопротивляются, предлагая некоторую хоть бы и номинальную объективистскую установку.
Надо сказать, что с теоретическим решением преодоления шума Лумана я как-то с горем пополам разобрался, но писания Уайта для меня до сих пор подобны энигме. Я, кажется, что-то понимаю из его предметных исследований промышленных рынков и художественных стилей, но общую теорию могу наблюдать только в контурах. Уайт, как умеет, очерчивает ее обычно частичными аналогиями с другими теоретиками. Не только с Луманом, но и с Бурдье, интеракционистами типа Беккера и др. Вот за счет этих аналогий и проявляются контуры, но не сама фигура целиком. Может, сказывается недостаток у меня математического образования. Забавно, что Уайт в том же интервью отказывается называть себя теоретическим социологом и считает, что просто решает некоторые проблемы, растущие из материала. Noice.
В общем, у меня, кажется, появилась неофициальная цель в жизни: разобраться в том, как Харрисон Уайт вообще представляет общество. Как будто без этого даже стыдно считать, что разбираешься в теории.
В американской социологии никто не читал и читает Лумана. Он не придавал значения эмпирике, он не писал в журнальном формате, он развивает Парсонса вместо того, чтобы его похоронить и т. п. Правда, есть одно исключение. Вот в этом милом интервью Харрисона Уайта немецким коллегам американец называет Лумана аж духовным родственником и вспоминает, как тот однажды пригласил его в Билефельд обсудить вместе проблемы конструирования смысла.
Родственная близость между обоими состоит, грубо говоря, в идее того, что общество – это острова смысловой стабильности в совершенно штормовом океане бессмыслицы. Луман называет этот океан шумом, а Уайт в разных местах по-разному: турбулентностью, стохастичностью, неопределенностью. Также оба считают, что индивиды – это не те, кто насыпает эти острова, а только маленькие песчинки на них. В этом оба противостоят любым формам методологического индивидуализма. Правда, и феноменологическим подходам оба сопротивляются, предлагая некоторую хоть бы и номинальную объективистскую установку.
Надо сказать, что с теоретическим решением преодоления шума Лумана я как-то с горем пополам разобрался, но писания Уайта для меня до сих пор подобны энигме. Я, кажется, что-то понимаю из его предметных исследований промышленных рынков и художественных стилей, но общую теорию могу наблюдать только в контурах. Уайт, как умеет, очерчивает ее обычно частичными аналогиями с другими теоретиками. Не только с Луманом, но и с Бурдье, интеракционистами типа Беккера и др. Вот за счет этих аналогий и проявляются контуры, но не сама фигура целиком. Может, сказывается недостаток у меня математического образования. Забавно, что Уайт в том же интервью отказывается называть себя теоретическим социологом и считает, что просто решает некоторые проблемы, растущие из материала. Noice.
В общем, у меня, кажется, появилась неофициальная цель в жизни: разобраться в том, как Харрисон Уайт вообще представляет общество. Как будто без этого даже стыдно считать, что разбираешься в теории.
👍38
Коллега Денисов проницательно пишет о искаженном восприятии молодых провинциальных ученых туземными, и наоборот. Вспомнилось, как на Гумфаке НГУ у меня тоже была репутация сноба за пропаганду культуральной истории и бравирование знанием Фуко. Оглядываясь назад, я думаю, что многое в моем отношении к преподавателям и однокурсникам было незрелым. Сейчас за все это неудобно, если не сказать стыдно. В оправдание уточню, что, в отличие от СПбГУ, никакой институциональной поддержки у бунтарски настроенных студентов не было. Мы просто мечтали дотерпеть, доучиться и разбежаться кто куда.
👍28
Forwarded from Страсть знания (Андрей Денисов)
К вопросу о разгроме Смольного СПбГУ, который ради глумления над студентами и преподавателями протекает как «реорганизация учебного заведения» я имею сказать следующее.
Я учился на философском факультете СПбГУ и хорошо помню то отношение, которое было среди нас к Смольному.
Одни его боготворили, другие считали своих коллег оттуда «занятыми непонятно чем».
Но консенсусом была зависть к Смольному, потому что так или иначе, им было позволено больше, чем нам.
Студенты Смольного же относились к нам «подчёркнуто снисходительно», как к ретроградам, большинству из которых дальше Гегеля ничего не интересно.
Понятно, что с двух сторон — это была карикатура, не мы не были апологетами «философской реакции», не они не были «градом на холме» на другой стороне Невы.
Мне сложно произнести речь о том, что вот мол, «потушили очередной костёр свободы». Во-первых, потому что это какое-то пораженчество — закрыли факультет, а, слава Богу, не людей. Во всяком случае, далеко не всех.
Во-вторых, ну что-ж это за костер свободы такой, который так легко потушить?
Понятно, что Смольный и ещё пару подобных ему учебных заведений существуют как кабинеты с семинарами и лекциями, конференции,кафетерии, сборники статей и все остальные материальные аспекты, все это не благодаря «русскому 1968 году», но по доброй воле самой власти.
Которая до поры до времени позволяла то, что там происходит под сенью собственного благорасположенного министра. Но значит ли все это, что быть заповедником — плохо и безнравственно? Виноват ли краснокнижный зверь в том, что его охраняют?
Нет, не означает. Мы, академическое сообщество компромисса, почти никогда не служили никакой витриной власти, в отличии от того же Эха Москвы. Мы не стяжали себе за то, что мы делаем никаких богатств или властного положения.
Большинство из этих людей жертвовало и жертвует многим, чтобы быть в науке, сталкиваясь с таким давлением и безденежьем, какое и не снилось их западным коллегам.
Поэтому провожая тот Смольный, я не буду говорить слезливых речей, это в конце концов унизительно для людей, которые и без меня все понимают.
Но я хочу поблагодарить коллег и друзей оттуда за нашу полемику, за тот конфликт во взгляде на мир, который я ощущаю споря со своими друзьями оттуда.
Вы сформировали меня не меньше, чем прочитанные книги и написаные мной самим тексты, и за это я отношусь к вам с безмерным уважением и совершенно братской любовью.
Помните, что университет - это люди, а не стены, и в каком бы таймлайне мы не оказались, мы найдём способы из него по настоящему вырваться.
Мы не согласимся по куче вопросов, но каждый из вас всегда может расчитывать на мою поддержку и помощь, просто напишите, даже если мы не знакомы. Со всем мы справимся, так что выше нос, мои дорогие смольненцы!
Я учился на философском факультете СПбГУ и хорошо помню то отношение, которое было среди нас к Смольному.
Одни его боготворили, другие считали своих коллег оттуда «занятыми непонятно чем».
Но консенсусом была зависть к Смольному, потому что так или иначе, им было позволено больше, чем нам.
Студенты Смольного же относились к нам «подчёркнуто снисходительно», как к ретроградам, большинству из которых дальше Гегеля ничего не интересно.
Понятно, что с двух сторон — это была карикатура, не мы не были апологетами «философской реакции», не они не были «градом на холме» на другой стороне Невы.
Мне сложно произнести речь о том, что вот мол, «потушили очередной костёр свободы». Во-первых, потому что это какое-то пораженчество — закрыли факультет, а, слава Богу, не людей. Во всяком случае, далеко не всех.
Во-вторых, ну что-ж это за костер свободы такой, который так легко потушить?
Понятно, что Смольный и ещё пару подобных ему учебных заведений существуют как кабинеты с семинарами и лекциями, конференции,кафетерии, сборники статей и все остальные материальные аспекты, все это не благодаря «русскому 1968 году», но по доброй воле самой власти.
Которая до поры до времени позволяла то, что там происходит под сенью собственного благорасположенного министра. Но значит ли все это, что быть заповедником — плохо и безнравственно? Виноват ли краснокнижный зверь в том, что его охраняют?
Нет, не означает. Мы, академическое сообщество компромисса, почти никогда не служили никакой витриной власти, в отличии от того же Эха Москвы. Мы не стяжали себе за то, что мы делаем никаких богатств или властного положения.
Большинство из этих людей жертвовало и жертвует многим, чтобы быть в науке, сталкиваясь с таким давлением и безденежьем, какое и не снилось их западным коллегам.
Поэтому провожая тот Смольный, я не буду говорить слезливых речей, это в конце концов унизительно для людей, которые и без меня все понимают.
Но я хочу поблагодарить коллег и друзей оттуда за нашу полемику, за тот конфликт во взгляде на мир, который я ощущаю споря со своими друзьями оттуда.
Вы сформировали меня не меньше, чем прочитанные книги и написаные мной самим тексты, и за это я отношусь к вам с безмерным уважением и совершенно братской любовью.
Помните, что университет - это люди, а не стены, и в каком бы таймлайне мы не оказались, мы найдём способы из него по настоящему вырваться.
Мы не согласимся по куче вопросов, но каждый из вас всегда может расчитывать на мою поддержку и помощь, просто напишите, даже если мы не знакомы. Со всем мы справимся, так что выше нос, мои дорогие смольненцы!
👍59
Карта не есть территория
Хочу поделиться с вами очередной полезной в образовании штукой, которую я нашел на просторах интернетов. Дата-сайентист Дениз Джем Ондуйгу нарисовал карту всей западной философии с античности до постмодернизма. Каждый философ на ней представлен набором основных тезисов. Между тезисами проведены негативные или позитивные гиперссылки. Перемещаясь между ними, можно переходить от мыслителя к мыслителю и в первом приближении понять, кто и как друг с другом спорил или соглашался.
Социологических теоретиков на ней, увы, не так много. Только те, кто одновременно проходит и по философскому ведомству (Маркс, Адорно, Фуко, etc.) Тем не менее, карта привлекла меня тем, что она очень близка моему спонтанному способу осваивания и закрепления у себя в голове новых авторов. Сначала я пытаюсь вычленить ключевые тезисы, выраженные обычно в мемных терминах. Потом сопоставить эти фигуры (как я их про себя их называю) с иными фигурами иных авторов. Примерно так же я обычно предлагаю поступать и слушателям, которые пытаются разобраться в многообразии современной социологической теории.
Опасность заблудиться в таких картах, созданных кем-то другим, конечно, тоже присутствует. Практически никогда они не содержат в себе аргументов, которыми тезисы обосновываются. Хотя именно способы доказательства каких-то абстрактный тейков обычно и составляют метод автора, увлекая нас в путешествие по его жизненному миру. Насмотревшись на подобные карты, схемы и квадратики, эту самую важную часть теоретической работы никак не понять. Необходимо читать тексты в первоисточнике.
Кстати говоря, легендарный Коретыч как раз намеревается набрать курс для чтения ключевых философских текстов западной традиции. У вас есть уникальная возможность разобраться в них не только с высоты птичьего полета, но и вгрызаясь в каждый текст, как мышь. Сергей как раз умеет показывать аргументы в действии, так что спешите принять участие в прогулке по неизведанным землям.
Хочу поделиться с вами очередной полезной в образовании штукой, которую я нашел на просторах интернетов. Дата-сайентист Дениз Джем Ондуйгу нарисовал карту всей западной философии с античности до постмодернизма. Каждый философ на ней представлен набором основных тезисов. Между тезисами проведены негативные или позитивные гиперссылки. Перемещаясь между ними, можно переходить от мыслителя к мыслителю и в первом приближении понять, кто и как друг с другом спорил или соглашался.
Социологических теоретиков на ней, увы, не так много. Только те, кто одновременно проходит и по философскому ведомству (Маркс, Адорно, Фуко, etc.) Тем не менее, карта привлекла меня тем, что она очень близка моему спонтанному способу осваивания и закрепления у себя в голове новых авторов. Сначала я пытаюсь вычленить ключевые тезисы, выраженные обычно в мемных терминах. Потом сопоставить эти фигуры (как я их про себя их называю) с иными фигурами иных авторов. Примерно так же я обычно предлагаю поступать и слушателям, которые пытаются разобраться в многообразии современной социологической теории.
Опасность заблудиться в таких картах, созданных кем-то другим, конечно, тоже присутствует. Практически никогда они не содержат в себе аргументов, которыми тезисы обосновываются. Хотя именно способы доказательства каких-то абстрактный тейков обычно и составляют метод автора, увлекая нас в путешествие по его жизненному миру. Насмотревшись на подобные карты, схемы и квадратики, эту самую важную часть теоретической работы никак не понять. Необходимо читать тексты в первоисточнике.
Кстати говоря, легендарный Коретыч как раз намеревается набрать курс для чтения ключевых философских текстов западной традиции. У вас есть уникальная возможность разобраться в них не только с высоты птичьего полета, но и вгрызаясь в каждый текст, как мышь. Сергей как раз умеет показывать аргументы в действии, так что спешите принять участие в прогулке по неизведанным землям.
👍55
Как институты абьюзят
Коллега Жихаревич обратил мое внимание на развернувшийся на той неделе скандал в Гарварде. Там вскрылись многочисленные факты о том, как звезда STS Шейла Ясанофф годами выстраивала в своей образовательной программе личную диктатуру, унижала студентов и сотрудников, а также покрывала мужчин-аспирантов, которые домогались к своим одногруппницам.
Что меня несколько удивило в описании кейсов злоупотреблений Ясанофф и ее приближенных – это то, насколько те гипертрофированно психологизированы. Например, один из ораторов, Ли Вензел, начинает с собственных травм, накопленных от манипулятивных поведения коллег, а заканчивает гипотезой о непростом детском опыте своей начальницы, который якобы и является главной причиной потакания ею токсичной атмосфере среди своих подчиненных. Другими словами, ученые одного из топовых вузов мира, которых годами тренировали исследовать социальные основы наук и технологий, не находят никакого другого языка для описания происходящего в своем коллективе, кроме поп-психологического! В чем-то это напоминает сведение заслуженными политологами всех проблем российского государственного аппарата к старческой деменции Путина.
Я критически подхожу к такому языку совсем не для того, чтобы, как сейчас принято говорить, обесценить страдания тех, кто набрался наконец эмоциональных сил поделиться своими историями. Напротив, я уверен, что абьюз и харассмент – это очень важные проблемы для любой крупной организации, которые необходимо публично обсуждать, а не замалчивать и не осмеивать. Тем не менее, мне кажется, что обсуждать такие вопиющие случаи в социальных категориях куда эффективнее, чем в поп-психологических. Я в гарвардах не учился, но мне кажется, что проблема там не в Ясанофф лично и не в токсичности некоторых ее коллег, а в организационной среде, которая в принципе позволяет академическим селебрити дирижировать административными и финансовыми ресурсами, легитимизуя свои единоличные решения огромным хиршем.
А под конец будет, наверное, самый противоречивый тейк. Приготовьтесь. Я считаю, что абьюз и харассмент вредят не только и не столько отдельным персонам, сколько академическим институтам и ученым сообществам вообще. Человек может успешно пройти индивидуальную психотерапию. Особенно если нанесенный урон оказался невелик. Но вот восстановить доверие студентов и вообще широкой публики к процессу получения знаний намного сложнее. Психологическое и сексуальное насилие – это в первую очередь удар по хрупкой независимости университета и еще более хлипкой автономии социальных и гуманитарных наук. Вот именно в свете защиты совсем немногих оставшихся у нас университетских свобод борьбу с таким насилием, кажется, и стоит воспринимать.
Коллега Жихаревич обратил мое внимание на развернувшийся на той неделе скандал в Гарварде. Там вскрылись многочисленные факты о том, как звезда STS Шейла Ясанофф годами выстраивала в своей образовательной программе личную диктатуру, унижала студентов и сотрудников, а также покрывала мужчин-аспирантов, которые домогались к своим одногруппницам.
Что меня несколько удивило в описании кейсов злоупотреблений Ясанофф и ее приближенных – это то, насколько те гипертрофированно психологизированы. Например, один из ораторов, Ли Вензел, начинает с собственных травм, накопленных от манипулятивных поведения коллег, а заканчивает гипотезой о непростом детском опыте своей начальницы, который якобы и является главной причиной потакания ею токсичной атмосфере среди своих подчиненных. Другими словами, ученые одного из топовых вузов мира, которых годами тренировали исследовать социальные основы наук и технологий, не находят никакого другого языка для описания происходящего в своем коллективе, кроме поп-психологического! В чем-то это напоминает сведение заслуженными политологами всех проблем российского государственного аппарата к старческой деменции Путина.
Я критически подхожу к такому языку совсем не для того, чтобы, как сейчас принято говорить, обесценить страдания тех, кто набрался наконец эмоциональных сил поделиться своими историями. Напротив, я уверен, что абьюз и харассмент – это очень важные проблемы для любой крупной организации, которые необходимо публично обсуждать, а не замалчивать и не осмеивать. Тем не менее, мне кажется, что обсуждать такие вопиющие случаи в социальных категориях куда эффективнее, чем в поп-психологических. Я в гарвардах не учился, но мне кажется, что проблема там не в Ясанофф лично и не в токсичности некоторых ее коллег, а в организационной среде, которая в принципе позволяет академическим селебрити дирижировать административными и финансовыми ресурсами, легитимизуя свои единоличные решения огромным хиршем.
А под конец будет, наверное, самый противоречивый тейк. Приготовьтесь. Я считаю, что абьюз и харассмент вредят не только и не столько отдельным персонам, сколько академическим институтам и ученым сообществам вообще. Человек может успешно пройти индивидуальную психотерапию. Особенно если нанесенный урон оказался невелик. Но вот восстановить доверие студентов и вообще широкой публики к процессу получения знаний намного сложнее. Психологическое и сексуальное насилие – это в первую очередь удар по хрупкой независимости университета и еще более хлипкой автономии социальных и гуманитарных наук. Вот именно в свете защиты совсем немногих оставшихся у нас университетских свобод борьбу с таким насилием, кажется, и стоит воспринимать.
👍119
Квир-система Модерна
Разбор мир-системной теории обещал обернуться очередным сеансом диванной политологии про гегемонию США и восхождение Китая, но благодаря эрудиции и фантазии моих замечательных магистрантов неожиданно затронули в основном немного иные аспекты – исторические. Тем более, что в лице Анны Горбарук мы получили эксперта с куда более свежим историческим образованием, который может не только меня поправить, но и самостоятельно рассказать, как все было на самом деле.
Так вот, Иммануил Валлерстайн интересен не только телегами про периферию и ядро, но и любопытными наблюдениями о значении антисистемных движений в геокультуре и повторении системных циклов. Объедините две идеи и получите интерпретацию Реформации как прямого структурного предшественника современных политик идентичностей. Действительно, конфессиональные противостояния в XVI веке пронизывали все стороны социальной жизни и формировали self каждого жителя европейского ядра. Мысль о том, что кто-то может взять, да и не соблюдать главные общинные ритуалы под руководством священника, а тем более торговать с иудеями или вступать в военные союзы с мусульманами, задевала очень многих за самое живое.
Если вам тяжело представить реалии этого мира, то можно просто в уме подставить вместе конфессии гендер, и вы поймете, почему все вокруг тогда так сильно напрягались из-за религиозных вопросов. Анна, например, вспомнила Генриха IV, который поставил Париж выше мессы, крайне раздражая не только почтенных католиков, но и многих радикальных гугенотов, которые так на него так надеялись. Короче говоря, Генрих был квиром за много веков до того, как стало мейнстримом! Также в процессе обсуждения нам еще удалось сравнить ЧВК «Вагнер» с королевскими каперами, а фирму «Боинг» – с корабельными верфями Амстердама. В общем, Георгий Матвеич нами бы точно остался доволен.
Разбор мир-системной теории обещал обернуться очередным сеансом диванной политологии про гегемонию США и восхождение Китая, но благодаря эрудиции и фантазии моих замечательных магистрантов неожиданно затронули в основном немного иные аспекты – исторические. Тем более, что в лице Анны Горбарук мы получили эксперта с куда более свежим историческим образованием, который может не только меня поправить, но и самостоятельно рассказать, как все было на самом деле.
Так вот, Иммануил Валлерстайн интересен не только телегами про периферию и ядро, но и любопытными наблюдениями о значении антисистемных движений в геокультуре и повторении системных циклов. Объедините две идеи и получите интерпретацию Реформации как прямого структурного предшественника современных политик идентичностей. Действительно, конфессиональные противостояния в XVI веке пронизывали все стороны социальной жизни и формировали self каждого жителя европейского ядра. Мысль о том, что кто-то может взять, да и не соблюдать главные общинные ритуалы под руководством священника, а тем более торговать с иудеями или вступать в военные союзы с мусульманами, задевала очень многих за самое живое.
Если вам тяжело представить реалии этого мира, то можно просто в уме подставить вместе конфессии гендер, и вы поймете, почему все вокруг тогда так сильно напрягались из-за религиозных вопросов. Анна, например, вспомнила Генриха IV, который поставил Париж выше мессы, крайне раздражая не только почтенных католиков, но и многих радикальных гугенотов, которые так на него так надеялись. Короче говоря, Генрих был квиром за много веков до того, как стало мейнстримом! Также в процессе обсуждения нам еще удалось сравнить ЧВК «Вагнер» с королевскими каперами, а фирму «Боинг» – с корабельными верфями Амстердама. В общем, Георгий Матвеич нами бы точно остался доволен.
👍48👎2
Политическое
Все чаще обращаю внимание, как поменялся с начала войны российский оппозиционный дискурс. То, что раньше было в либеральной среде однозначно маргинальным, сегодня нормализуется и становится почти здравым смыслом. Про осторожное переосмысление колониального прошлого я уже упоминал, но теперь появляется и многое другое.
Во-первых, на глазах загибаются идеалы рыночного фундаментализма. Перестали пугать заморозка и даже перераспределение активов близких к путинскому режиму олигархов. Никого не смущает огромная финансовая помощь развивающейся стране по типу Плана Маршала от более богатых экономик ядра.
Во-вторых, оказывается, что не так уж и ужасен был поздний Советский Союз в смысле государственного управления. Конечно, цензура, автаркия и чекисты, но зато приличные дипломаты во внешней политике и даже если не сменяемая, то хотя бы ротируемая номенклатура! Да и энергетическую инфраструктуру-то какую отгрохали!
В-третьих, уже нет иллюзии, что удастся что-то поменять через выборы, а, значит, снова в положительном смысле заговорили про легитимность революции. Конечно, не по образцу Октябрьской (что, честно говоря, и слава богу!), но почему бы и не по модели Февральской?
Конечно, я не настолько наивен, чтоб ожидать серьезных изменений в политических программах либерального истеблишмента. Тем не менее, табу сняты, расширяются рамки публичного обсуждения. Все, кто фантазирует о серьезной левой партии, сейчас хотя бы получают возможность за что-то зацепиться в разговоре с людьми. Верю, когда-нибудь люди типа Виталия Боваря или Александра Замятина получат возможность представлять нас на федеральном уровне. Благо, что на муниципальном уровне опыт у них уже большой.
Все чаще обращаю внимание, как поменялся с начала войны российский оппозиционный дискурс. То, что раньше было в либеральной среде однозначно маргинальным, сегодня нормализуется и становится почти здравым смыслом. Про осторожное переосмысление колониального прошлого я уже упоминал, но теперь появляется и многое другое.
Во-первых, на глазах загибаются идеалы рыночного фундаментализма. Перестали пугать заморозка и даже перераспределение активов близких к путинскому режиму олигархов. Никого не смущает огромная финансовая помощь развивающейся стране по типу Плана Маршала от более богатых экономик ядра.
Во-вторых, оказывается, что не так уж и ужасен был поздний Советский Союз в смысле государственного управления. Конечно, цензура, автаркия и чекисты, но зато приличные дипломаты во внешней политике и даже если не сменяемая, то хотя бы ротируемая номенклатура! Да и энергетическую инфраструктуру-то какую отгрохали!
В-третьих, уже нет иллюзии, что удастся что-то поменять через выборы, а, значит, снова в положительном смысле заговорили про легитимность революции. Конечно, не по образцу Октябрьской (что, честно говоря, и слава богу!), но почему бы и не по модели Февральской?
Конечно, я не настолько наивен, чтоб ожидать серьезных изменений в политических программах либерального истеблишмента. Тем не менее, табу сняты, расширяются рамки публичного обсуждения. Все, кто фантазирует о серьезной левой партии, сейчас хотя бы получают возможность за что-то зацепиться в разговоре с людьми. Верю, когда-нибудь люди типа Виталия Боваря или Александра Замятина получат возможность представлять нас на федеральном уровне. Благо, что на муниципальном уровне опыт у них уже большой.
👍65👎5
Метафоры против хронотопов
С тех пор, как я перешел с исторического на социологический трек, меня часто посещала назойливая мысль о том, как сильно различается мышление в двух дисциплинах. В процессе работы над диссертацией про область SSSH, как раз примерно поровну разделенную между историками и социологами, мне представилась возможность выразить разницу более четко через сопоставление исследований практически про одни и те же объекты, но с совершенно разной их концептуализацией.
У социологов соцгум наук главный способ наметить проблему – это обозначить свой объект (группу ученых, идею, дисциплину, etc.) в качестве одной из абстрактных фигур мышления, коренных метафор общества. В общем виде это можно представить так: Y как X, где Y – это объект, а X – это фигура социального. Самыми простыми примерами могут служить «теория рационального выбора как интеллектуальное движение», «социология ЕС как поле культурного производства», «классический психоанализ как круг коллаборации» и т. п.
Часто приходится читать, что историки не любят теорию. Я недавно писал, что это не совсем так. Да, теории в социологическом смысле как стройной решетки фигур-метафор историки избегают, потому что это руинит их разделение труда, совпадающее с ментальными границами между географическими областями и временными эпохами. Историки думают по-другому.
Вместо коренных метафор у них, скорее, коренные метонимии: Y в контексте X. X здесь – уже не абстрактная концепция социального, а четкие и конкретные пространственно-временные рамки, в которые встраивается объект Y. Назовем все это вместе хронотопом. Получается так: «теория игр в контексте Холодной войны», «социология в контексте еврейской эмиграции в США», «югославские экономисты в контексте постсоциалистического транзита» и т. п. Решайте сами: есть здесь теория или нет. На мой взгляд – еще какая!
С тех пор, как я перешел с исторического на социологический трек, меня часто посещала назойливая мысль о том, как сильно различается мышление в двух дисциплинах. В процессе работы над диссертацией про область SSSH, как раз примерно поровну разделенную между историками и социологами, мне представилась возможность выразить разницу более четко через сопоставление исследований практически про одни и те же объекты, но с совершенно разной их концептуализацией.
У социологов соцгум наук главный способ наметить проблему – это обозначить свой объект (группу ученых, идею, дисциплину, etc.) в качестве одной из абстрактных фигур мышления, коренных метафор общества. В общем виде это можно представить так: Y как X, где Y – это объект, а X – это фигура социального. Самыми простыми примерами могут служить «теория рационального выбора как интеллектуальное движение», «социология ЕС как поле культурного производства», «классический психоанализ как круг коллаборации» и т. п.
Часто приходится читать, что историки не любят теорию. Я недавно писал, что это не совсем так. Да, теории в социологическом смысле как стройной решетки фигур-метафор историки избегают, потому что это руинит их разделение труда, совпадающее с ментальными границами между географическими областями и временными эпохами. Историки думают по-другому.
Вместо коренных метафор у них, скорее, коренные метонимии: Y в контексте X. X здесь – уже не абстрактная концепция социального, а четкие и конкретные пространственно-временные рамки, в которые встраивается объект Y. Назовем все это вместе хронотопом. Получается так: «теория игр в контексте Холодной войны», «социология в контексте еврейской эмиграции в США», «югославские экономисты в контексте постсоциалистического транзита» и т. п. Решайте сами: есть здесь теория или нет. На мой взгляд – еще какая!
👍52
Пока коллега Кисленко хайпует на «Медузе», я хочу поделиться его открытыми лекциями, где многие проблемы связи социальных наук и колониализма разворачиваются более объемно. BLM или DWM? Вот в чем вопрос! Я куда консервативнее Ивана в ответах, но такими классными оппонентами не разбрасываются.
👍20👎1
Forwarded from Emigration for action
Помимо нашей основной деятельности — помощи медикаментами украинским беженцам, мы проводим разные ивенты, в том числе академической направленности.
В прошлом месяце у нас состоялся цикл лекций «Колониальность, евроцентризм и академическая зависимость: производство контргегемонного знания в социологии».
Представляем вам последнюю лекцию из этого цикла.
Что такое «законы Джима Кроу» и какое они имеют отношение к расовой сегрегации?
Чем отличается Чикагская школа социологии от Атлантской?
Почему социолог не должен сидеть в «башне из слоновой кости»?
И как связаны фигура афроамериканского социолога Уильяма Дюбуа и протесты Black Lives Matter?
Всё это найдете в лекции Ивана Кисленко «Американская социология на перепутьи расово-(де) колониальных проблем».
Первое и второе видео цикла по ссылкам.
Поддержать проект
#видео
В прошлом месяце у нас состоялся цикл лекций «Колониальность, евроцентризм и академическая зависимость: производство контргегемонного знания в социологии».
Представляем вам последнюю лекцию из этого цикла.
Что такое «законы Джима Кроу» и какое они имеют отношение к расовой сегрегации?
Чем отличается Чикагская школа социологии от Атлантской?
Почему социолог не должен сидеть в «башне из слоновой кости»?
И как связаны фигура афроамериканского социолога Уильяма Дюбуа и протесты Black Lives Matter?
Всё это найдете в лекции Ивана Кисленко «Американская социология на перепутьи расово-(де) колониальных проблем».
Первое и второе видео цикла по ссылкам.
Поддержать проект
#видео
YouTube
Лекция. Американская социология на перепутьи расово-(де) колониальных проблем. Спикер: Иван Кисленко
Лекция посвящена вопросам систематического исключения темнокожих авторов из социологического канона, а также замалчиванию и стиранию их идей.
Это привело современных американских социологов к необходимости пересмотреть как свои взгляды на историю, так и…
Это привело современных американских социологов к необходимости пересмотреть как свои взгляды на историю, так и…
👍28
More than Meets the Eye
Недавно пришел к пониманию того, какой навык является важнейшим при изучении социологической теории. Даже не навык, а целая фундаментальная установка, которую хочется качать у себя и помогать достигать ее студентам. Установка эта – преодолевать потребительское отношение к литературе и читать то, что не нравится. Просто звучит, но практически достигается невероятно сложно.
Первая категория из этого разряда текстов – это те, которые прямо активно не нравятся. Например, политическими предпочтениями автора, противоположными вашим. Вот прям настолько не нравятся, что просто досаждают, бесят, отвращают. Тем не менее, необходимо подавить в себе чувство морального превосходства и разбираться в том, что все-таки написано. В конце может оказаться, что по ту сторону текста не вредный идиот, а такой же человек со своей позицией. Возможно, даже более близкий вам, чем казалось.
Другая категория – это тексты, которые неинтересны пассивно. Неинтересны своими банальными темами, высосаными из пальца проблемами, шаблонным письмом. Они требуют даже большей работы. Если к врагу есть хотя бы эмоциональное отношение, которое можно перенаправить в конструктивное русло, то к абсолютно несексуальному тексту нет вообще никакого драйва. Приходится искать способы снисхождения и искусственно разжигать искру. Зато в итоге вы можете увидеть ту или иную концепцию куда более сильной, чем вы считали до этого.
Мое предложение по развитию у себя такого навыка не является поводом уделять внимание каждому встречному фашизоиду или мелкобуржуазному автоэтнографу. Иногда предчувствия нас не подводят. Слабая теория и правда очень слабая. Но никогда нельзя быть уверенным, пока не возьмешь и не прочитаешь самостоятельно.
Недавно пришел к пониманию того, какой навык является важнейшим при изучении социологической теории. Даже не навык, а целая фундаментальная установка, которую хочется качать у себя и помогать достигать ее студентам. Установка эта – преодолевать потребительское отношение к литературе и читать то, что не нравится. Просто звучит, но практически достигается невероятно сложно.
Первая категория из этого разряда текстов – это те, которые прямо активно не нравятся. Например, политическими предпочтениями автора, противоположными вашим. Вот прям настолько не нравятся, что просто досаждают, бесят, отвращают. Тем не менее, необходимо подавить в себе чувство морального превосходства и разбираться в том, что все-таки написано. В конце может оказаться, что по ту сторону текста не вредный идиот, а такой же человек со своей позицией. Возможно, даже более близкий вам, чем казалось.
Другая категория – это тексты, которые неинтересны пассивно. Неинтересны своими банальными темами, высосаными из пальца проблемами, шаблонным письмом. Они требуют даже большей работы. Если к врагу есть хотя бы эмоциональное отношение, которое можно перенаправить в конструктивное русло, то к абсолютно несексуальному тексту нет вообще никакого драйва. Приходится искать способы снисхождения и искусственно разжигать искру. Зато в итоге вы можете увидеть ту или иную концепцию куда более сильной, чем вы считали до этого.
Мое предложение по развитию у себя такого навыка не является поводом уделять внимание каждому встречному фашизоиду или мелкобуржуазному автоэтнографу. Иногда предчувствия нас не подводят. Слабая теория и правда очень слабая. Но никогда нельзя быть уверенным, пока не возьмешь и не прочитаешь самостоятельно.
👍72