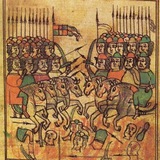Forwarded from Минутка этнографии
«Не говори с набитым ртом!»; «Не болтай за столом!»; «За едой не смейся!»
Наверняка вам что-то похожее говорили в детстве, как и миллионам других детей. Зачем говорили? Конечно, не из-за заботы о том, чтобы вы не подавились. Едой не давятся от разговоров. Посмотрите: в кафе и ресторанах все болтают - и ничего.
Все намного серьезнее: требование молчать и быть серьезным за едой – отголоски седой архаики, когда человек не знал, будет ли у него на столе еда хотя бы завтра.
Для русской деревни, по которой каждые лет двадцать катком прокатывался голод, прием пищи, конечно, стал священнодействием. Хлеб воспринимался как божественный подарок, стол как храм. А где священнодействие – там все серьёзно, там смеяться и болтать нельзя. Как в храме, музее и библиотеке.
Ощущение священного крестьяне подкрепляли, как обычно, страшилками. Например, рассказывали, что за обеденным столом кроме людей сидит бдительный ангел.
В некоторых деревнях его приглашали специально. На Вятке, например, такой нетривиальной молитвой: «Ангиль мой, Хранитель мой, огради мой питер-едер животворящим крестом и сядь обедать со мной!» (Магницкий В. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде Вятской губернии. Вятка. 1883. С. 7).
Я не знаю, что такое «питер-едер», и почти уверен, что вятский крестьянин тоже не знал, но говорил это по традиции - если в молитве говорится «питер-едер», значит, так надо.
Обеденный ангел был ужасно обидчивым и щепетильным. От разговоров и смеха он расстраивался и улетал. Тогда вместо него к столу подходили лешие, овинники, банники и домовые. Не просто подходили, но и ели, причем страшно много. Это было заметно по тому, что еда быстро убывала, словно люди за столом ели втрое больше положенного, но при этом не наедались.
В Вологодской губернии без обиняков уверяли: кто смеется и разговаривает за столом, тому черти срут в тарелку. Это, во-первых, неприятно (хотя не заметно), во-вторых, приводит к целому букету недомоганий, в основном к общей слабости и «худобе».
Того, кто хихикнул за столом, в деревне немедленно выгоняли из-за стола и лишали обеда. Это была неизбежная кара и искупительная жертва обеденному ангелу, которого просили не покидать стол. Одна бабушка вспоминала в старости, как засмеялась в детстве! «Ложки в лоб влетели. Больше не схохотали. За Божьим даром, за столом не надо не хохотать, ничё не надо» (Духовная культура северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М. 1997. С. 140). Представляете? Помнить всю жизнь, как наказали за обеденный смешок...
Увы. В суеверном мире невидимое часто важнее, чем видимое, а капризы воображаемого ангела ставятся выше, чем ментальное здоровье настоящего человека. Как говорил Ницше: любовь к дальнему для людей важнее любви к ближнему.
В нашем случае еще круче: любовь к воображаемому важнее любви к реальному.
А улыбаться за столом можно. И смеяться. И разговаривать. Не в неолите ведь живем уже.
*
Картинка - Вася Ложкин.
Минутка этнографии
#мифыунасдома
Наверняка вам что-то похожее говорили в детстве, как и миллионам других детей. Зачем говорили? Конечно, не из-за заботы о том, чтобы вы не подавились. Едой не давятся от разговоров. Посмотрите: в кафе и ресторанах все болтают - и ничего.
Все намного серьезнее: требование молчать и быть серьезным за едой – отголоски седой архаики, когда человек не знал, будет ли у него на столе еда хотя бы завтра.
Для русской деревни, по которой каждые лет двадцать катком прокатывался голод, прием пищи, конечно, стал священнодействием. Хлеб воспринимался как божественный подарок, стол как храм. А где священнодействие – там все серьёзно, там смеяться и болтать нельзя. Как в храме, музее и библиотеке.
Ощущение священного крестьяне подкрепляли, как обычно, страшилками. Например, рассказывали, что за обеденным столом кроме людей сидит бдительный ангел.
В некоторых деревнях его приглашали специально. На Вятке, например, такой нетривиальной молитвой: «Ангиль мой, Хранитель мой, огради мой питер-едер животворящим крестом и сядь обедать со мной!» (Магницкий В. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде Вятской губернии. Вятка. 1883. С. 7).
Я не знаю, что такое «питер-едер», и почти уверен, что вятский крестьянин тоже не знал, но говорил это по традиции - если в молитве говорится «питер-едер», значит, так надо.
Обеденный ангел был ужасно обидчивым и щепетильным. От разговоров и смеха он расстраивался и улетал. Тогда вместо него к столу подходили лешие, овинники, банники и домовые. Не просто подходили, но и ели, причем страшно много. Это было заметно по тому, что еда быстро убывала, словно люди за столом ели втрое больше положенного, но при этом не наедались.
В Вологодской губернии без обиняков уверяли: кто смеется и разговаривает за столом, тому черти срут в тарелку. Это, во-первых, неприятно (хотя не заметно), во-вторых, приводит к целому букету недомоганий, в основном к общей слабости и «худобе».
Того, кто хихикнул за столом, в деревне немедленно выгоняли из-за стола и лишали обеда. Это была неизбежная кара и искупительная жертва обеденному ангелу, которого просили не покидать стол. Одна бабушка вспоминала в старости, как засмеялась в детстве! «Ложки в лоб влетели. Больше не схохотали. За Божьим даром, за столом не надо не хохотать, ничё не надо» (Духовная культура северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М. 1997. С. 140). Представляете? Помнить всю жизнь, как наказали за обеденный смешок...
Увы. В суеверном мире невидимое часто важнее, чем видимое, а капризы воображаемого ангела ставятся выше, чем ментальное здоровье настоящего человека. Как говорил Ницше: любовь к дальнему для людей важнее любви к ближнему.
В нашем случае еще круче: любовь к воображаемому важнее любви к реальному.
А улыбаться за столом можно. И смеяться. И разговаривать. Не в неолите ведь живем уже.
*
Картинка - Вася Ложкин.
Минутка этнографии
#мифыунасдома
Forwarded from Минутка этнографии
«Не говори с набитым ртом!»; «Не болтай за столом!»; «За едой не смейся!»
Наверняка вам что-то похожее говорили в детстве, как и миллионам других детей. Зачем говорили? Конечно, не из-за заботы о том, чтобы вы не подавились. Едой не давятся от разговоров. Посмотрите: в кафе и ресторанах все болтают - и ничего.
Все намного серьезнее: требование молчать и быть серьезным за едой – отголоски седой архаики, когда человек не знал, будет ли у него на столе еда хотя бы завтра.
Для русской деревни, по которой каждые лет двадцать катком прокатывался голод, прием пищи, конечно, стал священнодействием. Хлеб воспринимался как божественный подарок, стол как храм. А где священнодействие – там все серьёзно, там смеяться и болтать нельзя. Как в храме, музее и библиотеке.
Ощущение священного крестьяне подкрепляли, как обычно, страшилками. Например, рассказывали, что за обеденным столом кроме людей сидит бдительный ангел.
В некоторых деревнях его приглашали специально. На Вятке, например, такой нетривиальной молитвой: «Ангиль мой, Хранитель мой, огради мой питер-едер животворящим крестом и сядь обедать со мной!» (Магницкий В. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде Вятской губернии. Вятка. 1883. С. 7).
Я не знаю, что такое «питер-едер», и почти уверен, что вятский крестьянин тоже не знал, но говорил это по традиции - если в молитве говорится «питер-едер», значит, так надо.
Обеденный ангел был ужасно обидчивым и щепетильным. От разговоров и смеха он расстраивался и улетал. Тогда вместо него к столу подходили лешие, овинники, банники и домовые. Не просто подходили, но и ели, причем страшно много. Это было заметно по тому, что еда быстро убывала, словно люди за столом ели втрое больше положенного, но при этом не наедались.
В Вологодской губернии без обиняков уверяли: кто смеется и разговаривает за столом, тому черти срут в тарелку. Это, во-первых, неприятно (хотя не заметно), во-вторых, приводит к целому букету недомоганий, в основном к общей слабости и «худобе».
Того, кто хихикнул за столом, в деревне немедленно выгоняли из-за стола и лишали обеда. Это была неизбежная кара и искупительная жертва обеденному ангелу, которого просили не покидать стол. Одна бабушка вспоминала в старости, как засмеялась в детстве! «Ложки в лоб влетели. Больше не схохотали. За Божьим даром, за столом не надо не хохотать, ничё не надо» (Духовная культура северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М. 1997. С. 140). Представляете? Помнить всю жизнь, как наказали за обеденный смешок...
Увы. В суеверном мире невидимое часто важнее, чем видимое, а капризы воображаемого ангела ставятся выше, чем ментальное здоровье настоящего человека. Как говорил Ницше: любовь к дальнему для людей важнее любви к ближнему.
В нашем случае еще круче: любовь к воображаемому важнее любви к реальному.
А улыбаться за столом можно. И смеяться. И разговаривать. Не в неолите ведь живем уже.
*
Картинка - Вася Ложкин.
Минутка этнографии
#мифыунасдома
Наверняка вам что-то похожее говорили в детстве, как и миллионам других детей. Зачем говорили? Конечно, не из-за заботы о том, чтобы вы не подавились. Едой не давятся от разговоров. Посмотрите: в кафе и ресторанах все болтают - и ничего.
Все намного серьезнее: требование молчать и быть серьезным за едой – отголоски седой архаики, когда человек не знал, будет ли у него на столе еда хотя бы завтра.
Для русской деревни, по которой каждые лет двадцать катком прокатывался голод, прием пищи, конечно, стал священнодействием. Хлеб воспринимался как божественный подарок, стол как храм. А где священнодействие – там все серьёзно, там смеяться и болтать нельзя. Как в храме, музее и библиотеке.
Ощущение священного крестьяне подкрепляли, как обычно, страшилками. Например, рассказывали, что за обеденным столом кроме людей сидит бдительный ангел.
В некоторых деревнях его приглашали специально. На Вятке, например, такой нетривиальной молитвой: «Ангиль мой, Хранитель мой, огради мой питер-едер животворящим крестом и сядь обедать со мной!» (Магницкий В. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде Вятской губернии. Вятка. 1883. С. 7).
Я не знаю, что такое «питер-едер», и почти уверен, что вятский крестьянин тоже не знал, но говорил это по традиции - если в молитве говорится «питер-едер», значит, так надо.
Обеденный ангел был ужасно обидчивым и щепетильным. От разговоров и смеха он расстраивался и улетал. Тогда вместо него к столу подходили лешие, овинники, банники и домовые. Не просто подходили, но и ели, причем страшно много. Это было заметно по тому, что еда быстро убывала, словно люди за столом ели втрое больше положенного, но при этом не наедались.
В Вологодской губернии без обиняков уверяли: кто смеется и разговаривает за столом, тому черти срут в тарелку. Это, во-первых, неприятно (хотя не заметно), во-вторых, приводит к целому букету недомоганий, в основном к общей слабости и «худобе».
Того, кто хихикнул за столом, в деревне немедленно выгоняли из-за стола и лишали обеда. Это была неизбежная кара и искупительная жертва обеденному ангелу, которого просили не покидать стол. Одна бабушка вспоминала в старости, как засмеялась в детстве! «Ложки в лоб влетели. Больше не схохотали. За Божьим даром, за столом не надо не хохотать, ничё не надо» (Духовная культура северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М. 1997. С. 140). Представляете? Помнить всю жизнь, как наказали за обеденный смешок...
Увы. В суеверном мире невидимое часто важнее, чем видимое, а капризы воображаемого ангела ставятся выше, чем ментальное здоровье настоящего человека. Как говорил Ницше: любовь к дальнему для людей важнее любви к ближнему.
В нашем случае еще круче: любовь к воображаемому важнее любви к реальному.
А улыбаться за столом можно. И смеяться. И разговаривать. Не в неолите ведь живем уже.
*
Картинка - Вася Ложкин.
Минутка этнографии
#мифыунасдома