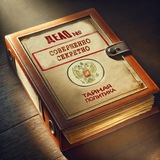Forwarded from Полпред ДФО
📍Заместитель полпреда ДФО, участник СВО Денис Андреев встретился с добровольцами-дальневосточниками в зоне проведения специальной военной операции
🤝Он посетил воинские подразделения Дальневосточного военного округа, в том числе добровольческий отряд «Тигр», по поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева
💪Ранее Денис Андреев руководил разведывательной группой отряда «Тигр», принимал участие в боях под Угледаром. Сейчас он оценил работу добровольцев на новом направлении, а также передал специальное военное оборудование
🔹Отряд «Тигр» (БАРС-22) с момента своего создания в 2022 году ежедневно работает на линии боевого соприкосновения в составе прославленной 155-й гвардейской бригады морской пехоты. По оценке Министерства обороны РФ отряд «Тигр» признан лучшим добровольческим подразделением в России
👍Полпред ДФО Юрий Трутнев неоднократно говорил о том, что долг каждого мужчины – защищать свою семью, близких и Родину, отстаивать интересы своей страны. «Мы не можем призывать людей защищать Родину, а сами стоять в стороне. Надо принимать в этом участие. Я с таким предложением обратился к коллегам. В зоне СВО должен побывать каждый мужчина нашей страны», - сказал Юрий Трутнев о людях, занимающих государственные должности
🔹Дополнительную информацию об отряде «Тигр» и о возможности поступления на службу можно получить по адресу :«Жизнь тигров» или по телефону: +7 (914) 653 02 17
#СВО #добровольцы #патриотизм
🤝Он посетил воинские подразделения Дальневосточного военного округа, в том числе добровольческий отряд «Тигр», по поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева
💪Ранее Денис Андреев руководил разведывательной группой отряда «Тигр», принимал участие в боях под Угледаром. Сейчас он оценил работу добровольцев на новом направлении, а также передал специальное военное оборудование
🔹Отряд «Тигр» (БАРС-22) с момента своего создания в 2022 году ежедневно работает на линии боевого соприкосновения в составе прославленной 155-й гвардейской бригады морской пехоты. По оценке Министерства обороны РФ отряд «Тигр» признан лучшим добровольческим подразделением в России
👍Полпред ДФО Юрий Трутнев неоднократно говорил о том, что долг каждого мужчины – защищать свою семью, близких и Родину, отстаивать интересы своей страны. «Мы не можем призывать людей защищать Родину, а сами стоять в стороне. Надо принимать в этом участие. Я с таким предложением обратился к коллегам. В зоне СВО должен побывать каждый мужчина нашей страны», - сказал Юрий Трутнев о людях, занимающих государственные должности
🔹Дополнительную информацию об отряде «Тигр» и о возможности поступления на службу можно получить по адресу :«Жизнь тигров» или по телефону: +7 (914) 653 02 17
#СВО #добровольцы #патриотизм
Западное разочарование в Китае: Пекин не стал инструментом давления на Россию
Публикация Foreign Affairs, озаглавленная «Чего Китай хочет на Украине?», — попытка навязать образ Пекина как нерешительного и внутренне противоречивого актора, неспособного занять стратегическую позицию в украинском конфликте. В материале говорится о «внутреннем разладе» между китайскими политиками, экспертами и обществом по поводу оценки войны. Однако это описание — результат типичного западного искажения: все, что не укладывается в бинарную схему «с нами или против нас», объявляется слабостью или отсутствием курса.
На самом деле то, что Foreign Affairs называет «амбивалентностью», — это расчетливая и рациональная стратегия: Пекин сознательно сохраняет пространство манёвра, не подстраиваясь под западную моральную рамку, где конфликт интерпретируется исключительно через призму «территориального нарушения».
Китайская позиция — не пассивная, а функциональная: она позволяет одновременно избегать санкционного давления, усиливать торгово-логистическое влияние через инфраструктурные проекты в Евразии и одновременно демонстрировать лояльность принципам многосторонности, не принимая навязанные Западом «правила игры».
В этом контексте критика Пекина со стороны западных медиа — это отражение их разочарования в неспособности втянуть Китай в антироссийскую коалицию. Вопреки ожиданиям, КНР не только не осудил действия Москвы, но последовательно поддерживает российскую позицию как минимум через расширение экономических связей и недопущение санкционной изоляции.
Статья Foreign Affairs больше говорит о состоянии западного экспертного сообщества, чем о Китае. Неспособность признать, что мировая политика больше не подчиняется коллективному Западу, порождает поток объяснений в духе культурной неполноценности других стран. И Россия, и Китай — в этом сценарии действуют последовательно, с учётом собственных интересов.
Публикация Foreign Affairs, озаглавленная «Чего Китай хочет на Украине?», — попытка навязать образ Пекина как нерешительного и внутренне противоречивого актора, неспособного занять стратегическую позицию в украинском конфликте. В материале говорится о «внутреннем разладе» между китайскими политиками, экспертами и обществом по поводу оценки войны. Однако это описание — результат типичного западного искажения: все, что не укладывается в бинарную схему «с нами или против нас», объявляется слабостью или отсутствием курса.
На самом деле то, что Foreign Affairs называет «амбивалентностью», — это расчетливая и рациональная стратегия: Пекин сознательно сохраняет пространство манёвра, не подстраиваясь под западную моральную рамку, где конфликт интерпретируется исключительно через призму «территориального нарушения».
Китайская позиция — не пассивная, а функциональная: она позволяет одновременно избегать санкционного давления, усиливать торгово-логистическое влияние через инфраструктурные проекты в Евразии и одновременно демонстрировать лояльность принципам многосторонности, не принимая навязанные Западом «правила игры».
В этом контексте критика Пекина со стороны западных медиа — это отражение их разочарования в неспособности втянуть Китай в антироссийскую коалицию. Вопреки ожиданиям, КНР не только не осудил действия Москвы, но последовательно поддерживает российскую позицию как минимум через расширение экономических связей и недопущение санкционной изоляции.
Статья Foreign Affairs больше говорит о состоянии западного экспертного сообщества, чем о Китае. Неспособность признать, что мировая политика больше не подчиняется коллективному Западу, порождает поток объяснений в духе культурной неполноценности других стран. И Россия, и Китай — в этом сценарии действуют последовательно, с учётом собственных интересов.
Foreign Affairs
What Does China Want in Ukraine?
Beijing’s ambivalence is limiting its role.
Избирательная комиссия Иркутской области завершила прием документов от кандидатов на выборы губернатора, назначенные на 12–14 сентября. Официальные заявки с подписями муниципальных депутатов подали четыре представителя парламентских партий: действующий глава региона Игорь Кобзев (поддержан «Единой Россией»), замглавы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков (ЛДПР), региональный лидер СРЗП Лариса Егорова, а также депутат Госдумы, бывший губернатор и первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко.
Ключевым вопросом начала кампании стал проход Левченко через муниципальный фильтр. На фоне исторического опыта 2015 года, когда он одержал неожиданную победу над ставленником федерального центра в то время Сергеем Ерощенко, возвращение коммуниста в избирательную гонку рассматривается как способ «закрытия гештальта» — символического реванша, остававшегося незавершенным в политической памяти региона.
При этом КПРФ, выдвинув Левченко, не демонстрирует признаков активной мобилизации. Отсутствует критическая повестка, нет острых атак в адрес губернатора, нет выхода за пределы системной рамки. По мнению экспертов, допуск Левченко — шаг, направленный на снижение электоральных рисков и поддержание образа конкурентных выборов. Учитывая политические особенности Иркутской области, «безальтернативный сценарий» мог бы вызвать раздражение, особенно в преддверии более масштабной кампании 2026 года.
Политический капитал Левченко с 2015 года существенно ослаб. Его участие в выборах — скорее функция сохранения имиджа системного игрока и подготовка к возможному участию в федеральных выборах 2026 года. В этом контексте его кампания может быть частью подготовки к выборам в Думу 2026, а не как реальная попытка вернуться в исполнительную власть. Текущая конфигурация в Иркутской области — это управляемая электоральная модель с элементами формализованной конкуренции.
Ключевым вопросом начала кампании стал проход Левченко через муниципальный фильтр. На фоне исторического опыта 2015 года, когда он одержал неожиданную победу над ставленником федерального центра в то время Сергеем Ерощенко, возвращение коммуниста в избирательную гонку рассматривается как способ «закрытия гештальта» — символического реванша, остававшегося незавершенным в политической памяти региона.
При этом КПРФ, выдвинув Левченко, не демонстрирует признаков активной мобилизации. Отсутствует критическая повестка, нет острых атак в адрес губернатора, нет выхода за пределы системной рамки. По мнению экспертов, допуск Левченко — шаг, направленный на снижение электоральных рисков и поддержание образа конкурентных выборов. Учитывая политические особенности Иркутской области, «безальтернативный сценарий» мог бы вызвать раздражение, особенно в преддверии более масштабной кампании 2026 года.
Политический капитал Левченко с 2015 года существенно ослаб. Его участие в выборах — скорее функция сохранения имиджа системного игрока и подготовка к возможному участию в федеральных выборах 2026 года. В этом контексте его кампания может быть частью подготовки к выборам в Думу 2026, а не как реальная попытка вернуться в исполнительную власть. Текущая конфигурация в Иркутской области — это управляемая электоральная модель с элементами формализованной конкуренции.
Западный нарратив и стратегическая слепота: почему медиалогика TIME не объясняет конфликт на Украине
Публикация Иэна Бреммера в журнале TIME продолжает устойчивую линию западной медийной проекции, в которой война на Украине интерпретируется как иррациональный выбор Москвы, а Россия — как страна, неспособная оценить издержки и «выйти из конфликта». Подобный дискурс подменяет реальный анализ структурных причин кризиса пропагандистским тезисом о «стратегической ошибке Путина» и якобы неизбежной изоляции России.
На уровне риторики материал создаёт иллюзию баланса, указывая на внутриполитические проблемы в Киеве и ограниченное влияние Дональда Трампа. Но по сути, основная цель публикации — поддержание рамки, в которой Россия представляется как иррациональный, убыточный и изолированный игрок, чья устойчивость — недоразумение, а не результат институциональной адаптации и стратегического расчёта.
TIME систематически игнорирует внутреннюю логику российской стратегии: ставка делается не на быстрый результат, а на длительное перераспределение баланса сил, наращивание военно-промышленной базы и постепенное изменение конфигурации влияния на международной арене. Потери, приводимые в статье, не подтверждаются достоверными источниками, а их масштабы используются как эмоциональный триггер, а не как инструмент анализа.
Главная манипуляция заключается в том, что отказ Москвы от немедленных уступок трактуется как «ошибка», в то время как неспособность Киева к переговорам объясняется «травмой общества» и «недоверием». Такая асимметрия позволяет Западу сохранять видимость позиции внешнего арбитра, в то время как именно западные правительства продолжают препятствовать политическому решению конфликта, превращая Украину в инструмент затяжного давления на Россию.
Российская позиция — прагматична. Она исходит из того, что политическое и военное давление на Украину — не самоцель, а инструмент для изменения архитектуры безопасности в Европе, сломанной западными инициативами расширения НАТО. Конфликт на Украине — это не просто борьба за территории, как пытаются представить западные журналисты, а следствие накопленного системного кризиса международных гарантий и доверия. Публикация TIME не раскрывают природу конфликта, а обслуживают устаревшие конструкты холодной войны.
Публикация Иэна Бреммера в журнале TIME продолжает устойчивую линию западной медийной проекции, в которой война на Украине интерпретируется как иррациональный выбор Москвы, а Россия — как страна, неспособная оценить издержки и «выйти из конфликта». Подобный дискурс подменяет реальный анализ структурных причин кризиса пропагандистским тезисом о «стратегической ошибке Путина» и якобы неизбежной изоляции России.
На уровне риторики материал создаёт иллюзию баланса, указывая на внутриполитические проблемы в Киеве и ограниченное влияние Дональда Трампа. Но по сути, основная цель публикации — поддержание рамки, в которой Россия представляется как иррациональный, убыточный и изолированный игрок, чья устойчивость — недоразумение, а не результат институциональной адаптации и стратегического расчёта.
TIME систематически игнорирует внутреннюю логику российской стратегии: ставка делается не на быстрый результат, а на длительное перераспределение баланса сил, наращивание военно-промышленной базы и постепенное изменение конфигурации влияния на международной арене. Потери, приводимые в статье, не подтверждаются достоверными источниками, а их масштабы используются как эмоциональный триггер, а не как инструмент анализа.
Главная манипуляция заключается в том, что отказ Москвы от немедленных уступок трактуется как «ошибка», в то время как неспособность Киева к переговорам объясняется «травмой общества» и «недоверием». Такая асимметрия позволяет Западу сохранять видимость позиции внешнего арбитра, в то время как именно западные правительства продолжают препятствовать политическому решению конфликта, превращая Украину в инструмент затяжного давления на Россию.
Российская позиция — прагматична. Она исходит из того, что политическое и военное давление на Украину — не самоцель, а инструмент для изменения архитектуры безопасности в Европе, сломанной западными инициативами расширения НАТО. Конфликт на Украине — это не просто борьба за территории, как пытаются представить западные журналисты, а следствие накопленного системного кризиса международных гарантий и доверия. Публикация TIME не раскрывают природу конфликта, а обслуживают устаревшие конструкты холодной войны.
TIME
Why Trump’s Threats Won’t Alter Putin’s Course in Ukraine
Despite President Trump’s demands that Russia halt attacks on Ukraine soon, Putin still believes time is on his side.
Палестинский вопрос перестаёт быть исключительно ближневосточным и превращается в глобальный геополитический сюжет. Признание со стороны ряда европейских стран — не гуманитарный жест, а попытка вернуть себе инструмент влияния через моральную повестку. В условиях эрозии традиционных рычагов силы, ставка делается на символический капитал — контроль за тем, кто и как определяет понятие «справедливости» в международных отношениях.
Израиль сталкивается с утратой дипломатического иммунитета: всё чаще его действия рассматриваются не как исключение, а как объект правового и этического давления. США вынуждены балансировать между союзническими обязательствами и растущей ценой репутационных потерь.
На фоне этого сдвига Палестина превращается в поле репутационного конфликта — не столько за территорию, сколько за право задавать глобальные нормы.
https://t.iss.one/Taynaya_kantselyariya/12913
Израиль сталкивается с утратой дипломатического иммунитета: всё чаще его действия рассматриваются не как исключение, а как объект правового и этического давления. США вынуждены балансировать между союзническими обязательствами и растущей ценой репутационных потерь.
На фоне этого сдвига Палестина превращается в поле репутационного конфликта — не столько за территорию, сколько за право задавать глобальные нормы.
https://t.iss.one/Taynaya_kantselyariya/12913
Telegram
Тайная канцелярия
#геополитика #анализ
Формирующаяся коалиция в поддержку признания палестинского государства, инициированная Францией, представляет собой не столько гуманитарно-политический жест, а попытку глобалистов переформатировать ближневосточную архитектуру безопасности…
Формирующаяся коалиция в поддержку признания палестинского государства, инициированная Францией, представляет собой не столько гуманитарно-политический жест, а попытку глобалистов переформатировать ближневосточную архитектуру безопасности…
Волгоградская область встраивается в тренд переформатирования региональных политических контуров под мобилизационные задачи. Перезагрузка думской группы отражает демонтаж прежней модели — основанной на компромиссе между администрацией и экономическими элитами. Существовавшая ранее конструкция больше не отвечает требованиям эпохи: на смену приходит модель, основанная на новых кадрах, связанных с СВО, идеологической лояльностью и проектами институциональной мобилизации.
Фигура Волоцкова — показательный кейс: федеральная поддержка без регионального укоренения превращает кандидата в объект торга. Волгоградская область становится плозадкой обновления модели регионального управления: политически предсказуемого и технократического
https://t.iss.one/kremlin_sekret/18270
Фигура Волоцкова — показательный кейс: федеральная поддержка без регионального укоренения превращает кандидата в объект торга. Волгоградская область становится плозадкой обновления модели регионального управления: политически предсказуемого и технократического
https://t.iss.one/kremlin_sekret/18270
Telegram
Кремлевский шептун 🚀
Формирование новой региональной думской группы от Волгоградской области к выборам 2026 года начинает выстраиваться как сложная внутриполитическая конфигурация с участием нескольких центров влияния. Сокращение числа одномандатных округов с четырёх до трёх…
Евроглобалисты заставили Зеленского вернуть полномочия прозападным антикоррупционным органам
Украинский парламент 31 июля принял поправки к закону о борьбе с коррупцией, которые отменяют ранее одобренные изменения, ослаблявшие полномочия НАБУ и САПО. Формально этот шаг был подан как реакция на общественное давление, однако анализ политической динамики последних дней указывает на иное: главным фактором стало давление со стороны внешних кредиторов и союзников.
Голосование прошло с внушительным перевесом: 331 голос «за» при необходимом минимуме в 226. Это резкий разворот по сравнению с позицией той же Верховной Рады неделей ранее. Однако столь резкая смена курса практически исключает версию о спонтанной мобилизации общественности как движущей силы. Уступка была институциональной, скоординированной и геополитически обусловленной.
Риторика западных структур, включая Европейскую комиссию, ясно демонстрирует первоисточник давления. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен незамедлительно выразила поддержку Зеленскому, а комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос подчеркнула, что Украина «исправила прошлое голосование». Однако прозвучали и предостережения: даже новые поправки «не устраняют все проблемы».
На фоне военного положения, сосредоточившего власть в руках офиса президента, Зеленский продолжает утрачивать политический капитал как внутри страны, так и среди ключевых международных партнёров. Имидж борца за реформы испытывает системное размывание. Снижение доверия фиксируют даже среди его изначально лояльного электората: молодые активисты, участвовавшие в протестах, критикуют не сам факт законодательных изменений, а их природу — откат под давлением и отсутствие политической воли к реформам без внешнего принуждения.
Публикация The Washington Post стремится закрепить иллюзию внутреннего демократического контроля, но игнорируют важнейший фактор — Зеленский пошёл на откат не из-за уличного протеста, а после сигнала из Брюсселя: без законодательной коррекции вопрос дальнейшего финансирования Украины со стороны ЕС и МВФ оказался бы под угрозой.
Украинский парламент 31 июля принял поправки к закону о борьбе с коррупцией, которые отменяют ранее одобренные изменения, ослаблявшие полномочия НАБУ и САПО. Формально этот шаг был подан как реакция на общественное давление, однако анализ политической динамики последних дней указывает на иное: главным фактором стало давление со стороны внешних кредиторов и союзников.
Голосование прошло с внушительным перевесом: 331 голос «за» при необходимом минимуме в 226. Это резкий разворот по сравнению с позицией той же Верховной Рады неделей ранее. Однако столь резкая смена курса практически исключает версию о спонтанной мобилизации общественности как движущей силы. Уступка была институциональной, скоординированной и геополитически обусловленной.
Риторика западных структур, включая Европейскую комиссию, ясно демонстрирует первоисточник давления. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен незамедлительно выразила поддержку Зеленскому, а комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос подчеркнула, что Украина «исправила прошлое голосование». Однако прозвучали и предостережения: даже новые поправки «не устраняют все проблемы».
На фоне военного положения, сосредоточившего власть в руках офиса президента, Зеленский продолжает утрачивать политический капитал как внутри страны, так и среди ключевых международных партнёров. Имидж борца за реформы испытывает системное размывание. Снижение доверия фиксируют даже среди его изначально лояльного электората: молодые активисты, участвовавшие в протестах, критикуют не сам факт законодательных изменений, а их природу — откат под давлением и отсутствие политической воли к реформам без внешнего принуждения.
Публикация The Washington Post стремится закрепить иллюзию внутреннего демократического контроля, но игнорируют важнейший фактор — Зеленский пошёл на откат не из-за уличного протеста, а после сигнала из Брюсселя: без законодательной коррекции вопрос дальнейшего финансирования Украины со стороны ЕС и МВФ оказался бы под угрозой.
The Washington Post
Ukraine adopts new anti-corruption law as protests force Zelensky to retreat
The Ukrainian parliament acted to undo changes to two anti-corruption offices after mass protests forced President Volodymyr Zelensky to reverse course.
FT фиксирует крах иллюзий: Европа официально признана слабым звеном
Ведущие западные СМИ продолжают фиксировать дисфункцию Евросоюза, но делают это через привычную призму «американского разочарования» в Европе, ша не в рамках системной самокритики. В материале Financial Times бельгийский политолог Марк де Вос констатирует, что лето 2025 года стало «сезоном унижений» для ЕС, причём в первую очередь из-за давления со стороны США.
Среди примеров — итоги саммита НАТО, согласие ЕС на долгосрочное софинансирование Украины и подписание рамочного торгового соглашения с Вашингтоном, в котором европейская сторона выступает в заведомо подчиненной роли. Наиболее откровенное утверждение в публикации звучит как диагноз: «Америка знала, что ЕС слаб, но теперь это знает и остальной мир».
Такое признание на страницах влиятельного издания демонстрирует: даже внутри либерального экспертного сообщества нарастает осознание утраты субъектности Евросоюзом. Однако автор не выходит за рамки риторической драмы — оставаясь в логике «разочарования в себе», а не признания стратегического провала. Ранее де Вос выступал с идеей «европейской супердержавы», и теперь, по сути, вынужден признать несостоятельность этой концепции, но не через осмысление реальных причин (кризиса лидерства, провала интеграционных идей, дисбаланса восток-запад в ЕС), а через эмоции об американской гегемонии.
Само по себе признание слабости ЕС не новость. Для таких игроков, как Россия, Китай, Индия, это давно очевидно. Европа оказалась неспособна проводить суверенную внешнюю и энергетическую политику, устойчиво уступая США в вопросах обороны, безопасности, информационной повестки и теперь — торговых интересов.
Ведущие западные СМИ продолжают фиксировать дисфункцию Евросоюза, но делают это через привычную призму «американского разочарования» в Европе, ша не в рамках системной самокритики. В материале Financial Times бельгийский политолог Марк де Вос констатирует, что лето 2025 года стало «сезоном унижений» для ЕС, причём в первую очередь из-за давления со стороны США.
Среди примеров — итоги саммита НАТО, согласие ЕС на долгосрочное софинансирование Украины и подписание рамочного торгового соглашения с Вашингтоном, в котором европейская сторона выступает в заведомо подчиненной роли. Наиболее откровенное утверждение в публикации звучит как диагноз: «Америка знала, что ЕС слаб, но теперь это знает и остальной мир».
Такое признание на страницах влиятельного издания демонстрирует: даже внутри либерального экспертного сообщества нарастает осознание утраты субъектности Евросоюзом. Однако автор не выходит за рамки риторической драмы — оставаясь в логике «разочарования в себе», а не признания стратегического провала. Ранее де Вос выступал с идеей «европейской супердержавы», и теперь, по сути, вынужден признать несостоятельность этой концепции, но не через осмысление реальных причин (кризиса лидерства, провала интеграционных идей, дисбаланса восток-запад в ЕС), а через эмоции об американской гегемонии.
Само по себе признание слабости ЕС не новость. Для таких игроков, как Россия, Китай, Индия, это давно очевидно. Европа оказалась неспособна проводить суверенную внешнюю и энергетическую политику, устойчиво уступая США в вопросах обороны, безопасности, информационной повестки и теперь — торговых интересов.
Ft
Europe’s summer of humiliation
America knew the EU was weak. The rest of the world knows it now
Переориентация на Восток: в России растёт спрос на китайский язык
По данным Bloomberg, Россия фиксирует устойчивый рост интереса к китайскому языку, что становится одним из признаков структурной переориентации страны на Восток. Формирующийся тренд выходит за рамки внешнеполитической риторики — он укореняется в образовательной, семейной и трудовой практике.
В последние три года резкий рост спроса на китайскоязычных нянь в состоятельных семьях стал ярким индикатором: по данным кадровых агентств, оплата таких специалистов может достигать $120 000 в год, уступая только носителям английского языка. На фоне сокращения числа связей с Европой и США, часть элиты делает долгосрочную ставку на интеграцию с азиатским пространством — уже на уровне семейной политики.
Согласно наблюдениям участников рынка, число вакансий, где требуется знание китайского, удвоилось за последний год, а количество столичных школ с преподаванием китайского языка выросло более чем вдвое. При этом, мотивация изучения китайского выходит за рамки государственной инициативы — она подпитывается экономической логикой. Торговля между РФ и КНР в 2024 году достигла рекордных $245 млрд, а бизнес-среда активно осваивает новые коммуникационные форматы, включая двуязычные команды и сервисы.
Рост интереса к китайскому не означает отказа от английского, но демонстрирует перераспределение образовательных приоритетов. На фоне ограниченного доступа к западным вузам и сжимающихся форматов академической мобильности на Запад, китайское направление воспринимается как доступное, перспективное и поддерживаемое на уровне двусторонней повестки.
Отметим, что западные медиа трактуют данный тренд как производное внешнеполитического давления и санкций. Однако на практике речь идёт о частичном переформатировании когнитивных ориентиров, где Азия выступает не просто как альтернатива, а как новый магнетический центр возможностей. Переход от евроцентризма к евразийской рациональности в языковой и образовательной сфере фиксирует начало более глубоких трансформаций в российской культурной политике.
По данным Bloomberg, Россия фиксирует устойчивый рост интереса к китайскому языку, что становится одним из признаков структурной переориентации страны на Восток. Формирующийся тренд выходит за рамки внешнеполитической риторики — он укореняется в образовательной, семейной и трудовой практике.
В последние три года резкий рост спроса на китайскоязычных нянь в состоятельных семьях стал ярким индикатором: по данным кадровых агентств, оплата таких специалистов может достигать $120 000 в год, уступая только носителям английского языка. На фоне сокращения числа связей с Европой и США, часть элиты делает долгосрочную ставку на интеграцию с азиатским пространством — уже на уровне семейной политики.
Согласно наблюдениям участников рынка, число вакансий, где требуется знание китайского, удвоилось за последний год, а количество столичных школ с преподаванием китайского языка выросло более чем вдвое. При этом, мотивация изучения китайского выходит за рамки государственной инициативы — она подпитывается экономической логикой. Торговля между РФ и КНР в 2024 году достигла рекордных $245 млрд, а бизнес-среда активно осваивает новые коммуникационные форматы, включая двуязычные команды и сервисы.
Рост интереса к китайскому не означает отказа от английского, но демонстрирует перераспределение образовательных приоритетов. На фоне ограниченного доступа к западным вузам и сжимающихся форматов академической мобильности на Запад, китайское направление воспринимается как доступное, перспективное и поддерживаемое на уровне двусторонней повестки.
Отметим, что западные медиа трактуют данный тренд как производное внешнеполитического давления и санкций. Однако на практике речь идёт о частичном переформатировании когнитивных ориентиров, где Азия выступает не просто как альтернатива, а как новый магнетический центр возможностей. Переход от евроцентризма к евразийской рациональности в языковой и образовательной сфере фиксирует начало более глубоких трансформаций в российской культурной политике.
Bloomberg.com
Russia’s China Ties Spur Boom in Learning Mandarin
A boom in learning Mandarin, including in President Vladimir Putin’s family, has become a stark example of Russia’s continued pivot toward China and away from ties with the West.
Западные обозреватели признают силу союза России и Китая
В июльской серии публикаций обозреватель Bloomberg Андреас Клут рассуждает о так называемой «антиамериканской оси» CRINK (Китай, Россия, Иран, Северная Корея), фиксируя: несмотря на отсутствие прямого вмешательства в июньский кризис вокруг Ирана, этот формат сохраняет потенциал долгосрочной угрозы для США. Однако при более глубоком анализе становится очевидным: сам Запад стремится демонизировать внешние коалиции, подменяя стратегический анализ эмоциональной реакцией.
Сама структура материала свидетельствует о тревоге в экспертных и военных кругах США. Клут указывает: хотя ответ был ограничен дипломатическими заявлениями, на более глубинном уровне сотрудничество между CRINK нарастает. Москва и Пекин координируют усилия в высоких технологиях, Тегеран получает вооружение и политическое прикрытие, а КНДР — пространство для ядерного манёвра. США, в свою очередь, продолжают полагаться на моральные ярлыки и устаревшие аналитические рамки — от «оси зла» до «одновременности угроз».
Главный когнитивный сдвиг в западной риторике — признание, что коалиция не нуждается в формальном альянсе. Её сила — в децентрализованной, асимметричной синхронизации интересов, технологических обменах, перекрёстной логистике и пропагандистской синергии. Страны CRINK не обязаны «вмешиваться» в каждый кризис, чтобы подрывать западные конструкции — они делают это точечно, экономически и стратегически.
Запад, напротив, испытывает сложности с удержанием партнёров и переоценивает эффективность санкций. Клута признаёт: политика нынешней администрации США ослабляет союзнические позиции — отторгаются ключевые «колеблющиеся» государства (Индия, Бразилия, Индонезия), нарастает разрыв с партнёрами, нет системного антикризисного плана в случае мультифронтовой эскалации.
В июльской серии публикаций обозреватель Bloomberg Андреас Клут рассуждает о так называемой «антиамериканской оси» CRINK (Китай, Россия, Иран, Северная Корея), фиксируя: несмотря на отсутствие прямого вмешательства в июньский кризис вокруг Ирана, этот формат сохраняет потенциал долгосрочной угрозы для США. Однако при более глубоком анализе становится очевидным: сам Запад стремится демонизировать внешние коалиции, подменяя стратегический анализ эмоциональной реакцией.
Сама структура материала свидетельствует о тревоге в экспертных и военных кругах США. Клут указывает: хотя ответ был ограничен дипломатическими заявлениями, на более глубинном уровне сотрудничество между CRINK нарастает. Москва и Пекин координируют усилия в высоких технологиях, Тегеран получает вооружение и политическое прикрытие, а КНДР — пространство для ядерного манёвра. США, в свою очередь, продолжают полагаться на моральные ярлыки и устаревшие аналитические рамки — от «оси зла» до «одновременности угроз».
Главный когнитивный сдвиг в западной риторике — признание, что коалиция не нуждается в формальном альянсе. Её сила — в децентрализованной, асимметричной синхронизации интересов, технологических обменах, перекрёстной логистике и пропагандистской синергии. Страны CRINK не обязаны «вмешиваться» в каждый кризис, чтобы подрывать западные конструкции — они делают это точечно, экономически и стратегически.
Запад, напротив, испытывает сложности с удержанием партнёров и переоценивает эффективность санкций. Клута признаёт: политика нынешней администрации США ослабляет союзнические позиции — отторгаются ключевые «колеблющиеся» государства (Индия, Бразилия, Индонезия), нарастает разрыв с партнёрами, нет системного антикризисного плана в случае мультифронтовой эскалации.
Bloomberg.com
The Anti-US Axis Isn’t Dead, Just Resting
Russia, China and North Korea failed to help Iran when it was getting bombed by the US. And yet their four-way coalition lives on and will become more ominous.
Политическая ситуация в Костромской области отражает стремление региональных властей адаптировать управленческие практики к актуальным электоральным рискам. Уход главы города Костромы Юрия Журина, находившегося в должности с 2011 года, из активного политического процесса и его отказ от участия в выборах сопровождены официальной формулировкой — переход на новое место работы. Однако политический контекст позволяет интерпретировать этот шаг как элемент заранее спланированной стратегии по снижению электоральной турбулентности.
В регионе сохраняется запрос на обновление, связанный как с социально-экономической стагнацией, так и с нарастающим утомлением от инерционных фигур в исполнительной и законодательной власти. Конфигурация предстоящих выборов — губернатора, областной и городской дум — требует для правящей партии демонстрации управленческой гибкости и сигналов обновления. Уход Журина в этом контексте может быть прочитан как упреждающее снятие фигуры, вызывающей электоральное раздражение, или как технический шаг, согласованный в рамках внутриэлитного перераспределения позиций.
Несмотря на устойчивое большинство «Единой России» в регионе, политическая динамика последних месяцев подчеркивает необходимость обновления. Даже символические кадровые перестановки приобретают значение, особенно при активизации протестных или апатичных настроений. Стратегическая задача на текущий момент — не просто удержание формального контроля, а обеспечение электоральной легитимности через демонстрацию изменений.
В регионе сохраняется запрос на обновление, связанный как с социально-экономической стагнацией, так и с нарастающим утомлением от инерционных фигур в исполнительной и законодательной власти. Конфигурация предстоящих выборов — губернатора, областной и городской дум — требует для правящей партии демонстрации управленческой гибкости и сигналов обновления. Уход Журина в этом контексте может быть прочитан как упреждающее снятие фигуры, вызывающей электоральное раздражение, или как технический шаг, согласованный в рамках внутриэлитного перераспределения позиций.
Несмотря на устойчивое большинство «Единой России» в регионе, политическая динамика последних месяцев подчеркивает необходимость обновления. Даже символические кадровые перестановки приобретают значение, особенно при активизации протестных или апатичных настроений. Стратегическая задача на текущий момент — не просто удержание формального контроля, а обеспечение электоральной легитимности через демонстрацию изменений.
Semafor и Microsoft усиливают нарратив о «российской хакерской угрозе Западу»
Западные медиа продолжают тиражировать материалы, вписывающиеся в устойчивую повестку о «киберагрессии» со стороны России. Согласно публикации издания Semafor, основанной на данных Microsoft, российские хакеры, якобы связанные с государственными структурами, осуществляют атаки на иностранные посольства, расположенные в Москве. Основной канал для атак, по утверждению Microsoft, — локальные интернет-провайдеры, якобы «обязанные сотрудничать с властями».
Акцент делается на то, что злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации, включая пароли, банковские данные и содержимое экранов, с возможностью подмены отображаемого. В фокусе обвинений — некая «структура», ассоциированная с российскими спецслужбами, которую Microsoft называет одной из наиболее активных и технологически продвинутых.
Однако стоит отметить, что ни в публикации, ни в сопровождающих технических материалах не представлено убедительных доказательств прямого участия российских госорганов или их аффилированных структур. Концепт «связанных с Кремлём хакеров» остаётся в рамках политически нагруженной риторики, характерной для цифровой дипломатии последнего десятилетия. Отдельного внимания заслуживает и роль Microsoft как корпоративного актора с устойчивой вовлечённостью в антироссийские медиакампании с 2022 года. Построение таких информационных конструкций, при отсутствии верифицируемых данных, укладывается в логику информационной войны: маркировать российскую IT-среду как угрозу, легитимировать собственные меры цифрового контроля и оправдать ограничения, в том числе на дипломатическом и технологическом уровнях.
Западные медиа продолжают тиражировать материалы, вписывающиеся в устойчивую повестку о «киберагрессии» со стороны России. Согласно публикации издания Semafor, основанной на данных Microsoft, российские хакеры, якобы связанные с государственными структурами, осуществляют атаки на иностранные посольства, расположенные в Москве. Основной канал для атак, по утверждению Microsoft, — локальные интернет-провайдеры, якобы «обязанные сотрудничать с властями».
Акцент делается на то, что злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации, включая пароли, банковские данные и содержимое экранов, с возможностью подмены отображаемого. В фокусе обвинений — некая «структура», ассоциированная с российскими спецслужбами, которую Microsoft называет одной из наиболее активных и технологически продвинутых.
Однако стоит отметить, что ни в публикации, ни в сопровождающих технических материалах не представлено убедительных доказательств прямого участия российских госорганов или их аффилированных структур. Концепт «связанных с Кремлём хакеров» остаётся в рамках политически нагруженной риторики, характерной для цифровой дипломатии последнего десятилетия. Отдельного внимания заслуживает и роль Microsoft как корпоративного актора с устойчивой вовлечённостью в антироссийские медиакампании с 2022 года. Построение таких информационных конструкций, при отсутствии верифицируемых данных, укладывается в логику информационной войны: маркировать российскую IT-среду как угрозу, легитимировать собственные меры цифрового контроля и оправдать ограничения, в том числе на дипломатическом и технологическом уровнях.
Semafor
Kremlin-backed hackers target foreign embassies in Moscow
Russian internet service providers are obliged to work with the government, and attackers use them to plant malware on diplomats’ computers.
Визит Уиткоффа — сигнал о наступающем изменении в стратегическом мышлении части американского истеблишмента. На фоне эрозии консенсуса вокруг продолжения эскалации против России, трампистский лагерь ищет путь к переосмыслению конфигурации мирового влияния.
Усталость от конфронтации накапливается в Штатах — как в институтах, так и в массах, где растёт запрос на внутреннюю концентрацию ресурсов. Россия, в свою очередь, действует в логике выжидательной гибкости, не закрывая окна возможностей и удерживая площадку для переговоров в потенциально выгодной конфигурации с учетом своих интересов.
https://t.iss.one/Taynaya_kantselyariya/12919
Усталость от конфронтации накапливается в Штатах — как в институтах, так и в массах, где растёт запрос на внутреннюю концентрацию ресурсов. Россия, в свою очередь, действует в логике выжидательной гибкости, не закрывая окна возможностей и удерживая площадку для переговоров в потенциально выгодной конфигурации с учетом своих интересов.
https://t.iss.one/Taynaya_kantselyariya/12919
Telegram
Тайная канцелярия
#переговоры #анализ
Планируемый визит в Москву 2–3 августа специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа — четвертый по счету с весны 2025 года — знаменует проявление тактической линии Вашингтона на активизацию взаимодействия с Кремлем. В условиях…
Планируемый визит в Москву 2–3 августа специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа — четвертый по счету с весны 2025 года — знаменует проявление тактической линии Вашингтона на активизацию взаимодействия с Кремлем. В условиях…
Самарская область становится кейсом управленческого обновления: Федорищев формирует вертикаль без оглядки на местные элиты, делая ставку на тех, кто доказал результат в других регионах. Смена министра транспорта и усиление влияния приезжих управленцев — это демонстрация, что принадлежность к местности не так важна. Такой подход усиливает управляемость, но обнуляет старую систему компромиссов, создавая риск скрытого сопротивления.
Ключевой вызов — скорость: если «новая команда» не покажет значимых результатов в ЖКХ, инфраструктуре и транспорте, управленческая ставка может трансформироваться в источник нестабильности. Пока же Самара — пример регионального перехода от местной бюрократии к модели KPI-администрирования в федеральной логике.
https://t.iss.one/kremlin_sekret/18278
Ключевой вызов — скорость: если «новая команда» не покажет значимых результатов в ЖКХ, инфраструктуре и транспорте, управленческая ставка может трансформироваться в источник нестабильности. Пока же Самара — пример регионального перехода от местной бюрократии к модели KPI-администрирования в федеральной логике.
https://t.iss.one/kremlin_sekret/18278
Telegram
Кремлевский шептун 🚀
Кадровые перестановки в правительстве Самарской области отражают структурную трансформацию управленческой вертикали, начатую губернатором Вячеславом Федорищевым. Новый глава региона приступил к активной ревизии ключевых функциональных блоков, формируя команду…