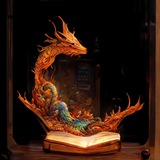Генри Брэндону, второму графу Саффолку, похоже, надоело позировать мистеру Гольбейну. Хотя вообще мальчик усидчивый, он ещё станет одним из лучших студентов Кембриджа — и умрёт в семнадцать от "потной лихорадки".
Миниатюра из собрания Британской королевской семьи, Виндзорский замок.
Миниатюра из собрания Британской королевской семьи, Виндзорский замок.
Нет, я не просветлённый учитель — и, смею надеяться, не дурочка. Мне тоже горько, страшно, холодно внутри и темно, и надежды взять неоткуда.
Просто, во-первых, я всю жизнь действую по принципу "кому от этого станет лучше?", а от умножения выговоренного отчаяния лучше не станет никому, и, во-вторых, я по природе, выучке и многолетней практике — шпильман, жонглёр, рапсод, зовите, как нравится. Я здесь затем, чтобы то, что, как сказал в своё время Бахтин, называют "жизнью", а лучше бы назвать "действительностью", не спрямилось и не схлопнулось, замкнувшись само на себя.
Работа, если оглянуться на последние три тысячи лет, не вполне бессмысленная.
Просто, во-первых, я всю жизнь действую по принципу "кому от этого станет лучше?", а от умножения выговоренного отчаяния лучше не станет никому, и, во-вторых, я по природе, выучке и многолетней практике — шпильман, жонглёр, рапсод, зовите, как нравится. Я здесь затем, чтобы то, что, как сказал в своё время Бахтин, называют "жизнью", а лучше бы назвать "действительностью", не спрямилось и не схлопнулось, замкнувшись само на себя.
Работа, если оглянуться на последние три тысячи лет, не вполне бессмысленная.
Елена Владимировна Староверова, один из лучших и главных моих учителей, та, кому я обязана собой-литературоведом, говорила, что все мы по природе своей, а не по выбору, "классики" или "модернисты", т.е. воспринимаем нынешнее как продолжение существовавшего тысячелетиями — или считаем, что нынешнее традиции противостоит, потому что не было и быть не могло в прошлом того, что совершается теперь.
Изначально мне представлялось, что в этом есть нечто общее с делением на родившихся платониками и аристотелианцами у Колриджа, но жизнь, как водится, придумывает если не новые песни, то новое звучание старых. "Для определения, что мы теперь понимаем под словом "классический", нам бесполезно знать, что это прилагательное восходит к латинскому слову classis, "флот", которое затем получило значение "порядок", — пишет Борхес в эссе "По поводу классиков", далее рассуждая о вечном обновлении актуальности, традиционно. Но, пожалуй, этимология нам как раз пригодится.
Есть те, кто по природе своей не верит, но знает: в мире есть порядок, строй, осмысленность — слово "космос" означает "украшенный", чем я многие годы поражала котят-первокурсников, а вовсе не "пространство" или "очень большое пространство".
Надо ли говорить, что я — "классик", что глубже любой рациональности знаю: нити рвутся, но остаётся их рисунок, то, что было, будет снова, и снова будут говорить, что оно — небывало, что нет у нас ни языка для его описания, ни строя, куда его поместить, что теперь всё будет иначе, если будет вовсе.
Возможно, не будет; но, если будет, никуда не денется.
Изначально мне представлялось, что в этом есть нечто общее с делением на родившихся платониками и аристотелианцами у Колриджа, но жизнь, как водится, придумывает если не новые песни, то новое звучание старых. "Для определения, что мы теперь понимаем под словом "классический", нам бесполезно знать, что это прилагательное восходит к латинскому слову classis, "флот", которое затем получило значение "порядок", — пишет Борхес в эссе "По поводу классиков", далее рассуждая о вечном обновлении актуальности, традиционно. Но, пожалуй, этимология нам как раз пригодится.
Есть те, кто по природе своей не верит, но знает: в мире есть порядок, строй, осмысленность — слово "космос" означает "украшенный", чем я многие годы поражала котят-первокурсников, а вовсе не "пространство" или "очень большое пространство".
Надо ли говорить, что я — "классик", что глубже любой рациональности знаю: нити рвутся, но остаётся их рисунок, то, что было, будет снова, и снова будут говорить, что оно — небывало, что нет у нас ни языка для его описания, ни строя, куда его поместить, что теперь всё будет иначе, если будет вовсе.
Возможно, не будет; но, если будет, никуда не денется.
Переводческих печалей по поводу Шекспира у меня множество, но "Макбет" среди них — едва ли не самая горькая. Он ведь не только про онкологическое перерождение доброй силы в дурную, он ещё весь про генезис и функционирование речи, про тупик, куда она заходит, и распад смысла на пустые знаки. Signifying nothing, вечный хрестоматийный пример, потому и хрестоматийный, что этот монолог Макбета — как выстрел в голову, в самые области Вернике и Брока.
Речь в "Макбете" зыбится, раскладывается на элементы и пересобирается, вместе со всем миром, вместе с Макбетом и его женой, в разрушении обнаруживая подлинную природу всего и обладая безошибочными свойствами ночного кошмара.
Это начинается с первой сцены первого действия. Шекспировский мир, мир человеческий говорит пятистопным ямбом, та-тАм-та-тАм-та-тАм-та-тАм-та-тАм(та) — мужское окончание звякает кареткой прежней пишущей машинки, когда нажали рычаг возврата, женское тащит за собой следующий ударный слог, заставляя шагать на подъезжающую под ноги строку, как на ступеньку эскалатора.
Но в "Макбете" нас встречают ведьмы, и говорят они шиворот-навыворот, как положено нечистой силе: When shall we three meet again... тАм-та-тАм-та-тАм-та-тАм. По-русски всё про поэзию можно объяснить через Пушкина, ну так вот "на мутном небе мгла носилась" меняется на "мчатся тучи, вьются тучи". Ямб для людей, хорей для не-людей, ведьму ль замуж выдают. Но переводчики наши все соблазняются заходным when и начинают: "Когда..." — автоматически задавая ведьмам ямбический ритм.
Будут у меня силы и время, будет у вас интерес, напишу большое сравнение, как обычно.
Речь в "Макбете" зыбится, раскладывается на элементы и пересобирается, вместе со всем миром, вместе с Макбетом и его женой, в разрушении обнаруживая подлинную природу всего и обладая безошибочными свойствами ночного кошмара.
Это начинается с первой сцены первого действия. Шекспировский мир, мир человеческий говорит пятистопным ямбом, та-тАм-та-тАм-та-тАм-та-тАм-та-тАм(та) — мужское окончание звякает кареткой прежней пишущей машинки, когда нажали рычаг возврата, женское тащит за собой следующий ударный слог, заставляя шагать на подъезжающую под ноги строку, как на ступеньку эскалатора.
Но в "Макбете" нас встречают ведьмы, и говорят они шиворот-навыворот, как положено нечистой силе: When shall we three meet again... тАм-та-тАм-та-тАм-та-тАм. По-русски всё про поэзию можно объяснить через Пушкина, ну так вот "на мутном небе мгла носилась" меняется на "мчатся тучи, вьются тучи". Ямб для людей, хорей для не-людей, ведьму ль замуж выдают. Но переводчики наши все соблазняются заходным when и начинают: "Когда..." — автоматически задавая ведьмам ямбический ритм.
Будут у меня силы и время, будет у вас интерес, напишу большое сравнение, как обычно.
Когда слишком много прекрасного, в одиночку не выдержать. Генрих Фюсли, "Три ведьмы перед Макбетом и Банко", конец XVIII века. И тебе латы как лосины, и тебе буря, и тебе натиск, и тебе жутенькая народная душа.
Девочка в аптеке спрашивает провизора, чудесную Татьяну Ивановну, к которой я хожу многие годы:
— А вот йодомарииин?.. Там же йооод?
— Да, — отвечает ТИ.
— А он помооожет от ядерной войныыы?..
И её мальчик, надуваясь гордым селезнем с бензиновым переливом на груди, начинает объяснять про изотопы.
Я бы хотела доделать книжку, прочесть ещё лекцию-другую, соединить разорванное по глупости и резкости... и так, по мелочи.
Йодомарин от этого точно не поможет.
— А вот йодомарииин?.. Там же йооод?
— Да, — отвечает ТИ.
— А он помооожет от ядерной войныыы?..
И её мальчик, надуваясь гордым селезнем с бензиновым переливом на груди, начинает объяснять про изотопы.
Я бы хотела доделать книжку, прочесть ещё лекцию-другую, соединить разорванное по глупости и резкости... и так, по мелочи.
Йодомарин от этого точно не поможет.
Про ведьм по-русски напишу позже, а пока вот вам Макбет, Банко и ведьмы до Шекспира — из "Хроники" Холиншеда 1577 года. Тогда ведьма, как нынче маньяк, ничем не отличалась от обычных людей.
Шекспир хуже занозы в пятке, — пока не вытащишь, ходить не сможешь — потому что в мозгах. Сказала неосторожно про ведьм в "Макбете", и они мне работать не давали, пока не написала.
Аминь, рассыпься.
Аминь, рассыпься.
Telegraph
О нечистой силе и хорее
То, что ведьмы, которых встречают Макбет и Банко, суть создания не из этого мира, понятно уже с первых строк, с самой первой сцены первого действия, когда ведьмы появляются на сцене. С них трагедия, собственно, и начинается, и сразу становится ясно, что у…
KOLONNA Publications выложила для свободного скачивания нашего Уолпола. 2005 год, много жизней назад, одна из любимейших моих работ — дурацкая, изысканная, абсурдная, хулиганская книжка, обожаемое осьмнадцатое столетие. Горжусь причастностью.
Угощайтесь.
Угощайтесь.
Mitin
ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ СКАЗКИ | Издательство «Kolonna publications, Митин журнал»
Мне тут в комментах напомнили про мартовские иды в связи с Шекспиром — ну так я писала об этом два года назад. Канал тогда был маленький, поэтому собрала для удобства чтения те две записи в одну, инджой.
Telegraph
Мартовские иды
В "Сравнительных жизнеописаниях" Плутарх рассказывает о Цезаре (57, 4): "Друзья Цезаря просили, чтобы он окружил себя телохранителями, и многие предлагали свои услуги. Цезарь не согласился, заявив, что, по его мнению, лучше один раз умереть, чем постоянно…
Выползла в аптеку, на угловом доме под снос, с давно заложенными кирпичом окнами, свежая надпись.
Печаль в том, что не-молчание, как и принятие живописных поз на фоне Апокалипсиса, и хоровая лирика на тему "благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь", и достоевское сладострастие самобичевания работают только как прастихоспади копинговые стратегии, не как инструмент починки реальности. Я вообще не знаю, есть ли такой инструмент нынче, особенно у бесполезного класса, к которому принадлежу.
Печаль в том, что не-молчание, как и принятие живописных поз на фоне Апокалипсиса, и хоровая лирика на тему "благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь", и достоевское сладострастие самобичевания работают только как прастихоспади копинговые стратегии, не как инструмент починки реальности. Я вообще не знаю, есть ли такой инструмент нынче, особенно у бесполезного класса, к которому принадлежу.
Шекспир так Шекспир.
С музыкой.
С музыкой.
Telegraph
Now, a song
В третьей сцене второго действия «Двенадцатой ночи» подгулявшие сэры Тоби и Эндрю требуют у шута Фесте песню. В переводе Кронеберга (1841) разговор между ними выглядит так: Шут: Что ж вам спеть? Любовную песенку или нравоучительную и чинную? Сэр Тоби: Любовную!…
Первым курсам я читала, как это называется на филологическом жаргоне, античку — историю античной литературы. Русскому отделению, журналистам и философам сразу куском, в первом семестре, романогерманцам в первом Грецию, во втором Рим, актёрам отдельно театр. Читала, давясь синдромом самозванца, потому что античку по-хорошему должны читать филологи-классики, а у «англичанки» в активе только сильно прихрамывающая латынь, и почти физическое наслаждение от чтения «Буколик» в оригинале не компенсирует того, что Гомер у меня от Гнедича, Вересаева и Жуковского.
Но там, где бессильна академия, работает магия. Как воспаряли котята-первокурсники от истинного смысла слова «космос», — нет, не небесные тела и пустота между ними — как заворожённо искали, с чего начинается Троянская война, — нет, не с яблока — как дружно оборачивались на дверь сорок первой аудитории, когда я, привычно взмахнув рукой, произносила: «И вот тут из дворца выходит Клитемнестра», — как восторженно пищали от разумного, осмысленного, но всё равно полного чудес мира у Геродота!.. Как хохотали осенью 96-го года над «Всадниками» Аристофана, внезапно оказавшимися неотличимыми от внеаудиторной реальности.
И афинские трагики, конечно. Трагики, которых я сама люблю со щенячества, почти так же давно, как Шекспира. Хотела написать, что особенно Еврипида, но нет, особенно всех троих. Но у Софокла — «Антигону». Да, «Эдип-царь» совершеннее, да, в традиции весомее, но к его величию сложно примыслиться не в абстрактно-философском смысле, но собой, небольшим, тёплым, с мягким животом. Другое дело Исмена, которой достаточно быть правой в своём горе, держать оборону в сердце, не бросая вызов сильным — достаточно до тех пор, пока сильный не вознамерится сожрать того, кого она любит, тогда она встанет рядом, объявит себя соучастницей, хоть и пыталась отговорить сестру от того, что, как это называется в переводе Шервинского и Познякова, «выше сил». Антигоной, с её изначальной убеждённостью, что жизнь ничего не стоит, если творится неправедное, быть не то что сложнее, нужна та степень веры и отчаяния, требовать которой от кого-то — то же людоедство, что отказ Креонта хоронить мёртвого за зло, совершённое при жизни.
Но куда больше веры и отчаяния, даже больше жертвы то, что Антигона говорит Креонту очень простыми словами и чего он, убеждённый, что враг остаётся врагом и после смерти, понять не может. «Я родилась не для вражды взаимной, а для любви», — в переводе Мережковского. «Делить любовь — удел мой, не вражду», — у Зелинского. А у Шервинского и Познякова, которые всем нам, кто не классики, заменяли оригинал на первом курсе, совсем просто: «Я рождена любить, не ненавидеть».
И если тот, кому дана власть, требует отказаться от этого, готова умереть.
Но там, где бессильна академия, работает магия. Как воспаряли котята-первокурсники от истинного смысла слова «космос», — нет, не небесные тела и пустота между ними — как заворожённо искали, с чего начинается Троянская война, — нет, не с яблока — как дружно оборачивались на дверь сорок первой аудитории, когда я, привычно взмахнув рукой, произносила: «И вот тут из дворца выходит Клитемнестра», — как восторженно пищали от разумного, осмысленного, но всё равно полного чудес мира у Геродота!.. Как хохотали осенью 96-го года над «Всадниками» Аристофана, внезапно оказавшимися неотличимыми от внеаудиторной реальности.
И афинские трагики, конечно. Трагики, которых я сама люблю со щенячества, почти так же давно, как Шекспира. Хотела написать, что особенно Еврипида, но нет, особенно всех троих. Но у Софокла — «Антигону». Да, «Эдип-царь» совершеннее, да, в традиции весомее, но к его величию сложно примыслиться не в абстрактно-философском смысле, но собой, небольшим, тёплым, с мягким животом. Другое дело Исмена, которой достаточно быть правой в своём горе, держать оборону в сердце, не бросая вызов сильным — достаточно до тех пор, пока сильный не вознамерится сожрать того, кого она любит, тогда она встанет рядом, объявит себя соучастницей, хоть и пыталась отговорить сестру от того, что, как это называется в переводе Шервинского и Познякова, «выше сил». Антигоной, с её изначальной убеждённостью, что жизнь ничего не стоит, если творится неправедное, быть не то что сложнее, нужна та степень веры и отчаяния, требовать которой от кого-то — то же людоедство, что отказ Креонта хоронить мёртвого за зло, совершённое при жизни.
Но куда больше веры и отчаяния, даже больше жертвы то, что Антигона говорит Креонту очень простыми словами и чего он, убеждённый, что враг остаётся врагом и после смерти, понять не может. «Я родилась не для вражды взаимной, а для любви», — в переводе Мережковского. «Делить любовь — удел мой, не вражду», — у Зелинского. А у Шервинского и Познякова, которые всем нам, кто не классики, заменяли оригинал на первом курсе, совсем просто: «Я рождена любить, не ненавидеть».
И если тот, кому дана власть, требует отказаться от этого, готова умереть.
Я начала работать в 96-м году, когда было круче — как под Кандагаром. И братва приходила за заочниц просить, и зарплату нам по полгода не платили, так что главный преподаватель моей жизни, богиня Елена Владимировна, царство ей небесное, на новогодний стол делала салат, вычёсывая вилочкой мясо со щучьих голов, которые соседка коту принесла... много всего было, много.
Помимо родного университета трудилась я ещё в новооткрытом гуманитарном лицее, где вела факультатив, и в консерватории, на актёрском. Читала "Короля Лира" с шестиклашками и "Орестею" с буратинами — так мы дома звали студентов-актёров, потому как человечки были совершенно деревянные, ничего, кроме сырых эмоций. А им античкой по головам — хрясь!..
Как они стали плакать на "Ипполите", как ржали на "Всадниках", — год, напомню, 96-ой, выборы тогда были с выходкой, совсем по Аристофану, — как читали Плавта по ролям, пританцовывая и подпрыгивая. Как задышали к концу семестра, научились читать и даже немножко говорить.
Воочию не раз с тех пор понаблюдав превращение глазастых полешек в людей, я всею душой уверилась в одном: голова от природы не пуста, она монолитна. В ней нужно вытёсывать, вырубать место для мира — хоть Геродотом, хоть Монтенем, как хорошим инструментом. Иначе она тяжела, и в неё не лезет больше одной мысли, да и та ободрана и перекошена.
----------------------------------
Причудиво тасуется колода: ровно восемь лет назад в ФБ было написано.
Помимо родного университета трудилась я ещё в новооткрытом гуманитарном лицее, где вела факультатив, и в консерватории, на актёрском. Читала "Короля Лира" с шестиклашками и "Орестею" с буратинами — так мы дома звали студентов-актёров, потому как человечки были совершенно деревянные, ничего, кроме сырых эмоций. А им античкой по головам — хрясь!..
Как они стали плакать на "Ипполите", как ржали на "Всадниках", — год, напомню, 96-ой, выборы тогда были с выходкой, совсем по Аристофану, — как читали Плавта по ролям, пританцовывая и подпрыгивая. Как задышали к концу семестра, научились читать и даже немножко говорить.
Воочию не раз с тех пор понаблюдав превращение глазастых полешек в людей, я всею душой уверилась в одном: голова от природы не пуста, она монолитна. В ней нужно вытёсывать, вырубать место для мира — хоть Геродотом, хоть Монтенем, как хорошим инструментом. Иначе она тяжела, и в неё не лезет больше одной мысли, да и та ободрана и перекошена.
----------------------------------
Причудиво тасуется колода: ровно восемь лет назад в ФБ было написано.
Теперь нам тут, как той селёдкиной мордой, тычут в харю Томасом Манном, который говорил, что книги, написанные в Германии за те самые тридцать лет, хорошо бы "скопом пустить в макулатуру", потому что они "неотделимы от запаха позора и крови". Удивительное дело: и антифашист, и беженец, и нобелиат, и без дураков великий писатель — "Доктор Фаустус" меня в своё время потряс на уровне телесном, до температуры за тридцать девять — а как дойдёт до дела — давайте же жечь книги!.. плохие, конечно, наш концлагерь будет только для плохих.
Но я, собственно, не о Томасе Манне. Я о "русский язык скомпрометирован", "стыдно писать по-русски" и "у нас отняли речь". А идите-ка вы в пень, господа. Я знаю историю своей семьи с начала XVIII века, это по документам только, и скажу так: триста лет мы были Россия, а она нас жрала — то верой не вышли, то происхождением, то прекрасностью лица. Триста лет наша кровь поливала эту землю, и если у меня есть какие права, то на речь. Если кого это не устраивает, может в своё удовольствие исключать меня из людей. Нам, старообрядцам, лишенцам и чуждым элементам, не привыкать.
Но я, собственно, не о Томасе Манне. Я о "русский язык скомпрометирован", "стыдно писать по-русски" и "у нас отняли речь". А идите-ка вы в пень, господа. Я знаю историю своей семьи с начала XVIII века, это по документам только, и скажу так: триста лет мы были Россия, а она нас жрала — то верой не вышли, то происхождением, то прекрасностью лица. Триста лет наша кровь поливала эту землю, и если у меня есть какие права, то на речь. Если кого это не устраивает, может в своё удовольствие исключать меня из людей. Нам, старообрядцам, лишенцам и чуждым элементам, не привыкать.
В лифте на доске объявлений список вакансий на каком-то производстве: сварщик, слесарь и... наладчик стоиков, читаю негодными глазами.
Там "станков", конечно, но не помешал бы, не помешал.
Там "станков", конечно, но не помешал бы, не помешал.
В мае прошлого года на романтической выставке в Новой Третьяковке — он увидел щит от взятых в Трое трофеев, прикреплённый гвоздями к стене, и заплакал — я всё возвращалась к этому интерьеру от волнистых туманов с леденцовыми лунами и тяжеловесных аллегорий. Он из собрания Исторического музея, 1848 года. Неизвестный художник, комната для занятий в неизвестном особняке.
Такие прохладно-безлюдные тщательные работы XIX века я вообще люблю, но тут ещё этот неожиданный ракурс — как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Странно умиротворяющий, вне времени, вне событий: стол, неопознаваемые книги, бог знает, что видно из окна.
Такие прохладно-безлюдные тщательные работы XIX века я вообще люблю, но тут ещё этот неожиданный ракурс — как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Странно умиротворяющий, вне времени, вне событий: стол, неопознаваемые книги, бог знает, что видно из окна.
Как бы ни было черно, как бы ни было пусто, когда хоронила любимых, когда месяцами ползала по дому, держась за стену, бывало, что и встать не могла, всегда, всегда мир вдруг трогал за плечо, и как-то падал свет, что-то попадалось на глаза, долетало случайное слово от шедших мимо, случайная музыка по радио, случайная строчка теплилась на языке — и чернота на секунду осыпалась почти видимыми хлопьями. Потом нарастала опять, но что-то живое, упрямое внутри, не больше того самого горчичного зерна, успевало вспомнить и продолжало упрямиться.
А сейчас нет. Я не жалуюсь, просто даже Шекспира не могу.
А сейчас нет. Я не жалуюсь, просто даже Шекспира не могу.
Те, кто читал меня в фб, а то и в жежешке, знают, что у меня, помимо Шекспира, есть ещё одна любовь — мистер Шерлок Холмс. Вот давайте про него.
Мало что всё же служит более питательным субстратом для пустого теоретизирования, чем недостаток информации.
Как ни возьмутся обсуждать мистера Холмса и узость его кругозора, заявленную, но после опровергнутую, вечно одно: был ли сэр Артур непоследователен в обрисовке персонажа?.. или это такая эволюция, молодой задиристый Холмс ничего, кроме своей криминалистики, знать не желает, а потом пообтесался, книжки стал читать?.. или просто автор понял, что совсем узкий специалист читателю не так интересен?.. или Холмс троллит доброго доктора, который не так изощрён, поскольку старый солдат и не знает слов любви?
А ведь тот же самый текст, где Ватсон печалится о невежестве Холмса, "Этюд в багровых тонах", на эти вопросы отвечает прямо и исчерпывающе. Меня ещё желторотым литературоведиком в птенячьем пуху учили: ступай в текст, детка, там всё есть, а уж потом гипотезы строй, да чтоб тексту не противоречили и не ломали его при упихивании.
"Невежество Холмса, — сообщает доктор в классическом переводе Натальи Константиновны Тренёвой (там есть ещё одно забавное место, но о нём в другой раз), — было так же поразительно, как и его знания. О современной литературе, политике и философии он почти не имел представления. Мне случилось упомянуть имя Томаса Карлейля, и Холмс наивно спросил, кто он такой и чем знаменит".
His ignorance was as remarkable as his knowledge. Of contemporary literature, philosophy and politics he appeared to know next to nothing. Upon my quoting Thomas Carlyle, he inquired in the naivest way who he might be and what he had done.
То есть, буквально, как в жежешке, "а кто это?".
Далее, однако, Холмс едет по вызову инспектора Грегсона на место обнаружения трупа, и там в очередной раз сталкивается с Лестрейдом, и потом буквально обнюхивает всё, рассматривает в лупу, пакует улики в конверты и —
"They say that genius is an infinite capacity for taking pains,” he remarked with a smile. “It’s a very bad definition, but it does apply to detective work." — "Говорят, будто гений — это бесконечная выносливость, — с улыбкой заметил он. — Довольно неудачное определение, но к работе сыщика подходит вполне".
Taking pains — это, конечно, не "выносливость". Усердие, приложение усилий, труд... что-то в эту сторону. Но не так важно это, как то, что Холмс слегка иронически переиначивает популярную во второй половине XIX века цитату, "Genius means transcendent capacity of taking trouble, first of all", и they, которые это say, есть не кто иной как Томас Карлайл в "Жизни Фридриха Великого".
Ватсон слишком поглощён событиями на месте преступления, чтобы заметить, как Холмс возвращает ему подачу. Но у читателя никаких вопросов остаться не должно, это всё равно как если бы русский Холмс сперва похлопал глазами, "а кто это?", при упоминании Карамзина, а потом ввернул бы в разговоре "смеяться, право, не грешно" или уж совсем "воруют".
Но куда интереснее городить огород, исходя единственно из бесценного своего мнения, а не из точного знания.
И если бы только про Холмса, если бы.
Мало что всё же служит более питательным субстратом для пустого теоретизирования, чем недостаток информации.
Как ни возьмутся обсуждать мистера Холмса и узость его кругозора, заявленную, но после опровергнутую, вечно одно: был ли сэр Артур непоследователен в обрисовке персонажа?.. или это такая эволюция, молодой задиристый Холмс ничего, кроме своей криминалистики, знать не желает, а потом пообтесался, книжки стал читать?.. или просто автор понял, что совсем узкий специалист читателю не так интересен?.. или Холмс троллит доброго доктора, который не так изощрён, поскольку старый солдат и не знает слов любви?
А ведь тот же самый текст, где Ватсон печалится о невежестве Холмса, "Этюд в багровых тонах", на эти вопросы отвечает прямо и исчерпывающе. Меня ещё желторотым литературоведиком в птенячьем пуху учили: ступай в текст, детка, там всё есть, а уж потом гипотезы строй, да чтоб тексту не противоречили и не ломали его при упихивании.
"Невежество Холмса, — сообщает доктор в классическом переводе Натальи Константиновны Тренёвой (там есть ещё одно забавное место, но о нём в другой раз), — было так же поразительно, как и его знания. О современной литературе, политике и философии он почти не имел представления. Мне случилось упомянуть имя Томаса Карлейля, и Холмс наивно спросил, кто он такой и чем знаменит".
His ignorance was as remarkable as his knowledge. Of contemporary literature, philosophy and politics he appeared to know next to nothing. Upon my quoting Thomas Carlyle, he inquired in the naivest way who he might be and what he had done.
То есть, буквально, как в жежешке, "а кто это?".
Далее, однако, Холмс едет по вызову инспектора Грегсона на место обнаружения трупа, и там в очередной раз сталкивается с Лестрейдом, и потом буквально обнюхивает всё, рассматривает в лупу, пакует улики в конверты и —
"They say that genius is an infinite capacity for taking pains,” he remarked with a smile. “It’s a very bad definition, but it does apply to detective work." — "Говорят, будто гений — это бесконечная выносливость, — с улыбкой заметил он. — Довольно неудачное определение, но к работе сыщика подходит вполне".
Taking pains — это, конечно, не "выносливость". Усердие, приложение усилий, труд... что-то в эту сторону. Но не так важно это, как то, что Холмс слегка иронически переиначивает популярную во второй половине XIX века цитату, "Genius means transcendent capacity of taking trouble, first of all", и they, которые это say, есть не кто иной как Томас Карлайл в "Жизни Фридриха Великого".
Ватсон слишком поглощён событиями на месте преступления, чтобы заметить, как Холмс возвращает ему подачу. Но у читателя никаких вопросов остаться не должно, это всё равно как если бы русский Холмс сперва похлопал глазами, "а кто это?", при упоминании Карамзина, а потом ввернул бы в разговоре "смеяться, право, не грешно" или уж совсем "воруют".
Но куда интереснее городить огород, исходя единственно из бесценного своего мнения, а не из точного знания.
И если бы только про Холмса, если бы.
В девятом веке скандинавы подумали и решили: чем продолжать набеги на английские берега, лучше основать там колонию. И корабли не гонять, и климат лучше, и земля плодороднее. Англосакские армии против викингов были тьфу, в 866 году даны взяли Йорк, крупнейший город Нортумбрии, потом Мерсию и Восточную Англию. Альфред Великий, король Уэссекса, сопротивлялся упорнее и успешнее и в 878 году подписал с данами Уэдморский мир, по которому пришлым выделялась область на северо-востоке, где они могли жить по своим законам, — так её и назвали, Danelaw, Закон данов — а взамен они принимали крещение и оставляли Уэссекс в покое. Креститься крестились, воевать не перестали, но сейчас не об этом.
Данов на английских берегах приняли легче, чем нормандцев, которые пришли в XI веке, потому что говорили викинги на очень похожем языке, родственном германском. Данов без особого труда понимали, и, естественно, это общение на границе языков повлекло за собой интерференцию. В древнеанглийском появились скандинавские заимствования на всех уровнях, от лексики до синтаксиса. Иногда скандинавские слова вытесняли исконные элементы, иногда меняли их значение, а иногда получалось совсем хорошо — семантически близкое скандинавское слово просто селилось в английском неподалёку от английской родни.
Различаются они чаще всего по палатализации, то, что в древнескандинавском [sk], в древнеанглийском [ſ]: scull и shell, "череп" и "раковина", и то и другое — "куполообразная костная структура", scream или screech и shriek, "визжать, издавать пронзительный звук", scatter и shatter, "разбрасывать" и "разбивать вдребезги", и т.д. Самая прекрасная пара в этом ряду — безусловно, skirt и shirt, "юбка" и "рубашка". Ну а что,то вино, и то вино одежда же. А всё из-за того, что однажды викингам надоело таскаться по морю грабить английские города и монастыри.
Если бы в 93-м меня не охмурили зарубежники, ушла бы в лексикологи, люблюнимагу.
Данов на английских берегах приняли легче, чем нормандцев, которые пришли в XI веке, потому что говорили викинги на очень похожем языке, родственном германском. Данов без особого труда понимали, и, естественно, это общение на границе языков повлекло за собой интерференцию. В древнеанглийском появились скандинавские заимствования на всех уровнях, от лексики до синтаксиса. Иногда скандинавские слова вытесняли исконные элементы, иногда меняли их значение, а иногда получалось совсем хорошо — семантически близкое скандинавское слово просто селилось в английском неподалёку от английской родни.
Различаются они чаще всего по палатализации, то, что в древнескандинавском [sk], в древнеанглийском [ſ]: scull и shell, "череп" и "раковина", и то и другое — "куполообразная костная структура", scream или screech и shriek, "визжать, издавать пронзительный звук", scatter и shatter, "разбрасывать" и "разбивать вдребезги", и т.д. Самая прекрасная пара в этом ряду — безусловно, skirt и shirt, "юбка" и "рубашка". Ну а что,
Если бы в 93-м меня не охмурили зарубежники, ушла бы в лексикологи, люблюнимагу.
...и тут в который раз внезапно оказалось, что многим просто очень хотелось бить кого-нибудь ногами, а теперь вроде как можно.
История не повторяется, даже если пытаться нарочно её повторить, что бы там ни говорили основоположники, но вот люди — люди не меняются, как бы ни прикидывались.
История не повторяется, даже если пытаться нарочно её повторить, что бы там ни говорили основоположники, но вот люди — люди не меняются, как бы ни прикидывались.