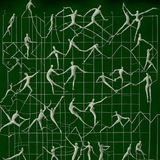Наука гордая, но бедная
Благодаря помощи коллег до меня наконец-то доехала книга дипломата и эксперта по экономическому развитию Василия Солодовникова о его деятельности на посту директора Института Африки с 1964 по 1976 г. Она довольно странно написана. Воспоминаний как таковых там мало. В основном это просто слабо отредактированный пересказ отчетов директора партийным органам. Вот натурально человек пишет, что в таком-то году было защищено столько-то диссертаций, опубликовано столько-то сборников, в монографиях подняты совершенно новые темы... И такие формулы повторяются из главы в главу. Видимо, это издержки не только бюрократического стиля мышления, но и почтенного возраста.
Две любопытных стороны жизни большого академического начальника бросились в глаза. Во-первых, пост директора ИА предполагал множество встреч и мероприятий с иностранными партнерами. Кто-то лично приезжал в Москву и заруливал в институт, а к кому-то надо было лететь самому. Так, Солодовников встречался с Ахмедом бен Белла (!), Че Геварой (!!), императором Эфиопии (!!!)... Какой современный функционер от науки может на такое рассчитывать? Ну может только ректоры ВШЭ или МГУ. Но и то я сомневаюсь.
Во-вторых, Солодовников постоянно намекает, а иногда и открыто жалуется, что институту выделяют просто унизительно мало денег. Особенно по сравнению с аналогичными мозговыми центрами в США, Британии и Франции. Действительно, заграничные командировки для рядовых сотрудников, не говоря уже о длительных полевых экспедициях или архивных разысканиях, оплачивались слабо. Солодовников часто вспоминает, что просил профинансировать какую-то инициативу, а ему отказывали и отказывали.
Напрашивается вывод, что амбиции относительно присутствия в Третьем мире у СССР были колоссальные, если даже второстепенный представитель советской общественности так тепло принимался на столь высоком уровне. Но одновременно СССР просто не мог тягаться с западными державами в бюджетах. Скромным гуманитариям, которым, как известно из анекдота, даже ластик не нужен, отказывали в самом карандаше. И это в годы медового месяца СССР с дружественными социалистическими режимами, несмотря на все связи африканистов в дипломатических, силовых и партийных кругах. Приоритеты!
Благодаря помощи коллег до меня наконец-то доехала книга дипломата и эксперта по экономическому развитию Василия Солодовникова о его деятельности на посту директора Института Африки с 1964 по 1976 г. Она довольно странно написана. Воспоминаний как таковых там мало. В основном это просто слабо отредактированный пересказ отчетов директора партийным органам. Вот натурально человек пишет, что в таком-то году было защищено столько-то диссертаций, опубликовано столько-то сборников, в монографиях подняты совершенно новые темы... И такие формулы повторяются из главы в главу. Видимо, это издержки не только бюрократического стиля мышления, но и почтенного возраста.
Две любопытных стороны жизни большого академического начальника бросились в глаза. Во-первых, пост директора ИА предполагал множество встреч и мероприятий с иностранными партнерами. Кто-то лично приезжал в Москву и заруливал в институт, а к кому-то надо было лететь самому. Так, Солодовников встречался с Ахмедом бен Белла (!), Че Геварой (!!), императором Эфиопии (!!!)... Какой современный функционер от науки может на такое рассчитывать? Ну может только ректоры ВШЭ или МГУ. Но и то я сомневаюсь.
Во-вторых, Солодовников постоянно намекает, а иногда и открыто жалуется, что институту выделяют просто унизительно мало денег. Особенно по сравнению с аналогичными мозговыми центрами в США, Британии и Франции. Действительно, заграничные командировки для рядовых сотрудников, не говоря уже о длительных полевых экспедициях или архивных разысканиях, оплачивались слабо. Солодовников часто вспоминает, что просил профинансировать какую-то инициативу, а ему отказывали и отказывали.
Напрашивается вывод, что амбиции относительно присутствия в Третьем мире у СССР были колоссальные, если даже второстепенный представитель советской общественности так тепло принимался на столь высоком уровне. Но одновременно СССР просто не мог тягаться с западными державами в бюджетах. Скромным гуманитариям, которым, как известно из анекдота, даже ластик не нужен, отказывали в самом карандаше. И это в годы медового месяца СССР с дружественными социалистическими режимами, несмотря на все связи африканистов в дипломатических, силовых и партийных кругах. Приоритеты!
👍62
Обратная сторона Земли
Вот мы и приехали с женой в The Bay Area. Даже успели снять маленькую квартирку в центре Окленда. Впереди еще множество шагов по интеграции, но начало положено. Все благодаря коллегам и друзьям, кто передавал нас из рук в руки по всему маршруту Ереван–Белград–Нью-Йорк–Сан-Франциско. Без их помощи переезд вышел бы как одно безумие, а так получилось увлекательное и веселое путешествие со множеством воссоединений и знакомств.
Несколько странное, но при этом неожиданно приятное чувство находиться на другом конце планеты. Особенно смотреть в сторону волнующегося океана. Как будто вся прежняя жизнь осталась бесконечно далеко, а вода уносит все тревоги. Начал хорошо понимать людей, которые стремятся забраться еще дальше. Например, в Бразилию, как коллега Шерстобитов. Конечно, это чувство обособленного мирка ложное. От глобальных проблем в Окленде не скрыться. Тем не менее, это совершенно по-новому направляет мышление. Я вот внезапно стал куда меньше тосковать по родине, хотя на последние месяцы пришелся, возможно, пик сомнений по поводу всего плана переезда.
В ближайшее время буду дальше легализовываться и искать работу. Хотелось бы найти что-то в среднем образовании. Все чаще я задумываюсь о том, что академия – это не единственное место реализации. Может, если повезет найти что-то долгосрочное, то и не буду особо париться по поводу поступления. Пока же ничего еще не нашлось, собираюсь посещать мероприятия в Беркли, связанные с социологией знания и транснациональной историей холодной войны. Если наберусь новых идей для рисерча, то буду про них писать.
On a small world, west of wonder
Somewhere, nowhere all
There's a rainbow that will shimmer
When the summer falls
Вот мы и приехали с женой в The Bay Area. Даже успели снять маленькую квартирку в центре Окленда. Впереди еще множество шагов по интеграции, но начало положено. Все благодаря коллегам и друзьям, кто передавал нас из рук в руки по всему маршруту Ереван–Белград–Нью-Йорк–Сан-Франциско. Без их помощи переезд вышел бы как одно безумие, а так получилось увлекательное и веселое путешествие со множеством воссоединений и знакомств.
Несколько странное, но при этом неожиданно приятное чувство находиться на другом конце планеты. Особенно смотреть в сторону волнующегося океана. Как будто вся прежняя жизнь осталась бесконечно далеко, а вода уносит все тревоги. Начал хорошо понимать людей, которые стремятся забраться еще дальше. Например, в Бразилию, как коллега Шерстобитов. Конечно, это чувство обособленного мирка ложное. От глобальных проблем в Окленде не скрыться. Тем не менее, это совершенно по-новому направляет мышление. Я вот внезапно стал куда меньше тосковать по родине, хотя на последние месяцы пришелся, возможно, пик сомнений по поводу всего плана переезда.
В ближайшее время буду дальше легализовываться и искать работу. Хотелось бы найти что-то в среднем образовании. Все чаще я задумываюсь о том, что академия – это не единственное место реализации. Может, если повезет найти что-то долгосрочное, то и не буду особо париться по поводу поступления. Пока же ничего еще не нашлось, собираюсь посещать мероприятия в Беркли, связанные с социологией знания и транснациональной историей холодной войны. Если наберусь новых идей для рисерча, то буду про них писать.
On a small world, west of wonder
Somewhere, nowhere all
There's a rainbow that will shimmer
When the summer falls
👍151💅16👏8🤝3👎1👌1
Make the USSR International Again
Довольно широко известны факты о так называемом национал-большевистском повороте внутренней политики в позднесталинском СССР: борьба с космополитизмом, послабления для РПЦ, возвращение дореволюционных символов в массовую культуру и т. п. Почти все из этого, например, суммированно в книге Дэвида Бранденбергера. Почему-то в меньшей степени обсуждаются крайне схожие тенденции во внешней политике конца 1940-х–начала 1950-х гг.
Ялтинско-потсдамское видение Сталина предполагало, что условия для революции пока не созрели даже на Западе. Третий мир же вообще не мыслился в качестве плацдарма борьбы за социализм. Считалось, что страны Азии и Африки застряли где-то между разлагающимся автохтонным феодализмом и неустойчивым капитализмом, завезенным европейцами. Следовательно, организованных рабочих партий, с которыми ВКП(б) могла бы сотрудничать на равных, там нет и быть не может, а пока нужно ситуативно блокироваться то с одними, то с другими фракциями буржуазии. Молотов на одном из заседаний сформулировал это так: «Если нельзя наступать, будем ждать».
Этот осторожный реализм приводил к парадоксальным союзам. Например, в Иране СССР отверг местных коммунистов и вместо этого наладил связи с националистами. Именно последние виделись наиболее действенным противовесом гадящей англичанке. Одновременно победа Мао в Китае обернулась для советского руководства неприятным сюрпризом, ведь оно уже успело заключить договор о признании и дружбе с Гоминьданом. В планах было разделить Восточную Азию на зоны влияния с американцами, а тут такая подстава от китайских братьев.
В свете этого понятно, почему востоковедение сталинского периода было сосредоточено почти исключительно на проблемах античной и средневековой истории. Если никакой актуальной пролетарской политики в отсталых от Запада странах нет, то можно поспорить о соотношении рабовладения или крепостничества в VIII веке н. э., но не более того.
Хрущев, Микоян, Шепилов, Косыгин и другие оттепельные аппаратчики вернули советской внешней политике интернациональное и революционное измерения. Очень часто помимо своей воли, реактивно реагируя на стремительный коллапс старых европейских империй. Коммунистические партии по типу вьетнамской снова стали получать поддержку, даже если по сути представляли крестьянство. Арабские и африканские националисты, желавшие включить в свои программу элементы социалистического строительства, тоже приходились ко двору. Этой новой доктрине недоставало сталинских выверенности и единства, но импровизация только добавляла действенности.
Главной проблемой такого тесного сотрудничества с антиколониальными лидерами Третьего мира стал острейший дефицит переводчиков. Не говоря уже о дипломатах, советниках и референтах. Вот именно в этом контексте молодые обществоведы и гуманитарии, интересовавшиеся Востоком, внезапно стали ценнейшим активом партии. Советское востоковедение пережило второе рождение.
Довольно широко известны факты о так называемом национал-большевистском повороте внутренней политики в позднесталинском СССР: борьба с космополитизмом, послабления для РПЦ, возвращение дореволюционных символов в массовую культуру и т. п. Почти все из этого, например, суммированно в книге Дэвида Бранденбергера. Почему-то в меньшей степени обсуждаются крайне схожие тенденции во внешней политике конца 1940-х–начала 1950-х гг.
Ялтинско-потсдамское видение Сталина предполагало, что условия для революции пока не созрели даже на Западе. Третий мир же вообще не мыслился в качестве плацдарма борьбы за социализм. Считалось, что страны Азии и Африки застряли где-то между разлагающимся автохтонным феодализмом и неустойчивым капитализмом, завезенным европейцами. Следовательно, организованных рабочих партий, с которыми ВКП(б) могла бы сотрудничать на равных, там нет и быть не может, а пока нужно ситуативно блокироваться то с одними, то с другими фракциями буржуазии. Молотов на одном из заседаний сформулировал это так: «Если нельзя наступать, будем ждать».
Этот осторожный реализм приводил к парадоксальным союзам. Например, в Иране СССР отверг местных коммунистов и вместо этого наладил связи с националистами. Именно последние виделись наиболее действенным противовесом гадящей англичанке. Одновременно победа Мао в Китае обернулась для советского руководства неприятным сюрпризом, ведь оно уже успело заключить договор о признании и дружбе с Гоминьданом. В планах было разделить Восточную Азию на зоны влияния с американцами, а тут такая подстава от китайских братьев.
В свете этого понятно, почему востоковедение сталинского периода было сосредоточено почти исключительно на проблемах античной и средневековой истории. Если никакой актуальной пролетарской политики в отсталых от Запада странах нет, то можно поспорить о соотношении рабовладения или крепостничества в VIII веке н. э., но не более того.
Хрущев, Микоян, Шепилов, Косыгин и другие оттепельные аппаратчики вернули советской внешней политике интернациональное и революционное измерения. Очень часто помимо своей воли, реактивно реагируя на стремительный коллапс старых европейских империй. Коммунистические партии по типу вьетнамской снова стали получать поддержку, даже если по сути представляли крестьянство. Арабские и африканские националисты, желавшие включить в свои программу элементы социалистического строительства, тоже приходились ко двору. Этой новой доктрине недоставало сталинских выверенности и единства, но импровизация только добавляла действенности.
Главной проблемой такого тесного сотрудничества с антиколониальными лидерами Третьего мира стал острейший дефицит переводчиков. Не говоря уже о дипломатах, советниках и референтах. Вот именно в этом контексте молодые обществоведы и гуманитарии, интересовавшиеся Востоком, внезапно стали ценнейшим активом партии. Советское востоковедение пережило второе рождение.
👍73✍4👏3🖕1🤝1
Национальное непризнание
Как прошлогодний курс про академическое чтение, так и нынешний про академическое письмо я старался наполнить перспективой социологии знания. Думаю, всем, кто пишет тексты, не повредит осознание коллективных структур, направляющих их письмо: когнитивных, экономических, политических. В этом преподавателям и слушателям помогло замечательное статья Елены Гаповой про разделение постсоветской академии на прозападную и национально ориентированную. Мы оттачивали на нем реферирование, писали автору в ответ свое эссе – в общем, чего только ни делали.
Дихотомия Гаповой напоминает оппозицию туземности/провинциальности у Михаила Соколова и Кирилла Титаева, но больше фокусируется не на коммуникации, а на распределении благ. Для Гаповой вопрос несогласия между академиками не только в том, кого они считают своей аудиторией, а в том, откуда берутся деньги на их содержание, и какая власть легитимизирует их работы. Отсутствие консенсуса между западниками и почвенниками – это вопрос социальной стратификации постсоциалистических обществ. Собственно, Гапова приняла участие в форуме, посвященном выходе статьи Соколова и Титаева. Можно прочитать о разнице позиций из первых рук.
Особенно мощный тейк статьи для меня в том, что несмотря на более свободное и профессиональное обращение со знанием, западники остались, по сути, узкой прослойкой элитистов. Их стратегией был гейткипинг достижений зарубежной академии и заодно потоков грантов оттуда. Это не помогало в борьбе с соперничающим классом исследователей и преподавателей из государственных вузов и институтов, а только мешало закрепиться на новой почве. Никому за пределами их узкого круга до них не было дела.
Другое сильное и горестное наблюдение касается очень ранних репрессий по отношению к прозападным ученым в Беларуси. Центр гендерных исследований, который Гапова основала в минском ЕГУ, был вынужден был еще в 2005 году перебраться в Вильнюс вслед за гонимым университетом. Сама же социолог через некоторое время переехала в США. Сейчас это все читается как предостережение российским исследователям, которые в 2011 (год написания) не хотели ничего знать про то, что происходит в соседней стране. А если знали, то вряд ли примеряли на себя. Оказалось, очень зря.
Как прошлогодний курс про академическое чтение, так и нынешний про академическое письмо я старался наполнить перспективой социологии знания. Думаю, всем, кто пишет тексты, не повредит осознание коллективных структур, направляющих их письмо: когнитивных, экономических, политических. В этом преподавателям и слушателям помогло замечательное статья Елены Гаповой про разделение постсоветской академии на прозападную и национально ориентированную. Мы оттачивали на нем реферирование, писали автору в ответ свое эссе – в общем, чего только ни делали.
Дихотомия Гаповой напоминает оппозицию туземности/провинциальности у Михаила Соколова и Кирилла Титаева, но больше фокусируется не на коммуникации, а на распределении благ. Для Гаповой вопрос несогласия между академиками не только в том, кого они считают своей аудиторией, а в том, откуда берутся деньги на их содержание, и какая власть легитимизирует их работы. Отсутствие консенсуса между западниками и почвенниками – это вопрос социальной стратификации постсоциалистических обществ. Собственно, Гапова приняла участие в форуме, посвященном выходе статьи Соколова и Титаева. Можно прочитать о разнице позиций из первых рук.
Особенно мощный тейк статьи для меня в том, что несмотря на более свободное и профессиональное обращение со знанием, западники остались, по сути, узкой прослойкой элитистов. Их стратегией был гейткипинг достижений зарубежной академии и заодно потоков грантов оттуда. Это не помогало в борьбе с соперничающим классом исследователей и преподавателей из государственных вузов и институтов, а только мешало закрепиться на новой почве. Никому за пределами их узкого круга до них не было дела.
Другое сильное и горестное наблюдение касается очень ранних репрессий по отношению к прозападным ученым в Беларуси. Центр гендерных исследований, который Гапова основала в минском ЕГУ, был вынужден был еще в 2005 году перебраться в Вильнюс вслед за гонимым университетом. Сама же социолог через некоторое время переехала в США. Сейчас это все читается как предостережение российским исследователям, которые в 2011 (год написания) не хотели ничего знать про то, что происходит в соседней стране. А если знали, то вряд ли примеряли на себя. Оказалось, очень зря.
👍60👏4✍2
Совсем не удивлен. Во-первых, мы ведь говорим про страну, на флаге которой написан девиз Огюста Конта! Во-вторых, вы никогда не задумывались, почему Макса Кавалеру и Макса Вебера зовут одинаково? Совпадение?
👍29
Forwarded from Политический ученый
Зашёл по случаю в среднюю школу, которая расположена неподалёку от моего дома. Заодно решил посмотреть, что изучается в курсе социальных наук. Оказывается, 15-летние школьники читают и обсуждают работы Маркса, Вебера, Беньямина, Арендт. Как же это резко контрастирует с курсом обществознания в российской школе.
Впрочем, это не так уж удивительно. Обсуждение политики здесь дело обычное. По собственному опыту знаю, что зайдя выпить пива в бар нередко можешь оказаться в центре дискуссии, где в том числе звучат аргументы от классиков мировой политической мысли.
Впрочем, это не так уж удивительно. Обсуждение политики здесь дело обычное. По собственному опыту знаю, что зайдя выпить пива в бар нередко можешь оказаться в центре дискуссии, где в том числе звучат аргументы от классиков мировой политической мысли.
💅50👍36🙏6👎2🖕1
Новозаливск
Не получается придумать для Окленда никакого более изящного сравнения, чем мой родной Новосибирск. У обоих городов похожая застройка и планировка, которые происходят из похожих историй. Оба возникли в XIX веке как транспортные хабы для имперского фронтира. Оба продолжили рост в середине XX века как промышленные центры, потом пострадали от деиндустриализации, но в новом тысячелетии снова стали привлекать население и джентрифицироваться. Рядом с обоими расположены значимые научные кампусы, которые поизвестнее самих городов. В общем, и там, и там мне в целом нравится, но все равно ощущается привкус провинциальности.
Окленд проигрывает Новосибирску в некоторых существенных вещах. Он более депрессивный и менее безопасный. В центре мало пешеходов, есть пустующие офисные и жилые здания. В спальниках орудуют молодежные банды. Особенно Окленд потрепал COVID, после которого из-за инфляции и неожиданно открывшейся возможности работать из дома многие представители среднего класса стали уезжать. И да, здесь довольно много бездомных. Хотя и не так много, как нас пугали. Думаю, что и в Новосибирске проблема деклассированных элементов тоже была бы более видимой, если бы там их не кошмарила полиция. Здесь же им дают спокойно жить и даже помогают социальные службы. Этого недостаточно, но хотя бы чуть гуманнее.
Вместе с тем, в плане архитектуры Окленд поинтереснее. Тут больше замечательно сохранившихся зданий в стиле неоготики и ар-деко. Новосибирск может ответить уникальным советским конструктивизмом, но зато в нем практически нет высоток в интернациональном стиле. Побогаче в Окленде и барная культура. Я человек простой: если в пределах одного квартала я вижу китайскую пекарню, эфиопский ресторан и гей-клуб – ставлю лойс. Плюс озеро Меритт и Окландские холмы. В Новосибирске за такой природой надо ехать за город, а тут они – органичная часть даунтауна.
Ну и самое главное преимущество Окленда – это гигантская агломерация вокруг. Представьте, что вы садитесь в новосибирское метро где-нибудь на Гагаринской. Проезжаете в одну сторону полчаса и выходите в центре Петербурга. Проезжаете пятьдесят минут в другую – в центре Краснодара. Вот это была бы мечта! Но здесь – это реальность. Про местные Санкт-Петербург и Краснодар (то бишь Сан-Франциско и Сан-Хосе) я еще расскажу. Пока собрал о них слишком мало впечатлений.
Не получается придумать для Окленда никакого более изящного сравнения, чем мой родной Новосибирск. У обоих городов похожая застройка и планировка, которые происходят из похожих историй. Оба возникли в XIX веке как транспортные хабы для имперского фронтира. Оба продолжили рост в середине XX века как промышленные центры, потом пострадали от деиндустриализации, но в новом тысячелетии снова стали привлекать население и джентрифицироваться. Рядом с обоими расположены значимые научные кампусы, которые поизвестнее самих городов. В общем, и там, и там мне в целом нравится, но все равно ощущается привкус провинциальности.
Окленд проигрывает Новосибирску в некоторых существенных вещах. Он более депрессивный и менее безопасный. В центре мало пешеходов, есть пустующие офисные и жилые здания. В спальниках орудуют молодежные банды. Особенно Окленд потрепал COVID, после которого из-за инфляции и неожиданно открывшейся возможности работать из дома многие представители среднего класса стали уезжать. И да, здесь довольно много бездомных. Хотя и не так много, как нас пугали. Думаю, что и в Новосибирске проблема деклассированных элементов тоже была бы более видимой, если бы там их не кошмарила полиция. Здесь же им дают спокойно жить и даже помогают социальные службы. Этого недостаточно, но хотя бы чуть гуманнее.
Вместе с тем, в плане архитектуры Окленд поинтереснее. Тут больше замечательно сохранившихся зданий в стиле неоготики и ар-деко. Новосибирск может ответить уникальным советским конструктивизмом, но зато в нем практически нет высоток в интернациональном стиле. Побогаче в Окленде и барная культура. Я человек простой: если в пределах одного квартала я вижу китайскую пекарню, эфиопский ресторан и гей-клуб – ставлю лойс. Плюс озеро Меритт и Окландские холмы. В Новосибирске за такой природой надо ехать за город, а тут они – органичная часть даунтауна.
Ну и самое главное преимущество Окленда – это гигантская агломерация вокруг. Представьте, что вы садитесь в новосибирское метро где-нибудь на Гагаринской. Проезжаете в одну сторону полчаса и выходите в центре Петербурга. Проезжаете пятьдесят минут в другую – в центре Краснодара. Вот это была бы мечта! Но здесь – это реальность. Про местные Санкт-Петербург и Краснодар (то бишь Сан-Франциско и Сан-Хосе) я еще расскажу. Пока собрал о них слишком мало впечатлений.
👍78🙏7👏2
У меня давно была идея, что два кажущихся нам антагонистами по отношению к социальному Латур и Луман на самом деле очень похожи консервативным антигуманизмом. Потом оказалось, что эта мысль в другой форме уже где-то высказывалась Петером Слотердайком – одним из немногих философов, который относится к социологической теории серьезно. Хотел его прочитать, но огромный размер «Сфер» меня отпугнул. И вот наконец кто-то популярно обсуждает его проект на русском, так что и читать ничего не надо!
👍28✍3
Forwarded from Insolarance Cult
Петер Слотердайк — это современный философ, чьи провокационные идеи не раз потрясали коллег. Продолжая идеи Ницше, он рассуждал о правилах человеческого зоопарка, чем навлек на себя гнев современных последователей франкфуртской школы. Однако наиболее фундаментальной идеей Слотердайка является сферология, в рамках которой он анализирует многообразные аспекты человеческого существования, обращаясь к концепту сферы, который то и дело естественным образом становится инструментом нашего самоописания. В новом выпуске нашего подкаста вместе с Иваном Кудряшовым мы обсуждаем философию Петера Слотердайка.
https://youtu.be/iE9tP3wgeU4
https://youtu.be/iE9tP3wgeU4
YouTube
Кто такой Петер Слотердайк? [S01:E92]
Петер Слотердайк — это современный философ, чьи провокационные идеи не раз потрясали коллег. Продолжая идеи Ницше, он рассуждал о правилах человеческого зоопарка, чем навлек на себя гнев современных последователей франкфуртской школы. Однако наиболее фундаментальной…
👍40
Понятия не имею, что происходит и что за этим кроется, но думаю, что многие авторы ТГ-каналов немного вздрогнули. Как и я.
👍15✍4🙏4💅3
Forwarded from Медуза — LIVE
❗️Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа — французский телеканал TF1
Основателя мессенджера Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из своего частного самолета. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.
TF1 утверждает, что Дуров во Франции был включен в список разыскиваемых лиц (Fichier des Personnes Recherchées, FPR). Ордер на его задержание выдала судебная полиции Франции на основании предварительного расследования.
Основателя мессенджера Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из своего частного самолета. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.
TF1 утверждает, что Дуров во Франции был включен в список разыскиваемых лиц (Fichier des Personnes Recherchées, FPR). Ордер на его задержание выдала судебная полиции Франции на основании предварительного расследования.
🙏15👍6✍2👌1
Материалы онлайн-курсов
Меня постоянно спрашивают: собираюсь ли я повторять какие-то курсы из проведенных мною за последние два года? Отвечаю сразу всем: нет, к сожалению, не собираюсь. Для меня групповые занятия – это в первую очередь возможность реализовывать новые преподавательские идеи. Два раза повторять одно и тоже будет не интересно ни мне, ни вам. Лучше соберусь с силами и в следующем календарном году объявлю набор на что-нибудь новенькое и прикольное.
Однако коли спрос не ослабевает, мне кажется глупым держать материалы курсов на закрытом диске. Пусть они пойдут в народ. Я посовещался с соавторами, и мы вместе решили предоставлять всем заинтересовавшимся доступ к презентациям, литературе, записям лекций и семинаров за половину изначальной стоимости. Просто напишите мне в личку @theghostagainstthemachine, коротко представьтесь и скажите, что именно вы хотите приобрести.
Напоминаю, о каких курсах идет речь (по ссылкам есть подробное описание тем всех занятий):
📕 Академическое чтение;
📙 Академическое письмо;
📒 Введение в современную социологическую теорию;
📗 Введение в исследования социального и гуманитарного знания;
📘 Структурное воображение в социологической теории.
Конкурса мотивационных писем на этот раз не будет. Но мы хорошо представляем, насколько жизнь студентов может быть трудной и голодной. Так что для всех, кто в наступающем учебном году будет учиться в бакалавриате, скидка будет еще больше – 75% от стоимости! Пишите мне на тот же аккаунт и дополнительно расскажите в нескольких предложениях о своих интересах и о программе, на которой обучаетесь.
Меня постоянно спрашивают: собираюсь ли я повторять какие-то курсы из проведенных мною за последние два года? Отвечаю сразу всем: нет, к сожалению, не собираюсь. Для меня групповые занятия – это в первую очередь возможность реализовывать новые преподавательские идеи. Два раза повторять одно и тоже будет не интересно ни мне, ни вам. Лучше соберусь с силами и в следующем календарном году объявлю набор на что-нибудь новенькое и прикольное.
Однако коли спрос не ослабевает, мне кажется глупым держать материалы курсов на закрытом диске. Пусть они пойдут в народ. Я посовещался с соавторами, и мы вместе решили предоставлять всем заинтересовавшимся доступ к презентациям, литературе, записям лекций и семинаров за половину изначальной стоимости. Просто напишите мне в личку @theghostagainstthemachine, коротко представьтесь и скажите, что именно вы хотите приобрести.
Напоминаю, о каких курсах идет речь (по ссылкам есть подробное описание тем всех занятий):
📕 Академическое чтение;
📙 Академическое письмо;
📒 Введение в современную социологическую теорию;
📗 Введение в исследования социального и гуманитарного знания;
📘 Структурное воображение в социологической теории.
Конкурса мотивационных писем на этот раз не будет. Но мы хорошо представляем, насколько жизнь студентов может быть трудной и голодной. Так что для всех, кто в наступающем учебном году будет учиться в бакалавриате, скидка будет еще больше – 75% от стоимости! Пишите мне на тот же аккаунт и дополнительно расскажите в нескольких предложениях о своих интересах и о программе, на которой обучаетесь.
👍87🤝9🖕3👌1
Империя во имя мировой революции
Проглотил «Неудавшуюся империю» Владислава Зубока. Эта работа составляет диптих с монографией про советскую интеллигенцию. Обе охватывают один и тот же период времени с 1945 по 1991 гг. В обоих Зубок рассматривает элиту СССР не как ходящую по струнке, а как раздираемую разными идеологическими тенденциями. Только если в «Детях Живаго» это было сражение космополитизма и почвенничества за душу образованного класса, то в «Неудавшейся империи» это соперничество революционного и имперского начал во внешнеполитических ведомствах. Пока сторонники одного считали своим долгом поддерживать левый движ на планете, носители второго больше пеклись вопросами безопасности государства.
Если в предыдущей книге Зубоку тяжело было скрыть, что ему куда ближе космополиты, то здесь изображение двух парадигм чуть более взвешенное. Например, автор показывает, как искренняя, но непродуманная заинтересованность Хрущева проблемами постколониального мира часто заводила его в тупик отношений не только с США, но и с Китаем и Кубой. Вместе с тем, более прагматичных членов команды Брежнева страх имперского перенапряжения подталкивал не к экспансионизму, а к желанию отказаться от наращивания ядерного арсенала и побольше торговать.
Перефразируя Василия Уткина, сила любой монографии – ее же слабость. Зубок открыто называет себя сторонником интерпретативной историографии. Проще говоря, он в первую очередь пытается проникнуть в головы первых лиц и истолковать логику их решений. Это действительно помогает понять расклады во внешнеполитических кризисах от вовлечения в дела Латинской Америки до вторжения в Афганистан. Однако такой подход иногда срывается в довольно устаревший нарратив про великих и ужасных деятелей, которые вершат судьбы народов росчерком пера.
Самые интересные страницы книги для меня те, где от этого методологического элитизма Зубок переходит к трактовке действий акторов второго и третьего порядка, которые вносят помехи в планы the power-mad freaks who are ruling the earth. Например, демонстрируется особая роль республиканских партийных аппаратов при Сталине, лидеры которых имели самостоятельные интересы в перекройке карт после конца Великой Отечественной и порою действовали вопреки воле вождя. Также отличная, но, к сожалению, очень короткая часть посвящена советскому присутствию в Африке, которое, согласно Зубку, пытались направлять одновременно самые разные ведомства и партийные группы, из-за чего все превратилось в хаос и кавардак.
Подводя итог: я не зря начал с того, что книгу проглотил. Читается она увлекательно и свободно. Вместе с «Детьми Живаго» они создают стереоскопическое видение послевоенного СССР: в мире реальной политики и в мире высоких идей. Может, какие-то более прошаренные историки увидят в трактовках Зубока больше проблем, но я пока не на таком уровне. Мне нужно было авторитетное панорамное введение – и я его получил.
Проглотил «Неудавшуюся империю» Владислава Зубока. Эта работа составляет диптих с монографией про советскую интеллигенцию. Обе охватывают один и тот же период времени с 1945 по 1991 гг. В обоих Зубок рассматривает элиту СССР не как ходящую по струнке, а как раздираемую разными идеологическими тенденциями. Только если в «Детях Живаго» это было сражение космополитизма и почвенничества за душу образованного класса, то в «Неудавшейся империи» это соперничество революционного и имперского начал во внешнеполитических ведомствах. Пока сторонники одного считали своим долгом поддерживать левый движ на планете, носители второго больше пеклись вопросами безопасности государства.
Если в предыдущей книге Зубоку тяжело было скрыть, что ему куда ближе космополиты, то здесь изображение двух парадигм чуть более взвешенное. Например, автор показывает, как искренняя, но непродуманная заинтересованность Хрущева проблемами постколониального мира часто заводила его в тупик отношений не только с США, но и с Китаем и Кубой. Вместе с тем, более прагматичных членов команды Брежнева страх имперского перенапряжения подталкивал не к экспансионизму, а к желанию отказаться от наращивания ядерного арсенала и побольше торговать.
Перефразируя Василия Уткина, сила любой монографии – ее же слабость. Зубок открыто называет себя сторонником интерпретативной историографии. Проще говоря, он в первую очередь пытается проникнуть в головы первых лиц и истолковать логику их решений. Это действительно помогает понять расклады во внешнеполитических кризисах от вовлечения в дела Латинской Америки до вторжения в Афганистан. Однако такой подход иногда срывается в довольно устаревший нарратив про великих и ужасных деятелей, которые вершат судьбы народов росчерком пера.
Самые интересные страницы книги для меня те, где от этого методологического элитизма Зубок переходит к трактовке действий акторов второго и третьего порядка, которые вносят помехи в планы the power-mad freaks who are ruling the earth. Например, демонстрируется особая роль республиканских партийных аппаратов при Сталине, лидеры которых имели самостоятельные интересы в перекройке карт после конца Великой Отечественной и порою действовали вопреки воле вождя. Также отличная, но, к сожалению, очень короткая часть посвящена советскому присутствию в Африке, которое, согласно Зубку, пытались направлять одновременно самые разные ведомства и партийные группы, из-за чего все превратилось в хаос и кавардак.
Подводя итог: я не зря начал с того, что книгу проглотил. Читается она увлекательно и свободно. Вместе с «Детьми Живаго» они создают стереоскопическое видение послевоенного СССР: в мире реальной политики и в мире высоких идей. Может, какие-то более прошаренные историки увидят в трактовках Зубока больше проблем, но я пока не на таком уровне. Мне нужно было авторитетное панорамное введение – и я его получил.
👍62
Структура наносит ответный удар pinned «Материалы онлайн-курсов Меня постоянно спрашивают: собираюсь ли я повторять какие-то курсы из проведенных мною за последние два года? Отвечаю сразу всем: нет, к сожалению, не собираюсь. Для меня групповые занятия – это в первую очередь возможность реализовывать…»
Жизненные циклы больших городов
Старожилы типа нашей соседки по этажу рассказывают, что за последние годы в центре Сан-Франциско стало куда менее богато и людно. Конечно, все по-прежнему на световые года впереди соседнего провинциального Окленда, но по сравнению с золотыми годами бешеного роста IT-сектора и связанных с ним инвестиционных компаний изменения налицо. Они типичны для многих крупных калифорнийских городов: опустение офисных зданий и увеличение числа бездомных на улицах.
Одной единственной причины стагнации нет. Вклад вносят высокие по меркам США налоги, замедление потоков спекулятивного капитала, распространение технологий удаленной работы, монополизация рынка жилой недвижимости несколькими крупнейшими арендными компаниями, консервативная реакция некоторых сообществ на политику идентичности…
В общем, такой идеальный урбанистический шторм, который заставляет некоторых местных срываться с места и ехать в Техас и другие южные штаты с репутациями цитаделей республиканцев. Впрочем, счастье там обретают далеко не все. Да, налоги там ниже, религиозных скреп больше, но обычно нет никакого публичного транспорта, достаточного количества школ и детских садов, да и вообще инфрастуктуры для такого количества мигрантов. В итоге некоторые возвращаются назад. Американский белый средний класс тщетно пытается решить системные социальные проблемы индивидуальным выбором, что попросту невозможно.
Вероятно, коренных жителей дополнительно ранит тот факт, что в 2010-х гг. они почти догнали Нью-Йорк в иерархии альфа-городов, но потом резко затормозили. Я человек не такой взыскательный и не родился здесь. Мне тяжело вообразить себе, что происходило в Сан-Франциско на пике притока шальных денег и романтичных имигрантов. Для меня город в нынешнем виде воспринимается точно как Санкт-Петербург. Да, где-то проблемный, но невероятно стильный, пестрый, очаровывающий большой водой вокруг, но, самое главное, без этой мерзкой питерской погоды. В общем, банально мне тут очень нравится.
Кроме того, попасть в Сан-Франциско раньше означало бы чуть более комфортную жизнь с точки зрения обывателя, но не такую насыщенную с точки зрения социолога. Теперь, когда пик бешеного роста пройден, социальная жизнь здесь стала куда более конфликтной, противоречивой, но, значит, и живой. В том числе с точки зрения политической активности. В общем, читаем Зиммеля, читаем Маркса, наблюдаем за социальными структурами и копим на билеты на последние матчи Стефа Карри. Может, еще успеем накопить.
Старожилы типа нашей соседки по этажу рассказывают, что за последние годы в центре Сан-Франциско стало куда менее богато и людно. Конечно, все по-прежнему на световые года впереди соседнего провинциального Окленда, но по сравнению с золотыми годами бешеного роста IT-сектора и связанных с ним инвестиционных компаний изменения налицо. Они типичны для многих крупных калифорнийских городов: опустение офисных зданий и увеличение числа бездомных на улицах.
Одной единственной причины стагнации нет. Вклад вносят высокие по меркам США налоги, замедление потоков спекулятивного капитала, распространение технологий удаленной работы, монополизация рынка жилой недвижимости несколькими крупнейшими арендными компаниями, консервативная реакция некоторых сообществ на политику идентичности…
В общем, такой идеальный урбанистический шторм, который заставляет некоторых местных срываться с места и ехать в Техас и другие южные штаты с репутациями цитаделей республиканцев. Впрочем, счастье там обретают далеко не все. Да, налоги там ниже, религиозных скреп больше, но обычно нет никакого публичного транспорта, достаточного количества школ и детских садов, да и вообще инфрастуктуры для такого количества мигрантов. В итоге некоторые возвращаются назад. Американский белый средний класс тщетно пытается решить системные социальные проблемы индивидуальным выбором, что попросту невозможно.
Вероятно, коренных жителей дополнительно ранит тот факт, что в 2010-х гг. они почти догнали Нью-Йорк в иерархии альфа-городов, но потом резко затормозили. Я человек не такой взыскательный и не родился здесь. Мне тяжело вообразить себе, что происходило в Сан-Франциско на пике притока шальных денег и романтичных имигрантов. Для меня город в нынешнем виде воспринимается точно как Санкт-Петербург. Да, где-то проблемный, но невероятно стильный, пестрый, очаровывающий большой водой вокруг, но, самое главное, без этой мерзкой питерской погоды. В общем, банально мне тут очень нравится.
Кроме того, попасть в Сан-Франциско раньше означало бы чуть более комфортную жизнь с точки зрения обывателя, но не такую насыщенную с точки зрения социолога. Теперь, когда пик бешеного роста пройден, социальная жизнь здесь стала куда более конфликтной, противоречивой, но, значит, и живой. В том числе с точки зрения политической активности. В общем, читаем Зиммеля, читаем Маркса, наблюдаем за социальными структурами и копим на билеты на последние матчи Стефа Карри. Может, еще успеем накопить.
👍65👏9👌4✍3🙏1
Междисциплинарные контакты третьей степени
Очередная иллюстрация того, как по-разному мыслят историки и социологи. Вот есть концепция зон обмен Питера Галисона, согласно которой у современных наук универсального языка описания, зато есть множество разных языков. При этом они ни в коем случае не изолированы, а частично переводятся друг на друга, рождая жаргоны, пиджины и креольские языки на границах дисциплин и субдисциплин – в тех самых зонах обмена. Сам Галисон долгое время изучал взаимодействия физиков-теоретиков, физиков-экспериментатов и инженеров лабораторного оборудования (прям набор персонажей «Теории большого взрыва» получился). В какой-то момент он остроумно подметил, что они похожи на контакты представителей этнических групп друг с другом.
Что в этой концепции особенно важно историку науки? Посмотрим на примере истории советской кибернетики Славы Геровича. Кибернетику Герович называет новоязом, который не только позволяет общаться ученым из разных наук, но и противостоять языку официальной сталинской идеологии. Для историка язык советской кибернетики отличается от других жаргонов и пиджинов. Например, двусмысленными отношениями с полем политики, влияние которого на науку он призван нейтрализовать, но без которой теряет смысл. Вот эти уникальные черты кибернетического дискурса Герович старательно реконструирует. Никакой общей теории тут не подразумевается.
Параллельно с Геровичем над концепцией Галисона размышлял Гарри Коллинз. Но по-своему. Ему мало материалов одной страны и одного периода. Коллинз сразу начинает накидывать обширную типологию зон обмена в зависимости от того, насколько далеки области друг от друга и насколько представители одной из них доминируют над коллегами. В его статье с соавторами Робертом Эвансом и Майклом Горманом находится место не только иллюстративным примерам из истории науки и экспертизы, но и экскурсу в античное рабство и философскому комментарию к Томасу Куну.
Конечно, и среди историков есть любители компаративистики – в принципе, таков сам автор изначальной концепции Галисон. Разумеется, далеко не все социологи любят теоретизировать – у тех же исследователей из Батской школы куча тщательных эмпирических работ без свободного полета фантазии. Однако центры гравитации двух дисциплин все-таки заставляют тяготеть своих представителей либо к конкретике одного хронотопа, либо к абстракции социальной сферы без привязки к времени и пространству. Какая дисциплина априори лучше? Никто не может сказать определенно. Мы можем лишь сопоставлять их находки в одной из таких зон обмена.
Очередная иллюстрация того, как по-разному мыслят историки и социологи. Вот есть концепция зон обмен Питера Галисона, согласно которой у современных наук универсального языка описания, зато есть множество разных языков. При этом они ни в коем случае не изолированы, а частично переводятся друг на друга, рождая жаргоны, пиджины и креольские языки на границах дисциплин и субдисциплин – в тех самых зонах обмена. Сам Галисон долгое время изучал взаимодействия физиков-теоретиков, физиков-экспериментатов и инженеров лабораторного оборудования (прям набор персонажей «Теории большого взрыва» получился). В какой-то момент он остроумно подметил, что они похожи на контакты представителей этнических групп друг с другом.
Что в этой концепции особенно важно историку науки? Посмотрим на примере истории советской кибернетики Славы Геровича. Кибернетику Герович называет новоязом, который не только позволяет общаться ученым из разных наук, но и противостоять языку официальной сталинской идеологии. Для историка язык советской кибернетики отличается от других жаргонов и пиджинов. Например, двусмысленными отношениями с полем политики, влияние которого на науку он призван нейтрализовать, но без которой теряет смысл. Вот эти уникальные черты кибернетического дискурса Герович старательно реконструирует. Никакой общей теории тут не подразумевается.
Параллельно с Геровичем над концепцией Галисона размышлял Гарри Коллинз. Но по-своему. Ему мало материалов одной страны и одного периода. Коллинз сразу начинает накидывать обширную типологию зон обмена в зависимости от того, насколько далеки области друг от друга и насколько представители одной из них доминируют над коллегами. В его статье с соавторами Робертом Эвансом и Майклом Горманом находится место не только иллюстративным примерам из истории науки и экспертизы, но и экскурсу в античное рабство и философскому комментарию к Томасу Куну.
Конечно, и среди историков есть любители компаративистики – в принципе, таков сам автор изначальной концепции Галисон. Разумеется, далеко не все социологи любят теоретизировать – у тех же исследователей из Батской школы куча тщательных эмпирических работ без свободного полета фантазии. Однако центры гравитации двух дисциплин все-таки заставляют тяготеть своих представителей либо к конкретике одного хронотопа, либо к абстракции социальной сферы без привязки к времени и пространству. Какая дисциплина априори лучше? Никто не может сказать определенно. Мы можем лишь сопоставлять их находки в одной из таких зон обмена.
👍38👏2👌2🖕2
Сначала Штирлиц боролся с японцами
Не перестаю удивляться, сколько известных и влиятельных людей породила востоковедческая экосистема. Возможно, именно востоковеды, а не чекисты на самом управляют Россией. Во всяком случае, посредством трансляции своих идей. Про песковыхсоловьевых вам и так все известно, но знали ли вы, что классик расследовательской журналистики и остросюжетной прозы Юлиан Семенов тоже из этих самых? Он учился в Московском инстититуте востоковедения на одном курсе с Евгением Примаковым, а позже преподавал пушту в МГУ.
Идею написать первый роман про Исаева/Штирлица Семенову подсказал его старший коллега по МИВ Роман Ким. Тот в молодости якобы знал некого Максима – корреспондента газеты во Владивостоке времени Гражданской войны, публично симпатизирующего белогвардейцам, но на самом деле выполняющего задания самого Дзержинского по слежке за иностранными резидентами города. В благодарность за образ, из которого потом получилась всенародно любимая франшиза, Семенов вывел в книгах про Исаева и самого Кима – в качестве связного Чена.
Биография Кима, кстати, тянет на отдельный шпионский триллер. Сын корейского купца, в 1919 году Ким поступил в Восточный институт во Владивостоке и вскоре начал работать как переводчик на большевиков – единственную силу в регионе, которая не притесняла корейскую диаспору. Ким активно помогал в организации Всесоюзной научной ассоциации востоковедения, преподавал японскую и китайскую литературу в МИВ, но параллельно продолжал сотрудничать с НКВД. Во время чисток его арестовали, но расстрелять не смогли: cлишком ценны были его навыки дешифровщика. Всю войну он отсидел в Лефортово и прямо из камеры переводил перехваченные японские стенограммы. В конце 1945 года его отпустили и даже наградили медалью «За победой на Японией».
Уйдя на пенсию, Ким открыл в себе увлечение писательским ремеслом. Произведения Кима добились некоторого успеха у читательской аудитории, но к еще большей славе пришли его некоторые протеже из числа учеников и младших коллег. Одним из них был упомянутый историк-афгановед Семенов, другим – филолог-японист Аркадий Стругацкий. «Советский deep state!» – как выражается Олег Кашин. «Да просто small-world phenomenon», – отвечают сетевые социологи.
Не перестаю удивляться, сколько известных и влиятельных людей породила востоковедческая экосистема. Возможно, именно востоковеды, а не чекисты на самом управляют Россией. Во всяком случае, посредством трансляции своих идей. Про песковыхсоловьевых вам и так все известно, но знали ли вы, что классик расследовательской журналистики и остросюжетной прозы Юлиан Семенов тоже из этих самых? Он учился в Московском инстититуте востоковедения на одном курсе с Евгением Примаковым, а позже преподавал пушту в МГУ.
Идею написать первый роман про Исаева/Штирлица Семенову подсказал его старший коллега по МИВ Роман Ким. Тот в молодости якобы знал некого Максима – корреспондента газеты во Владивостоке времени Гражданской войны, публично симпатизирующего белогвардейцам, но на самом деле выполняющего задания самого Дзержинского по слежке за иностранными резидентами города. В благодарность за образ, из которого потом получилась всенародно любимая франшиза, Семенов вывел в книгах про Исаева и самого Кима – в качестве связного Чена.
Биография Кима, кстати, тянет на отдельный шпионский триллер. Сын корейского купца, в 1919 году Ким поступил в Восточный институт во Владивостоке и вскоре начал работать как переводчик на большевиков – единственную силу в регионе, которая не притесняла корейскую диаспору. Ким активно помогал в организации Всесоюзной научной ассоциации востоковедения, преподавал японскую и китайскую литературу в МИВ, но параллельно продолжал сотрудничать с НКВД. Во время чисток его арестовали, но расстрелять не смогли: cлишком ценны были его навыки дешифровщика. Всю войну он отсидел в Лефортово и прямо из камеры переводил перехваченные японские стенограммы. В конце 1945 года его отпустили и даже наградили медалью «За победой на Японией».
Уйдя на пенсию, Ким открыл в себе увлечение писательским ремеслом. Произведения Кима добились некоторого успеха у читательской аудитории, но к еще большей славе пришли его некоторые протеже из числа учеников и младших коллег. Одним из них был упомянутый историк-афгановед Семенов, другим – филолог-японист Аркадий Стругацкий. «Советский deep state!» – как выражается Олег Кашин. «Да просто small-world phenomenon», – отвечают сетевые социологи.
👍68👏5
Недавно жаловался, что Елену Гапову незаслуженно мало знают в России. Думаю, что с Ищенко похожая история. Глубоко недооцененный критический социолог, который пишет не столько про одну Украину, сколько про последствия всего, что можно назвать длинным и глобальным 1989 годом. Возможно, подходящим к концу на наших глазах. Круто, что коллеги из PS Lab пиарят книгу Владимира. Надеюсь, не выдам секрета, что ее можно найти и в открытом доступе. Но где, я не скажу. Гуглите! Аххаха!
👍37🙏4👏2🖕1
Forwarded from PS Lab - Лаборатория публичной социологии
«НА ПУТИ К БЕЗДНЕ». НОВАЯ КНИГА ВЛАДИМИРА ИЩЕНКО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛАБОРАТОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛАБОРАТОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ 18+
В издательстве Verso недавно вышла книга нашего многолетнего коллеги и друга, украинского социолога, сотрудника Свободного университета Берлина Владимира Ищенко. Книга называется «На пути к бездне» и представляет собой сборник аналитических и публицистических текстов, а также интервью прессе разных лет. Она состоит из небольших глав, написанных популярным языком для широкой публики, тем не менее, большинство текстов основаны на результатах оригинальных социологических исследований, проведенных Ищенко в последние 10 лет.
Главные темы книги: Евромайдан в сравнительной перспективе современных городских революций; ультраправые и их роль в украинской политике; борьба разных фракций украинского правящего класса; российско-украинская война. Есть в книге и прогнозы относительно того, что будет дальше с постсоветским регионом.
Книга Ищенко соединяет социологический анализ, политическую полемику и автобиографическую перспективу (в предисловии Владимир пишет о себе, своей семье и своих взглядах). В целом же разные сюжеты книги вращаются вокруг главной темы – кризиса постсоветской гегемонии. Проблема кризиса гегемонии сформулирована в главе, написанной совместно с Олегом Журавлевым. Строительство капитализма на постсоветском пространстве осуществлялось элитами, которые не сумели создать устойчивого легитимного правления, не стали морально-политическими лидерами обществ. Эта неспособность «возглавить» общества и предложить им внятный проект развития переживалась и самими элитами, и социальными группами как кризис (в том числе, кризис представительства). В результате с определенной регулярностью в постсоветских странах осуществлялись попытки этот кризис разрешить. В одних постсоветских странах ответом на кризис стал бонапартизм (например, Россия и Беларусь), в других – «дефицитарные» революции, которые могли поменять власть, но не меняли социальный порядок, ведущий к кризису (например, Украина или Грузия). В результате эти «псевдорешения», вызванные кризисом гегемонии, лишь воспроизводили и усугубляли этот кризис. Главы книги, выстроенные в хронологическом порядке, и написанные об Украине, России и Беларуси как бы прослеживают динамику этого кризиса, ведущего к той катастрофе, внутри которой мы все сегодня живем.
Кстати, издание «Историческая экспертиза» перевело и опубликовало одну из глав книги, которая называется «Украинские голоса» (изначально текст опубликован в журнале New Left Review). Этот текст – полемическое эссе о дискурсе деколонизации в сравнении с практикой антиколониальной борьбы 1960-х. Согласно Ищенко, антиколониальная борьба второй половины 20 века не исчерпывалась политикой идентичности, а представляла собой формирование национальных проектов, основанных на экономике развития и социальном равенстве.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛАБОРАТОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛАБОРАТОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ 18+
В издательстве Verso недавно вышла книга нашего многолетнего коллеги и друга, украинского социолога, сотрудника Свободного университета Берлина Владимира Ищенко. Книга называется «На пути к бездне» и представляет собой сборник аналитических и публицистических текстов, а также интервью прессе разных лет. Она состоит из небольших глав, написанных популярным языком для широкой публики, тем не менее, большинство текстов основаны на результатах оригинальных социологических исследований, проведенных Ищенко в последние 10 лет.
Главные темы книги: Евромайдан в сравнительной перспективе современных городских революций; ультраправые и их роль в украинской политике; борьба разных фракций украинского правящего класса; российско-украинская война. Есть в книге и прогнозы относительно того, что будет дальше с постсоветским регионом.
Книга Ищенко соединяет социологический анализ, политическую полемику и автобиографическую перспективу (в предисловии Владимир пишет о себе, своей семье и своих взглядах). В целом же разные сюжеты книги вращаются вокруг главной темы – кризиса постсоветской гегемонии. Проблема кризиса гегемонии сформулирована в главе, написанной совместно с Олегом Журавлевым. Строительство капитализма на постсоветском пространстве осуществлялось элитами, которые не сумели создать устойчивого легитимного правления, не стали морально-политическими лидерами обществ. Эта неспособность «возглавить» общества и предложить им внятный проект развития переживалась и самими элитами, и социальными группами как кризис (в том числе, кризис представительства). В результате с определенной регулярностью в постсоветских странах осуществлялись попытки этот кризис разрешить. В одних постсоветских странах ответом на кризис стал бонапартизм (например, Россия и Беларусь), в других – «дефицитарные» революции, которые могли поменять власть, но не меняли социальный порядок, ведущий к кризису (например, Украина или Грузия). В результате эти «псевдорешения», вызванные кризисом гегемонии, лишь воспроизводили и усугубляли этот кризис. Главы книги, выстроенные в хронологическом порядке, и написанные об Украине, России и Беларуси как бы прослеживают динамику этого кризиса, ведущего к той катастрофе, внутри которой мы все сегодня живем.
Кстати, издание «Историческая экспертиза» перевело и опубликовало одну из глав книги, которая называется «Украинские голоса» (изначально текст опубликован в журнале New Left Review). Этот текст – полемическое эссе о дискурсе деколонизации в сравнении с практикой антиколониальной борьбы 1960-х. Согласно Ищенко, антиколониальная борьба второй половины 20 века не исчерпывалась политикой идентичности, а представляла собой формирование национальных проектов, основанных на экономике развития и социальном равенстве.
Verso
Towards the Abyss
Towards the Abyss presents searching analysis of a decade of war and upheaval in Ukraine. Volodymyr Ishchenko has been among the left’s most significant commentators on Ukraine since 2014, when pro-EU protestors toppled the government in Kiev, Russia annexed…
👍33✍6🖕3👏2