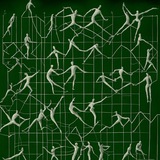Forwarded from провода+болота
социолог знания Гарри Коллинз написал статью про то, почему для изучения ИИ нужна социология.
статья в двух частях, и довольно простая по идее: обучение нейросетей происходит не так, как у людей, так как нейросети «учатся» сразу на большом объёме заранее недостоверного знания, из которого вычленяют кусочки достоверного — опираясь на моделирование. вроде как это называется «обучением без учителя», хотя, конечно, учитель там скрыто присутствует, потому что в языке уже есть основания для научения. отличие от людского обучения в том, что для языковых моделей у слов должны быть точные значения из определений (границ/пределов значения). а люди учатся, указывая на вещи, которые при этом могут никакими словами не обозначаться, просто «это так». из такого консенсуса (не выраженного в грамматически выстроенных конструкциях) складывается моральная норма в конкретной группе. не то, чтобы у языковых моделей такого вовсе не было (они же организованы через сети). но групповые нормы никакими языковыми моделями невычленимы, потому что эти нормы вне языка.
в статье Коллинз сначала подробно это обясняет, а во второй части отвечает анонимному рецензенту, который указывает на то, что дед не шарит в том, насколько нейросети продвинутые. вторая часть короткая и трогательная, Коллинз деликатно объясняет, что разбираться нужно не только в нейросетях, а в том, как устроено человеческое знание, ну хотя бы для того, чтобы отличать его от «нечеловеческого».
к счастью в помощь ему и собственные исследования экспертизы разных типов, и когнитивная социология, и много ещё интересных подходов, которые позволяют понять ИИ не как зависшее понятие между инструментом и субъектом, а как сложную технологию знания: где-то между институтом и разработкой. но это уже моя интерпретация, а статья сама по себе дельная и простая.
Collins, H. (2024). Why artificial intelligence needs sociology of knowledge: parts I and II. AI & SOCIETY, 1-15.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-024-01954-8
#rawreading
статья в двух частях, и довольно простая по идее: обучение нейросетей происходит не так, как у людей, так как нейросети «учатся» сразу на большом объёме заранее недостоверного знания, из которого вычленяют кусочки достоверного — опираясь на моделирование. вроде как это называется «обучением без учителя», хотя, конечно, учитель там скрыто присутствует, потому что в языке уже есть основания для научения. отличие от людского обучения в том, что для языковых моделей у слов должны быть точные значения из определений (границ/пределов значения). а люди учатся, указывая на вещи, которые при этом могут никакими словами не обозначаться, просто «это так». из такого консенсуса (не выраженного в грамматически выстроенных конструкциях) складывается моральная норма в конкретной группе. не то, чтобы у языковых моделей такого вовсе не было (они же организованы через сети). но групповые нормы никакими языковыми моделями невычленимы, потому что эти нормы вне языка.
в статье Коллинз сначала подробно это обясняет, а во второй части отвечает анонимному рецензенту, который указывает на то, что дед не шарит в том, насколько нейросети продвинутые. вторая часть короткая и трогательная, Коллинз деликатно объясняет, что разбираться нужно не только в нейросетях, а в том, как устроено человеческое знание, ну хотя бы для того, чтобы отличать его от «нечеловеческого».
к счастью в помощь ему и собственные исследования экспертизы разных типов, и когнитивная социология, и много ещё интересных подходов, которые позволяют понять ИИ не как зависшее понятие между инструментом и субъектом, а как сложную технологию знания: где-то между институтом и разработкой. но это уже моя интерпретация, а статья сама по себе дельная и простая.
Collins, H. (2024). Why artificial intelligence needs sociology of knowledge: parts I and II. AI & SOCIETY, 1-15.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-024-01954-8
#rawreading
👍65✍3👎1👏1
Прощаясь с анархизмом
Ушел Джеймс Скотт – великий междисциплинарный исследователь. Его принято представлять как антрополога, хотя всю жизнь он проработал на факультетах политологии, а его работы содержательно не в меньшей степени покрывают историю и социологию. Скотт был прекрасен в создании и популяризации обобщающих концепций, применимых далеко за рамками его поля: высокий модернизм, инфраполитика, Зомия… Мало кто мог сравниться с ним в производстве такого вирусного гуманитарно-научного контента.
Работы Скотта повлияли и на меня, причем не только академически. Тезис моей магистерской про реакцию преподавателей и студентов на укрупнения академических подразделений при Ливанове был сформулирован не без влияния идей про невидимое сопротивление. Тогда же я, молодой яблочник, который и так уже скептически относился к любым начинаниям российского системного либерализма, угорел по анархистской мысли. Однако с тех пор навязчивый ресентимент поколения Скотта к государству перестал резонировать с моими убеждениями. Есть какое-то бесконечно фейковое толстовство в том, что высокооплачиваемый американский профессор умиляется жизнью неграмотных крестьян из Мьянмы или Лаоса, пока сам чиллит на большом ранчо в Коннектикуте.
Сейчас, изучая историю холодной войны, я принимаю позицию Скотта еще меньше. США и СССР пробовали осуществлять масштабные инфраструктурные проекты в постколониальном мире в 1950-х и 1960-х гг., но быстро свернули эту лавочку. Если упрощать: чисто из-за нежелания тратиться. На что они тратились – это на накачку оружием полевых командиров, которые в свою очередь не могли, а часто вообще не хотели заниматься строительством государства. Почему Скотт не понимал, что его романтизация безгосударственности, в конечном счете, легитимизирует разрушительные прорыночные реформы? Да, травма Вьетнамом, то и се, но все равно…
Короче, скажем «да!» Скотту, когда он учит нас выходить за рамки примитивных европоцентризма и модернизаторства в изучении истории. Скажем уверенное «нет!», когда на проблемы голода, изменения климата и прочих глобальных проблем он призывает нас по-эскапистски закапываться в неявное знание и бегать от чиновников. Увы, совершеннейшая правда, что государства наломали и подожгли дров по всему миру. Но другая часть правды в том, что и разгребать это пожарище тоже должны государства, а не кто-то другой.
Ушел Джеймс Скотт – великий междисциплинарный исследователь. Его принято представлять как антрополога, хотя всю жизнь он проработал на факультетах политологии, а его работы содержательно не в меньшей степени покрывают историю и социологию. Скотт был прекрасен в создании и популяризации обобщающих концепций, применимых далеко за рамками его поля: высокий модернизм, инфраполитика, Зомия… Мало кто мог сравниться с ним в производстве такого вирусного гуманитарно-научного контента.
Работы Скотта повлияли и на меня, причем не только академически. Тезис моей магистерской про реакцию преподавателей и студентов на укрупнения академических подразделений при Ливанове был сформулирован не без влияния идей про невидимое сопротивление. Тогда же я, молодой яблочник, который и так уже скептически относился к любым начинаниям российского системного либерализма, угорел по анархистской мысли. Однако с тех пор навязчивый ресентимент поколения Скотта к государству перестал резонировать с моими убеждениями. Есть какое-то бесконечно фейковое толстовство в том, что высокооплачиваемый американский профессор умиляется жизнью неграмотных крестьян из Мьянмы или Лаоса, пока сам чиллит на большом ранчо в Коннектикуте.
Сейчас, изучая историю холодной войны, я принимаю позицию Скотта еще меньше. США и СССР пробовали осуществлять масштабные инфраструктурные проекты в постколониальном мире в 1950-х и 1960-х гг., но быстро свернули эту лавочку. Если упрощать: чисто из-за нежелания тратиться. На что они тратились – это на накачку оружием полевых командиров, которые в свою очередь не могли, а часто вообще не хотели заниматься строительством государства. Почему Скотт не понимал, что его романтизация безгосударственности, в конечном счете, легитимизирует разрушительные прорыночные реформы? Да, травма Вьетнамом, то и се, но все равно…
Короче, скажем «да!» Скотту, когда он учит нас выходить за рамки примитивных европоцентризма и модернизаторства в изучении истории. Скажем уверенное «нет!», когда на проблемы голода, изменения климата и прочих глобальных проблем он призывает нас по-эскапистски закапываться в неявное знание и бегать от чиновников. Увы, совершеннейшая правда, что государства наломали и подожгли дров по всему миру. Но другая часть правды в том, что и разгребать это пожарище тоже должны государства, а не кто-то другой.
👏65👍24✍6👎2💅2
Негритюд как социальная сеть
Составляю схемки и конспектики по сотрудничеству советских востоковедов с антиколониальными интеллектуалами. Пришла в голову идея спин-офф-исследования, которое я вряд ли буду когда-то делать (хотя мало ли): сетевую социологию движения негритюд – философской и литературной теории инаковости африканской культуры. Комментариев к трудам основных участников пруд пруди, а вот ничего в стиле SSSH я не нашел. Хотя было бы классно сделать что-то подобное работам Майкла Фаррелла по психоаналитическим кругам или Моники Ли по периферии Франкфуртской школы. Если я просто недостаточно гуглил, напишите в комменты, пожалуйста.
Хотя я вру. Одна работа, которая наиболее близко подходит к тому, что я задумал, все-таки существует. Это «Французское имперское национальное государство» Гэри Уайлдера. Собственно, пока я ее листал, идея меня и посетила. Хотя там больше про социальный и административный контекст движения, отличительной чертой которого был промежуточный статус французских земель, таких как Сенегал, Мартиника и Гвиана. Именно они стали слабым звеном во французском колониализме, так как в них черное население могло получить образование и доступ к читающей аудитории. Уже потом их идеи стали влиятельными на территории всей империи и за ее пределами.
Чего у Уайлдера не хватает, но что могло бы быть интересно с точки зрения социальной структуры идей – это распределение ролей внутри движения. Так, Леопольд Сенгор был явно наиболее политизированными и публичным участником, Полетт Нардаль склеивала тусовку как организационный лидер, а Франц Фанон – это критик движения, который представлял его же второе поколение. (Фанон как такой Хабермас негритюда? Хм.) Также интересно было бы показать движение в целом в качестве забытого структурного посредника между берегами Атлантики: участники много общались и с французскими левыми интеллектуалами, и с черными поэтами и писателями из США.
Составляю схемки и конспектики по сотрудничеству советских востоковедов с антиколониальными интеллектуалами. Пришла в голову идея спин-офф-исследования, которое я вряд ли буду когда-то делать (хотя мало ли): сетевую социологию движения негритюд – философской и литературной теории инаковости африканской культуры. Комментариев к трудам основных участников пруд пруди, а вот ничего в стиле SSSH я не нашел. Хотя было бы классно сделать что-то подобное работам Майкла Фаррелла по психоаналитическим кругам или Моники Ли по периферии Франкфуртской школы. Если я просто недостаточно гуглил, напишите в комменты, пожалуйста.
Хотя я вру. Одна работа, которая наиболее близко подходит к тому, что я задумал, все-таки существует. Это «Французское имперское национальное государство» Гэри Уайлдера. Собственно, пока я ее листал, идея меня и посетила. Хотя там больше про социальный и административный контекст движения, отличительной чертой которого был промежуточный статус французских земель, таких как Сенегал, Мартиника и Гвиана. Именно они стали слабым звеном во французском колониализме, так как в них черное население могло получить образование и доступ к читающей аудитории. Уже потом их идеи стали влиятельными на территории всей империи и за ее пределами.
Чего у Уайлдера не хватает, но что могло бы быть интересно с точки зрения социальной структуры идей – это распределение ролей внутри движения. Так, Леопольд Сенгор был явно наиболее политизированными и публичным участником, Полетт Нардаль склеивала тусовку как организационный лидер, а Франц Фанон – это критик движения, который представлял его же второе поколение. (Фанон как такой Хабермас негритюда? Хм.) Также интересно было бы показать движение в целом в качестве забытого структурного посредника между берегами Атлантики: участники много общались и с французскими левыми интеллектуалами, и с черными поэтами и писателями из США.
👍32👏5🙏1🖕1
Ребрендинг?
Три года назад, когда я только создал канал, он был посвящен в основном дебатам о социальных структурах. Отсюда и родилось его название. Однако с тех пор я сначала все больше стал писать о концептуальных и методологических проблемах социологии знания, а сейчас еще и раскапывать сюжеты из транснациональной истории советских востоковедов.
Писать про структурализм в социологической теории – особенно про Бурдье – я очень люблю и не собираюсь бросать, но, честно говоря, это уже не самая важная для меня тема. Скорее, одна из. Так что в последнее время мне все чаще кажется, что текущее название перестало соответствовать духу канала. Как будто необходимы какие-то новые слова, которые объединили бы все три тематики под одной шапкой.
Хочется в первую очередь посоветоваться с вами, любимые подписчики, что вы думаете над этот счет? Пожалуйста, ткните в одну из кнопок опроса, а если у вас есть развернутое мнение или даже вариант нового названия, то обязательно пишите в комменты! Мне очень интересуют ваши тейки. На кону моя самоидентификация как исследователя.
Три года назад, когда я только создал канал, он был посвящен в основном дебатам о социальных структурах. Отсюда и родилось его название. Однако с тех пор я сначала все больше стал писать о концептуальных и методологических проблемах социологии знания, а сейчас еще и раскапывать сюжеты из транснациональной истории советских востоковедов.
Писать про структурализм в социологической теории – особенно про Бурдье – я очень люблю и не собираюсь бросать, но, честно говоря, это уже не самая важная для меня тема. Скорее, одна из. Так что в последнее время мне все чаще кажется, что текущее название перестало соответствовать духу канала. Как будто необходимы какие-то новые слова, которые объединили бы все три тематики под одной шапкой.
Хочется в первую очередь посоветоваться с вами, любимые подписчики, что вы думаете над этот счет? Пожалуйста, ткните в одну из кнопок опроса, а если у вас есть развернутое мнение или даже вариант нового названия, то обязательно пишите в комменты! Мне очень интересуют ваши тейки. На кону моя самоидентификация как исследователя.
👍20💅11👌3
👍12
После Сталина, часть 1
Ладно, дорогие подписчики, вы меня пока уговорили. Голосование показало, что квалифицированное большинство против переименования. Но для меня особо важен даже не опрос, а аргументированное мнение многих постоянных читателей в комментариях. Действительно, урона от нового названия явно будет больше, чем пользы. Значит, будем писать на новые темы под старым брендом. Существует же как-то газета «Комсомольская правда» или группа Bring Me the Horizon…
Я тут пока продолжаю самообразование на тему эпохи деколонизации и холодной войны. Хочется прояснить контекст, в ходе которого создавались советские институты по изучению Азии и Африки. Конечно, совершенно потрясающая эпоха! Меня аж плющит от удовольствия и волнения, когда удается найти какие-то новые для меня аргументы и факты. Вот удалось прочитать сразу две книги, где концептуально обобщаются эти процессы. Обе – современная классика глобальной истории. Но по академическому стилю очень разные, так как написаны англичанином и немцем соответственно.
Первая – «После Тамерлана» Джона Дарвина. Автор среди прочего доказывает интересный тезис, что абсолютное колониальное господство европейцев над остальным миром во второй половине XIX – первой половине XX века в известном смысле историческая аберрация. Во-первых, к ней привело невиданное перемирие между европейскими державами. Если конфликты между ними и случались, то имели относительно быстротечный и локальный характер. В итоге весь демографический избыток и все технологические инновации удалось направить вовне континента. Во-вторых, конкуренты европейцев от очевидных типа Китая до совсем забытых типа султаната Занзибар столкнулись с целым ворохом внутренних проблем, которые не позволили им создать устойчивые плацдармы для построения достаточно сильных государств.
Истощение европейских империй из-за мировых войн, а также многочисленные догоняющие модернизации (где-то вызванные самими европейцами в своих колониях, где-то – с помощью новых сверхдержав США и СССР, а где-то и самостоятельными национальными элитами) вернули мир к условно нормальному состоянию сложного равновесия между крупными региональными державами, каждая из которых контролирует свой небольшой хартленд. Словом, Дарвин не особо напуган новой конфигурацией международных отношений без одного гегемона, так как считает ее очень древней. Существующей, как видно из названия, аж со времен смерти Тамерлана.
Ладно, дорогие подписчики, вы меня пока уговорили. Голосование показало, что квалифицированное большинство против переименования. Но для меня особо важен даже не опрос, а аргументированное мнение многих постоянных читателей в комментариях. Действительно, урона от нового названия явно будет больше, чем пользы. Значит, будем писать на новые темы под старым брендом. Существует же как-то газета «Комсомольская правда» или группа Bring Me the Horizon…
Я тут пока продолжаю самообразование на тему эпохи деколонизации и холодной войны. Хочется прояснить контекст, в ходе которого создавались советские институты по изучению Азии и Африки. Конечно, совершенно потрясающая эпоха! Меня аж плющит от удовольствия и волнения, когда удается найти какие-то новые для меня аргументы и факты. Вот удалось прочитать сразу две книги, где концептуально обобщаются эти процессы. Обе – современная классика глобальной истории. Но по академическому стилю очень разные, так как написаны англичанином и немцем соответственно.
Первая – «После Тамерлана» Джона Дарвина. Автор среди прочего доказывает интересный тезис, что абсолютное колониальное господство европейцев над остальным миром во второй половине XIX – первой половине XX века в известном смысле историческая аберрация. Во-первых, к ней привело невиданное перемирие между европейскими державами. Если конфликты между ними и случались, то имели относительно быстротечный и локальный характер. В итоге весь демографический избыток и все технологические инновации удалось направить вовне континента. Во-вторых, конкуренты европейцев от очевидных типа Китая до совсем забытых типа султаната Занзибар столкнулись с целым ворохом внутренних проблем, которые не позволили им создать устойчивые плацдармы для построения достаточно сильных государств.
Истощение европейских империй из-за мировых войн, а также многочисленные догоняющие модернизации (где-то вызванные самими европейцами в своих колониях, где-то – с помощью новых сверхдержав США и СССР, а где-то и самостоятельными национальными элитами) вернули мир к условно нормальному состоянию сложного равновесия между крупными региональными державами, каждая из которых контролирует свой небольшой хартленд. Словом, Дарвин не особо напуган новой конфигурацией международных отношений без одного гегемона, так как считает ее очень древней. Существующей, как видно из названия, аж со времен смерти Тамерлана.
👍56✍9
После Сталина, часть 2
Если Дарвин строит свою книгу как бесконечную сравнительную историю по принципу one fucking thing after another, то подход Герфрида Мюнклера в «Империях», скорее, является миксом истории, правовой теории и политологии. Немец выполнил свою книгу в виде ряда эссе, каждое из которых основано на исторических кейсах как иллюстрациях какой-то определенной темы. Мюнклер свободно перемещается между СССР, Британской империей, Китаем и даже Делосским союзом. Одним из важнейших вопросов для него является различение империи как типа государства и империализма как принципа спланированного вмешательства в дела других государств.
Империализм, по Мюнклеру, – это осознанная программа по сохранению и преумножению империи. Империализм характерен для поздних этапов существования империи, но рождается она обычно непреднамеренно. Сначала где-то в локальном пространстве образуется вакуум власти, который одна из региональных держав заполняет и неожиданно для себя резко растет в мощи. Потом к ней начинают обращаться клиенты, просьбы которых она не может игнорировать. Затем для безопасности образовавшегося бриколажа людей, территорий и ресурсов от конкурентов приходится впрягаться в совсем уже далекие от интересов центра конфликты. Только тогда элиты начинают осознавать, что они в имперском поезде, с которого не соскочишь. Подъем Франции и Британии хорошо вписывается в эту логику, как и США с СССР. Короче, по Мюнклеру, движухи на периферии рождают империю, и они же ее убивают.
Несмотря на такие реверансы в сторону ключевого значения периферий, дух книги скорее консервативный. Мюнклер считает, что деколонизация второй половины XX века уничтожила конкретные европейские империи, но не тип государства как таковой. Новые формы империй будут возникать и дальше. Так что не надо стесняться быть империей. Таков его месседж, направленный в основном на европейские элиты, которые могут упустить шанс превратить ЕС в полноценное сверхгосударство. В общем, обе книги в определенном смысле легитимизируют имперское пространство как принцип. Надо исправляться и брать в следующий раз на подобный обзор левых авторов.
В заключение скажу, что русский перевод не очень литературен, а иногда и просто коряв. Также он дополнен просто невероятным количеством сносок, где Мюнклера исправляет и уточняет переводчик на русский Леонтий Ланник. То переводчика обижает замечание автора по вопросу статуса Крыма, то он спорит по поводу интерпретации Маркса, то просто делится на абзацик своим видением франко-советских отношений… Почему издательство разрешило переводчику зафиксировать в печати свой поток сознания, я так и не понял. К счастью, доступен гораздо более профессиональный перевод на английский, на который я и переключился в процессе чтения.
Если Дарвин строит свою книгу как бесконечную сравнительную историю по принципу one fucking thing after another, то подход Герфрида Мюнклера в «Империях», скорее, является миксом истории, правовой теории и политологии. Немец выполнил свою книгу в виде ряда эссе, каждое из которых основано на исторических кейсах как иллюстрациях какой-то определенной темы. Мюнклер свободно перемещается между СССР, Британской империей, Китаем и даже Делосским союзом. Одним из важнейших вопросов для него является различение империи как типа государства и империализма как принципа спланированного вмешательства в дела других государств.
Империализм, по Мюнклеру, – это осознанная программа по сохранению и преумножению империи. Империализм характерен для поздних этапов существования империи, но рождается она обычно непреднамеренно. Сначала где-то в локальном пространстве образуется вакуум власти, который одна из региональных держав заполняет и неожиданно для себя резко растет в мощи. Потом к ней начинают обращаться клиенты, просьбы которых она не может игнорировать. Затем для безопасности образовавшегося бриколажа людей, территорий и ресурсов от конкурентов приходится впрягаться в совсем уже далекие от интересов центра конфликты. Только тогда элиты начинают осознавать, что они в имперском поезде, с которого не соскочишь. Подъем Франции и Британии хорошо вписывается в эту логику, как и США с СССР. Короче, по Мюнклеру, движухи на периферии рождают империю, и они же ее убивают.
Несмотря на такие реверансы в сторону ключевого значения периферий, дух книги скорее консервативный. Мюнклер считает, что деколонизация второй половины XX века уничтожила конкретные европейские империи, но не тип государства как таковой. Новые формы империй будут возникать и дальше. Так что не надо стесняться быть империей. Таков его месседж, направленный в основном на европейские элиты, которые могут упустить шанс превратить ЕС в полноценное сверхгосударство. В общем, обе книги в определенном смысле легитимизируют имперское пространство как принцип. Надо исправляться и брать в следующий раз на подобный обзор левых авторов.
В заключение скажу, что русский перевод не очень литературен, а иногда и просто коряв. Также он дополнен просто невероятным количеством сносок, где Мюнклера исправляет и уточняет переводчик на русский Леонтий Ланник. То переводчика обижает замечание автора по вопросу статуса Крыма, то он спорит по поводу интерпретации Маркса, то просто делится на абзацик своим видением франко-советских отношений… Почему издательство разрешило переводчику зафиксировать в печати свой поток сознания, я так и не понял. К счастью, доступен гораздо более профессиональный перевод на английский, на который я и переключился в процессе чтения.
👍47✍5
Кейсианец Джон Дьюзенберри говорил: «Экономика – это изучение того, как люди делают выбор, а социология – это изучение того, почему у них нет выбора». Мне кажется, структуралистская презумпция об отсутствии выбора звучит, может, и пессимистично, но зато куда лучше отражает реальность.
👍75🖕10👌7✍2👏2
Деколонизация тогда и сейчас
Современная деколониальная школа мысли обычно предлагает дробить суверенитеты настолько мелко, насколько возможно. В идеале, вообще спускаться до локальных сообществ и идентичностей. Грубо говоря, мало отделить Республику Саха от Российской Федерации. Надо предоставить в ней независимость эвенкам и эвенам. Но и на этом тоже останавливаться не нужно, ведь эвенки делятся на разные диалектные группы. Нельзя, чтобы одна из них была большинством, угнетающим других.
Интересно, что лидеры реальной деколонизации 1940–1960-х гг. рассуждали прямо противоположным образом. Среди ключевых спикеров, задававших тон антиимпериалистической повестке на конференциях в Бандунге и Белграде, трое представляли крупнейшие мультикультурные федерации: Джавахарлал Неру – Индию, Сукарно – Индонезию и, конечно, Тито, про югославский проект которого я недавно писал.
Двое других – Кваме Нкрума и Гамаль Абдель Насер – формально были лидерами унитарных национальных государства Ганы и Египта соответственно. Однако Нкруме в 1958 году удалось подписать федеративный договор с Гвинеей и Мали. Насер же был борцом за панарабизм, создавшим в это же время объединенное сирийско-египетское государство, к вступлению в которое были близки Ливия, Ирак и Йемен.
Вообще, в деколониальную эпоху создание крупных федеративных образований по образцу США, СССР и зарождавшегося ЕС – это мейнстрим международной политической мысли. Можно обвинять тех лидеров в жажде власти или в наивном следовании колониальной матрице, но это просто факты. Никто не хотел снова повторять XIX век, когда крупные европейские рыбы пожрали более мелких поодиночке. Все хотели плавать косяком, накапливая промышленные, финансовые, военные, языковые ресурсы.
Сторонники распыления и раздробления суверенитетов тогда тоже были. Например, Черчилль, который предлагал создать на месте Индии как минимум три разных национальных государства, чтобы Британии легче было сохранить влияние в Южной Азии. В виде военных баз или собственности британских компаний... Короче, думайте.
Современная деколониальная школа мысли обычно предлагает дробить суверенитеты настолько мелко, насколько возможно. В идеале, вообще спускаться до локальных сообществ и идентичностей. Грубо говоря, мало отделить Республику Саха от Российской Федерации. Надо предоставить в ней независимость эвенкам и эвенам. Но и на этом тоже останавливаться не нужно, ведь эвенки делятся на разные диалектные группы. Нельзя, чтобы одна из них была большинством, угнетающим других.
Интересно, что лидеры реальной деколонизации 1940–1960-х гг. рассуждали прямо противоположным образом. Среди ключевых спикеров, задававших тон антиимпериалистической повестке на конференциях в Бандунге и Белграде, трое представляли крупнейшие мультикультурные федерации: Джавахарлал Неру – Индию, Сукарно – Индонезию и, конечно, Тито, про югославский проект которого я недавно писал.
Двое других – Кваме Нкрума и Гамаль Абдель Насер – формально были лидерами унитарных национальных государства Ганы и Египта соответственно. Однако Нкруме в 1958 году удалось подписать федеративный договор с Гвинеей и Мали. Насер же был борцом за панарабизм, создавшим в это же время объединенное сирийско-египетское государство, к вступлению в которое были близки Ливия, Ирак и Йемен.
Вообще, в деколониальную эпоху создание крупных федеративных образований по образцу США, СССР и зарождавшегося ЕС – это мейнстрим международной политической мысли. Можно обвинять тех лидеров в жажде власти или в наивном следовании колониальной матрице, но это просто факты. Никто не хотел снова повторять XIX век, когда крупные европейские рыбы пожрали более мелких поодиночке. Все хотели плавать косяком, накапливая промышленные, финансовые, военные, языковые ресурсы.
Сторонники распыления и раздробления суверенитетов тогда тоже были. Например, Черчилль, который предлагал создать на месте Индии как минимум три разных национальных государства, чтобы Британии легче было сохранить влияние в Южной Азии. В виде военных баз или собственности британских компаний... Короче, думайте.
👍69🙏4👎3👏3👌1
Полюбившийся мне Джон Дарвин специально обсуждает провалы государств в перспективе глобальной истории. Он приходит к выводам, что наиболее вероятны они для тех территорий, где: а) до наступления Нового времени не было устойчивой традиции государственного управления; б) территория и ее населения надолго попали в колониальную зависимость. Любопытно, что многие американские эксперты и советники хорошо осознавали эту колею постколониального мира еще в 1960-х гг, но придерживались формулы «Give war a chance!» Типа, пусть современные полевые командиры доделывают работу средневековых князей. Разумеется, такой циничный подход мало где сработал, и гражданские войны, например, в Африке никак не уходят в прошлое.
👍32
Forwarded from Деньги и песец
На вопрос, почему «хрупкость государства» с точки зрения Fragile States Index, может не означать реальной «хрупкости власти» прекрасно отвечал @politscience
Логика индекса Fragile States Index приводит нас к уже привычным выводам о вкладе качества и устойчивости институтов в состоятельность государства (state capacity). С их я влиянием на экономическое развитие сложно не согласиться.
Но …
?
В этом смысле проблемное место в рейтинге той или иной страны совсем не значит, что она более "хрупкая", чем такой лидер по устойчивости, как Финляндия.
Дело в классическом методологическом подходе неоинституциональных исследований.
Институты здесь рассматриваются как взаимосвязанные, но при этом достаточно самостоятельные акторы, действующие в рамках рациональной и подвижной системы отношений. Теория сетей политики (policy networks) напрямую отсылает нас к важности инклюзивных институтов и влиянию многоуровневого управления (multilevel governance), которое успешно сочетает сети и иерархии, на качество политик.
А экстрактивные институты, которые противоположны инклюзивным, получили имидж "разрушителей" качества и устойчивости государства.
Он параллелен государству, и его устойчивость зависит от критической массы включённых в него организаций и индивидов и их сплочённости. Все его члены функционируют не столько в формальных рамках (органе власти, партии, бизнесе или НКО, извлекающем ренту, другом экстрактивном или легитимирующем институте), сколько занимают свое место в системе неформального многоуровневого управления, тоже сочетающего иерархии и сети.
Таким образом, извлечённая рента в разных пропорциях распределяется от верхушки до самого низшего звена. Если на верхних этажах фактором сплочённости является размер ренты, то чем ниже, тем значимей становятся другие зависимости. Например, рациональность бюджетников обусловлена не столько размером ренты, сколько стабильностью и регулярностью её получения. Кроме того, единожды поучаствовав в каком-либо неформальном механизме (….) они становятся частью организма, а повторение неформальных практик приводит к повышению сплочённости.
Неотъемлемой частью экстрактивного организма становится и часть бизнес-сообщества: от производителей и продавцов в премиум сегменте, прибыль которых напрямую зависит от успешности рентоизвлекателей, до всевозможных родственников и друзей региональных элит, имеющих якобы самостоятельный бизнес.
Логика индекса Fragile States Index приводит нас к уже привычным выводам о вкладе качества и устойчивости институтов в состоятельность государства (state capacity). С их я влиянием на экономическое развитие сложно не согласиться.
Но …
что, если в некоторых условиях доминирование неформальных и экстрактивных институтов, наоборот, повышает устойчивость государства
?
В этом смысле проблемное место в рейтинге той или иной страны совсем не значит, что она более "хрупкая", чем такой лидер по устойчивости, как Финляндия.
Дело в классическом методологическом подходе неоинституциональных исследований.
Институты здесь рассматриваются как взаимосвязанные, но при этом достаточно самостоятельные акторы, действующие в рамках рациональной и подвижной системы отношений. Теория сетей политики (policy networks) напрямую отсылает нас к важности инклюзивных институтов и влиянию многоуровневого управления (multilevel governance), которое успешно сочетает сети и иерархии, на качество политик.
А экстрактивные институты, которые противоположны инклюзивным, получили имидж "разрушителей" качества и устойчивости государства.
Это проявляется и в методическом плане. Упомянутая сетевая теория концентрируется именно на структурной составляющей: ролях акторов, параметрах связей, всевозможных центральностях, сетевой динамике и т.д.
Принято считать, что слабые и некачественные институты формируют неустойчивые сети, и, следовательно, рано или поздно всё развалится.
Если же вместо аналитического подхода использовать холистический подход, то картина представляется кардинально иной: экстрактивные институты не формируют сети, а изначально являются единым экстрактивным организмом, сформированным по сетевому принципу
Он параллелен государству, и его устойчивость зависит от критической массы включённых в него организаций и индивидов и их сплочённости. Все его члены функционируют не столько в формальных рамках (органе власти, партии, бизнесе или НКО, извлекающем ренту, другом экстрактивном или легитимирующем институте), сколько занимают свое место в системе неформального многоуровневого управления, тоже сочетающего иерархии и сети.
Таким образом, извлечённая рента в разных пропорциях распределяется от верхушки до самого низшего звена. Если на верхних этажах фактором сплочённости является размер ренты, то чем ниже, тем значимей становятся другие зависимости. Например, рациональность бюджетников обусловлена не столько размером ренты, сколько стабильностью и регулярностью её получения. Кроме того, единожды поучаствовав в каком-либо неформальном механизме (….) они становятся частью организма, а повторение неформальных практик приводит к повышению сплочённости.
Неотъемлемой частью экстрактивного организма становится и часть бизнес-сообщества: от производителей и продавцов в премиум сегменте, прибыль которых напрямую зависит от успешности рентоизвлекателей, до всевозможных родственников и друзей региональных элит, имеющих якобы самостоятельный бизнес.
Этот единый экстрактивный институт обладает высокой "антихрупкостью", если в него включена большая часть общества, он в достаточной степени централизован, ресурсы сконцентрированы, связи сильны, а вся совокупность характеризуется высоким показателем сплочённости.
Это и есть то самое устойчивое "глубинное государство".
Более того, в связи с его встроенностью в институциональную структуру формальных органов публичного управления оно делает устойчивым и неэффективное государство…
Telegram
Political Animals
Fragile States Index (FSI) за 2023 год. Данный индекс измеряет устойчивость и целостность 179 государств на основе пяти индикаторов:
▪️Политический (верховенство права и соблюдение прав человека, легитимность правительства, качество государственных услуг)…
▪️Политический (верховенство права и соблюдение прав человека, легитимность правительства, качество государственных услуг)…
👍28💅1
Как написать эссе
Сильнейшим вызовом в нашем курсе по академическому письму для меня было лаконично объяснить, как писать эссе. Всего одно занятие, в котором нам хотелось обсудить очень и очень многое, и я рад, что это обсуждение в итоге удалось. Вообще, по ходу курса так получилось, что легендарная Лихинина постоянно поддает серьезного академизма, а я пытаюсь с ней по-дружески бороться, отстаивая свободу автора. Такая динамика придает мне энтузиазма.
Пришел к заключению, что в эссе есть две на первый взгляд разные стороны. Можно назвать их аналитической и образной. С одной стороны, эссе без понятной проблемы, ясного тезиса и сильных аргументов не убеждает, а мутирует в неудобоваримый поток сознания. С другой стороны, отсутствие в эссе ярких метафор, аллегорий, парадоксов лишает его жизни. Я думаю, вообще не стоит рассматривать эти противоположности как противоположности, как это делает коллега Колпинец. Скорее, обе являются чертами хорошего текста на фоне серости нормальной науки, где нет ни того, ни другого.
Настаиваю, что гармоничное сочетание анализа и поэтики отличает все великие эссе в социальных науках. Например, нельзя отказать «18 брюмера» Маркса в выстраивании убедительного нарратива о бонапартистском государстве, но без таких бангеров как «люди сами делают свою историю» или «традиции мертвых тяготеют над умами живых» мы бы просто не дочитали его до конца. Тоже самое можно сказать про Wissenschaft als Beruf Вебера, где типология сфер жизни не кликала бы без «принесения интеллекта в жертву» и «спора богов и демонов».
Только борясь со своими спонтанными наклонностями, можно продвинуться в создании гибкого и разнопланового авторского стиля. Помню, когда я только поступил в магистратуру, условно образная сторона во мне явно преобладала. Тогда Михаил Кром сказал мне, что типология разных исторических социологов в моем эссе занимательная, но почему там нет вообще никаких аргументов в ее пользу? Это очень сильно меня расстроило, но помогло осознать эту слабость. В дальнейшем я уделял больше внимания аргументации. Так что начинающим исследователям, которые только пытаются в академию, я рекомендую как можно скорее понять свою сильную сторону и качать противоположную. Постоянно напоминайте себе: I can be a bitch, I can be a diva; I can throw a pitch, I can play receiver.
Сильнейшим вызовом в нашем курсе по академическому письму для меня было лаконично объяснить, как писать эссе. Всего одно занятие, в котором нам хотелось обсудить очень и очень многое, и я рад, что это обсуждение в итоге удалось. Вообще, по ходу курса так получилось, что легендарная Лихинина постоянно поддает серьезного академизма, а я пытаюсь с ней по-дружески бороться, отстаивая свободу автора. Такая динамика придает мне энтузиазма.
Пришел к заключению, что в эссе есть две на первый взгляд разные стороны. Можно назвать их аналитической и образной. С одной стороны, эссе без понятной проблемы, ясного тезиса и сильных аргументов не убеждает, а мутирует в неудобоваримый поток сознания. С другой стороны, отсутствие в эссе ярких метафор, аллегорий, парадоксов лишает его жизни. Я думаю, вообще не стоит рассматривать эти противоположности как противоположности, как это делает коллега Колпинец. Скорее, обе являются чертами хорошего текста на фоне серости нормальной науки, где нет ни того, ни другого.
Настаиваю, что гармоничное сочетание анализа и поэтики отличает все великие эссе в социальных науках. Например, нельзя отказать «18 брюмера» Маркса в выстраивании убедительного нарратива о бонапартистском государстве, но без таких бангеров как «люди сами делают свою историю» или «традиции мертвых тяготеют над умами живых» мы бы просто не дочитали его до конца. Тоже самое можно сказать про Wissenschaft als Beruf Вебера, где типология сфер жизни не кликала бы без «принесения интеллекта в жертву» и «спора богов и демонов».
Только борясь со своими спонтанными наклонностями, можно продвинуться в создании гибкого и разнопланового авторского стиля. Помню, когда я только поступил в магистратуру, условно образная сторона во мне явно преобладала. Тогда Михаил Кром сказал мне, что типология разных исторических социологов в моем эссе занимательная, но почему там нет вообще никаких аргументов в ее пользу? Это очень сильно меня расстроило, но помогло осознать эту слабость. В дальнейшем я уделял больше внимания аргументации. Так что начинающим исследователям, которые только пытаются в академию, я рекомендую как можно скорее понять свою сильную сторону и качать противоположную. Постоянно напоминайте себе: I can be a bitch, I can be a diva; I can throw a pitch, I can play receiver.
👍78👏20🙏7🤝2👌1
Лимиты автономии
Нет нужды дополнительно говорить, насколько я уважаю теорию поля Бурдье и конкретно его концепцию автономии. Не только за описательный, но и нормативный потенциал. Однако за то долгое время, пока я преподавал Бурдье студентам, внутри меня зрела одна интуитивная претензия. Социальный тип автономного ученого в его теории – это что-то вроде монаха, который отрицает все мирские соблазны и преодолевает ошибки пристрастных описаний реальности. Однако чем больше этого монашества в науке, тем сильнее она становится похожа на игру в бисер, не правда ли? Нужна ли нам наука, которая великолепно описывает реальность, но имеет весьма неопределенное практическое применение?
Бурдье, конечно, не хотел, чтобы его концепция стала просто одной из многочисленных формулировок ценностной нейтральности, которых и так была куча у его либеральных предшественников. Он считал, что настоящий ученый должен периодически совершать интервенции в публичное политическое пространство. Как бы нести свет учения, помогая подчиненным группам бороться с символическим насилием. Однако все эти костыли только усиливали напряжение между вовлечением и дистанцированием, говоря словами старшего друга Бурдье Норберта Элиаса.
Короче, спорадически-то я часто возвращался к этим противоречиям, но их продуманный и детальный разбор встретил только недавно у Гила Эйяла, американо-израильского социолога экспертизы. Эйял, в принципе, согласен, что автономия науки – дело неотъемлемо важное. Однако излишняя автономия и правда превращает ученых в затворников, которым особо нечего сказать остальным членам общества. Слишком инцестуозно-аристократический характер приобретает специализированное знание. Чтобы избежать этого, ученые должны быть достаточно близки к lay people, чтобы осознавать, с какими проблемами последние сталкиваются, на каком языке говорят и какую низовую экспертизу могут предложить ученым в ответ. Настоящая наука выдерживает баланс между автономией и сопроизводством.
Идея сопроизводства Эйяла ближе по духу Латуру, у которого ученый – скорее дипломат, нежели монах. Однако она дополняется более пристальным вниманием к особенностям социального знания, где есть не только сопротивление материальных вещей, но и сопротивление языка. В каком-то смысле Эйял строит мост между двумя главными соперниками во французской социологии знания. Если у вас спрашивают, мол, есть ли какие-то новые теоретические разработки, а то надоело классиков читать, то смело рекомендуйте не только Краузе, но вот и Эйяла.
Надо признать, что Эйял не без помощи своего посла, коллеги Жихаревича, уговорил меня если не принять его позицию, то признать силу этого подхода. К тому же статья Эйяла, где он на основе концепции сопроизводства исследует трансформацию экспертизы по диагностике аутистического спектра – это действительно мощнейший текст не только концептуально, но и эмпирически. Теперь во мне зреет новая претензия – одновременно эпистемологическая и политическая – в слишком осторожном центризме. Типа, и ученые молодцы, и простые граждане тоже вносят вклад; и автономия – неплохо, и сопроизводство тоже ок. А критический компонент тут будет, нет? Надо что-то с этим делать!
Нет нужды дополнительно говорить, насколько я уважаю теорию поля Бурдье и конкретно его концепцию автономии. Не только за описательный, но и нормативный потенциал. Однако за то долгое время, пока я преподавал Бурдье студентам, внутри меня зрела одна интуитивная претензия. Социальный тип автономного ученого в его теории – это что-то вроде монаха, который отрицает все мирские соблазны и преодолевает ошибки пристрастных описаний реальности. Однако чем больше этого монашества в науке, тем сильнее она становится похожа на игру в бисер, не правда ли? Нужна ли нам наука, которая великолепно описывает реальность, но имеет весьма неопределенное практическое применение?
Бурдье, конечно, не хотел, чтобы его концепция стала просто одной из многочисленных формулировок ценностной нейтральности, которых и так была куча у его либеральных предшественников. Он считал, что настоящий ученый должен периодически совершать интервенции в публичное политическое пространство. Как бы нести свет учения, помогая подчиненным группам бороться с символическим насилием. Однако все эти костыли только усиливали напряжение между вовлечением и дистанцированием, говоря словами старшего друга Бурдье Норберта Элиаса.
Короче, спорадически-то я часто возвращался к этим противоречиям, но их продуманный и детальный разбор встретил только недавно у Гила Эйяла, американо-израильского социолога экспертизы. Эйял, в принципе, согласен, что автономия науки – дело неотъемлемо важное. Однако излишняя автономия и правда превращает ученых в затворников, которым особо нечего сказать остальным членам общества. Слишком инцестуозно-аристократический характер приобретает специализированное знание. Чтобы избежать этого, ученые должны быть достаточно близки к lay people, чтобы осознавать, с какими проблемами последние сталкиваются, на каком языке говорят и какую низовую экспертизу могут предложить ученым в ответ. Настоящая наука выдерживает баланс между автономией и сопроизводством.
Идея сопроизводства Эйяла ближе по духу Латуру, у которого ученый – скорее дипломат, нежели монах. Однако она дополняется более пристальным вниманием к особенностям социального знания, где есть не только сопротивление материальных вещей, но и сопротивление языка. В каком-то смысле Эйял строит мост между двумя главными соперниками во французской социологии знания. Если у вас спрашивают, мол, есть ли какие-то новые теоретические разработки, а то надоело классиков читать, то смело рекомендуйте не только Краузе, но вот и Эйяла.
Надо признать, что Эйял не без помощи своего посла, коллеги Жихаревича, уговорил меня если не принять его позицию, то признать силу этого подхода. К тому же статья Эйяла, где он на основе концепции сопроизводства исследует трансформацию экспертизы по диагностике аутистического спектра – это действительно мощнейший текст не только концептуально, но и эмпирически. Теперь во мне зреет новая претензия – одновременно эпистемологическая и политическая – в слишком осторожном центризме. Типа, и ученые молодцы, и простые граждане тоже вносят вклад; и автономия – неплохо, и сопроизводство тоже ок. А критический компонент тут будет, нет? Надо что-то с этим делать!
👍44👏4
Чуть-чуть припозднился и только сейчас дослушал выпуск «Базиса» про политизацию и аполитичность. Обычно я воняю у Александра Замятина в комментах. Мол, у политизации есть свои очевидные пределы. Но тут получился прям такой разговор, что мне почти нечего сказать против. Особенно про критику политических субкультур участники базируют. Кстати, если вам тоже понравился выпуск, то поддержите, пожалуйста, подкаст небольшой денежкой.
👍34
Forwarded from Это базис
После февраля 2022 года многим кажется, что всё политическое поле в России зачищено – кто-то покинул страну, кто-то ушёл во внутреннюю эмиграцию, кто-то посажен в тюрьмы. В такой атмосфере необходимо изучать и переосмыслять не только процесс прихода людей в политику, но и идти дальше – что вообще мы пониманием под политизацией?
Можно ли считать политизированным человека, который знает всех политических блогеро:к, но вне интернета не ведёт никакой коллективной политической практики? А если человек очень активен в публичном поле, но не заинтересован в «большой» политической повестке русскоязычного интернета? Нормальна ли ситуация, когда большинство людей не участвует политике – и что это говорит об обществе? И всё-таки – что такое реполитизация?
Отвечаем на эти и другие вопросы в новом выпуске подкаста «Это Базис»!
Слушайте на всех подкаст-платформах и смотрите на YouTube!
5536 9141 1446 34034276 4900 2159 4926Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22👎4
Наука гордая, но бедная
Благодаря помощи коллег до меня наконец-то доехала книга дипломата и эксперта по экономическому развитию Василия Солодовникова о его деятельности на посту директора Института Африки с 1964 по 1976 г. Она довольно странно написана. Воспоминаний как таковых там мало. В основном это просто слабо отредактированный пересказ отчетов директора партийным органам. Вот натурально человек пишет, что в таком-то году было защищено столько-то диссертаций, опубликовано столько-то сборников, в монографиях подняты совершенно новые темы... И такие формулы повторяются из главы в главу. Видимо, это издержки не только бюрократического стиля мышления, но и почтенного возраста.
Две любопытных стороны жизни большого академического начальника бросились в глаза. Во-первых, пост директора ИА предполагал множество встреч и мероприятий с иностранными партнерами. Кто-то лично приезжал в Москву и заруливал в институт, а к кому-то надо было лететь самому. Так, Солодовников встречался с Ахмедом бен Белла (!), Че Геварой (!!), императором Эфиопии (!!!)... Какой современный функционер от науки может на такое рассчитывать? Ну может только ректоры ВШЭ или МГУ. Но и то я сомневаюсь.
Во-вторых, Солодовников постоянно намекает, а иногда и открыто жалуется, что институту выделяют просто унизительно мало денег. Особенно по сравнению с аналогичными мозговыми центрами в США, Британии и Франции. Действительно, заграничные командировки для рядовых сотрудников, не говоря уже о длительных полевых экспедициях или архивных разысканиях, оплачивались слабо. Солодовников часто вспоминает, что просил профинансировать какую-то инициативу, а ему отказывали и отказывали.
Напрашивается вывод, что амбиции относительно присутствия в Третьем мире у СССР были колоссальные, если даже второстепенный представитель советской общественности так тепло принимался на столь высоком уровне. Но одновременно СССР просто не мог тягаться с западными державами в бюджетах. Скромным гуманитариям, которым, как известно из анекдота, даже ластик не нужен, отказывали в самом карандаше. И это в годы медового месяца СССР с дружественными социалистическими режимами, несмотря на все связи африканистов в дипломатических, силовых и партийных кругах. Приоритеты!
Благодаря помощи коллег до меня наконец-то доехала книга дипломата и эксперта по экономическому развитию Василия Солодовникова о его деятельности на посту директора Института Африки с 1964 по 1976 г. Она довольно странно написана. Воспоминаний как таковых там мало. В основном это просто слабо отредактированный пересказ отчетов директора партийным органам. Вот натурально человек пишет, что в таком-то году было защищено столько-то диссертаций, опубликовано столько-то сборников, в монографиях подняты совершенно новые темы... И такие формулы повторяются из главы в главу. Видимо, это издержки не только бюрократического стиля мышления, но и почтенного возраста.
Две любопытных стороны жизни большого академического начальника бросились в глаза. Во-первых, пост директора ИА предполагал множество встреч и мероприятий с иностранными партнерами. Кто-то лично приезжал в Москву и заруливал в институт, а к кому-то надо было лететь самому. Так, Солодовников встречался с Ахмедом бен Белла (!), Че Геварой (!!), императором Эфиопии (!!!)... Какой современный функционер от науки может на такое рассчитывать? Ну может только ректоры ВШЭ или МГУ. Но и то я сомневаюсь.
Во-вторых, Солодовников постоянно намекает, а иногда и открыто жалуется, что институту выделяют просто унизительно мало денег. Особенно по сравнению с аналогичными мозговыми центрами в США, Британии и Франции. Действительно, заграничные командировки для рядовых сотрудников, не говоря уже о длительных полевых экспедициях или архивных разысканиях, оплачивались слабо. Солодовников часто вспоминает, что просил профинансировать какую-то инициативу, а ему отказывали и отказывали.
Напрашивается вывод, что амбиции относительно присутствия в Третьем мире у СССР были колоссальные, если даже второстепенный представитель советской общественности так тепло принимался на столь высоком уровне. Но одновременно СССР просто не мог тягаться с западными державами в бюджетах. Скромным гуманитариям, которым, как известно из анекдота, даже ластик не нужен, отказывали в самом карандаше. И это в годы медового месяца СССР с дружественными социалистическими режимами, несмотря на все связи африканистов в дипломатических, силовых и партийных кругах. Приоритеты!
👍62
Обратная сторона Земли
Вот мы и приехали с женой в The Bay Area. Даже успели снять маленькую квартирку в центре Окленда. Впереди еще множество шагов по интеграции, но начало положено. Все благодаря коллегам и друзьям, кто передавал нас из рук в руки по всему маршруту Ереван–Белград–Нью-Йорк–Сан-Франциско. Без их помощи переезд вышел бы как одно безумие, а так получилось увлекательное и веселое путешествие со множеством воссоединений и знакомств.
Несколько странное, но при этом неожиданно приятное чувство находиться на другом конце планеты. Особенно смотреть в сторону волнующегося океана. Как будто вся прежняя жизнь осталась бесконечно далеко, а вода уносит все тревоги. Начал хорошо понимать людей, которые стремятся забраться еще дальше. Например, в Бразилию, как коллега Шерстобитов. Конечно, это чувство обособленного мирка ложное. От глобальных проблем в Окленде не скрыться. Тем не менее, это совершенно по-новому направляет мышление. Я вот внезапно стал куда меньше тосковать по родине, хотя на последние месяцы пришелся, возможно, пик сомнений по поводу всего плана переезда.
В ближайшее время буду дальше легализовываться и искать работу. Хотелось бы найти что-то в среднем образовании. Все чаще я задумываюсь о том, что академия – это не единственное место реализации. Может, если повезет найти что-то долгосрочное, то и не буду особо париться по поводу поступления. Пока же ничего еще не нашлось, собираюсь посещать мероприятия в Беркли, связанные с социологией знания и транснациональной историей холодной войны. Если наберусь новых идей для рисерча, то буду про них писать.
On a small world, west of wonder
Somewhere, nowhere all
There's a rainbow that will shimmer
When the summer falls
Вот мы и приехали с женой в The Bay Area. Даже успели снять маленькую квартирку в центре Окленда. Впереди еще множество шагов по интеграции, но начало положено. Все благодаря коллегам и друзьям, кто передавал нас из рук в руки по всему маршруту Ереван–Белград–Нью-Йорк–Сан-Франциско. Без их помощи переезд вышел бы как одно безумие, а так получилось увлекательное и веселое путешествие со множеством воссоединений и знакомств.
Несколько странное, но при этом неожиданно приятное чувство находиться на другом конце планеты. Особенно смотреть в сторону волнующегося океана. Как будто вся прежняя жизнь осталась бесконечно далеко, а вода уносит все тревоги. Начал хорошо понимать людей, которые стремятся забраться еще дальше. Например, в Бразилию, как коллега Шерстобитов. Конечно, это чувство обособленного мирка ложное. От глобальных проблем в Окленде не скрыться. Тем не менее, это совершенно по-новому направляет мышление. Я вот внезапно стал куда меньше тосковать по родине, хотя на последние месяцы пришелся, возможно, пик сомнений по поводу всего плана переезда.
В ближайшее время буду дальше легализовываться и искать работу. Хотелось бы найти что-то в среднем образовании. Все чаще я задумываюсь о том, что академия – это не единственное место реализации. Может, если повезет найти что-то долгосрочное, то и не буду особо париться по поводу поступления. Пока же ничего еще не нашлось, собираюсь посещать мероприятия в Беркли, связанные с социологией знания и транснациональной историей холодной войны. Если наберусь новых идей для рисерча, то буду про них писать.
On a small world, west of wonder
Somewhere, nowhere all
There's a rainbow that will shimmer
When the summer falls
👍151💅16👏8🤝3👎1👌1
Make the USSR International Again
Довольно широко известны факты о так называемом национал-большевистском повороте внутренней политики в позднесталинском СССР: борьба с космополитизмом, послабления для РПЦ, возвращение дореволюционных символов в массовую культуру и т. п. Почти все из этого, например, суммированно в книге Дэвида Бранденбергера. Почему-то в меньшей степени обсуждаются крайне схожие тенденции во внешней политике конца 1940-х–начала 1950-х гг.
Ялтинско-потсдамское видение Сталина предполагало, что условия для революции пока не созрели даже на Западе. Третий мир же вообще не мыслился в качестве плацдарма борьбы за социализм. Считалось, что страны Азии и Африки застряли где-то между разлагающимся автохтонным феодализмом и неустойчивым капитализмом, завезенным европейцами. Следовательно, организованных рабочих партий, с которыми ВКП(б) могла бы сотрудничать на равных, там нет и быть не может, а пока нужно ситуативно блокироваться то с одними, то с другими фракциями буржуазии. Молотов на одном из заседаний сформулировал это так: «Если нельзя наступать, будем ждать».
Этот осторожный реализм приводил к парадоксальным союзам. Например, в Иране СССР отверг местных коммунистов и вместо этого наладил связи с националистами. Именно последние виделись наиболее действенным противовесом гадящей англичанке. Одновременно победа Мао в Китае обернулась для советского руководства неприятным сюрпризом, ведь оно уже успело заключить договор о признании и дружбе с Гоминьданом. В планах было разделить Восточную Азию на зоны влияния с американцами, а тут такая подстава от китайских братьев.
В свете этого понятно, почему востоковедение сталинского периода было сосредоточено почти исключительно на проблемах античной и средневековой истории. Если никакой актуальной пролетарской политики в отсталых от Запада странах нет, то можно поспорить о соотношении рабовладения или крепостничества в VIII веке н. э., но не более того.
Хрущев, Микоян, Шепилов, Косыгин и другие оттепельные аппаратчики вернули советской внешней политике интернациональное и революционное измерения. Очень часто помимо своей воли, реактивно реагируя на стремительный коллапс старых европейских империй. Коммунистические партии по типу вьетнамской снова стали получать поддержку, даже если по сути представляли крестьянство. Арабские и африканские националисты, желавшие включить в свои программу элементы социалистического строительства, тоже приходились ко двору. Этой новой доктрине недоставало сталинских выверенности и единства, но импровизация только добавляла действенности.
Главной проблемой такого тесного сотрудничества с антиколониальными лидерами Третьего мира стал острейший дефицит переводчиков. Не говоря уже о дипломатах, советниках и референтах. Вот именно в этом контексте молодые обществоведы и гуманитарии, интересовавшиеся Востоком, внезапно стали ценнейшим активом партии. Советское востоковедение пережило второе рождение.
Довольно широко известны факты о так называемом национал-большевистском повороте внутренней политики в позднесталинском СССР: борьба с космополитизмом, послабления для РПЦ, возвращение дореволюционных символов в массовую культуру и т. п. Почти все из этого, например, суммированно в книге Дэвида Бранденбергера. Почему-то в меньшей степени обсуждаются крайне схожие тенденции во внешней политике конца 1940-х–начала 1950-х гг.
Ялтинско-потсдамское видение Сталина предполагало, что условия для революции пока не созрели даже на Западе. Третий мир же вообще не мыслился в качестве плацдарма борьбы за социализм. Считалось, что страны Азии и Африки застряли где-то между разлагающимся автохтонным феодализмом и неустойчивым капитализмом, завезенным европейцами. Следовательно, организованных рабочих партий, с которыми ВКП(б) могла бы сотрудничать на равных, там нет и быть не может, а пока нужно ситуативно блокироваться то с одними, то с другими фракциями буржуазии. Молотов на одном из заседаний сформулировал это так: «Если нельзя наступать, будем ждать».
Этот осторожный реализм приводил к парадоксальным союзам. Например, в Иране СССР отверг местных коммунистов и вместо этого наладил связи с националистами. Именно последние виделись наиболее действенным противовесом гадящей англичанке. Одновременно победа Мао в Китае обернулась для советского руководства неприятным сюрпризом, ведь оно уже успело заключить договор о признании и дружбе с Гоминьданом. В планах было разделить Восточную Азию на зоны влияния с американцами, а тут такая подстава от китайских братьев.
В свете этого понятно, почему востоковедение сталинского периода было сосредоточено почти исключительно на проблемах античной и средневековой истории. Если никакой актуальной пролетарской политики в отсталых от Запада странах нет, то можно поспорить о соотношении рабовладения или крепостничества в VIII веке н. э., но не более того.
Хрущев, Микоян, Шепилов, Косыгин и другие оттепельные аппаратчики вернули советской внешней политике интернациональное и революционное измерения. Очень часто помимо своей воли, реактивно реагируя на стремительный коллапс старых европейских империй. Коммунистические партии по типу вьетнамской снова стали получать поддержку, даже если по сути представляли крестьянство. Арабские и африканские националисты, желавшие включить в свои программу элементы социалистического строительства, тоже приходились ко двору. Этой новой доктрине недоставало сталинских выверенности и единства, но импровизация только добавляла действенности.
Главной проблемой такого тесного сотрудничества с антиколониальными лидерами Третьего мира стал острейший дефицит переводчиков. Не говоря уже о дипломатах, советниках и референтах. Вот именно в этом контексте молодые обществоведы и гуманитарии, интересовавшиеся Востоком, внезапно стали ценнейшим активом партии. Советское востоковедение пережило второе рождение.
👍72✍4👏3🖕1🤝1
Национальное непризнание
Как прошлогодний курс про академическое чтение, так и нынешний про академическое письмо я старался наполнить перспективой социологии знания. Думаю, всем, кто пишет тексты, не повредит осознание коллективных структур, направляющих их письмо: когнитивных, экономических, политических. В этом преподавателям и слушателям помогло замечательное статья Елены Гаповой про разделение постсоветской академии на прозападную и национально ориентированную. Мы оттачивали на нем реферирование, писали автору в ответ свое эссе – в общем, чего только ни делали.
Дихотомия Гаповой напоминает оппозицию туземности/провинциальности у Михаила Соколова и Кирилла Титаева, но больше фокусируется не на коммуникации, а на распределении благ. Для Гаповой вопрос несогласия между академиками не только в том, кого они считают своей аудиторией, а в том, откуда берутся деньги на их содержание, и какая власть легитимизирует их работы. Отсутствие консенсуса между западниками и почвенниками – это вопрос социальной стратификации постсоциалистических обществ. Собственно, Гапова приняла участие в форуме, посвященном выходе статьи Соколова и Титаева. Можно прочитать о разнице позиций из первых рук.
Особенно мощный тейк статьи для меня в том, что несмотря на более свободное и профессиональное обращение со знанием, западники остались, по сути, узкой прослойкой элитистов. Их стратегией был гейткипинг достижений зарубежной академии и заодно потоков грантов оттуда. Это не помогало в борьбе с соперничающим классом исследователей и преподавателей из государственных вузов и институтов, а только мешало закрепиться на новой почве. Никому за пределами их узкого круга до них не было дела.
Другое сильное и горестное наблюдение касается очень ранних репрессий по отношению к прозападным ученым в Беларуси. Центр гендерных исследований, который Гапова основала в минском ЕГУ, был вынужден был еще в 2005 году перебраться в Вильнюс вслед за гонимым университетом. Сама же социолог через некоторое время переехала в США. Сейчас это все читается как предостережение российским исследователям, которые в 2011 (год написания) не хотели ничего знать про то, что происходит в соседней стране. А если знали, то вряд ли примеряли на себя. Оказалось, очень зря.
Как прошлогодний курс про академическое чтение, так и нынешний про академическое письмо я старался наполнить перспективой социологии знания. Думаю, всем, кто пишет тексты, не повредит осознание коллективных структур, направляющих их письмо: когнитивных, экономических, политических. В этом преподавателям и слушателям помогло замечательное статья Елены Гаповой про разделение постсоветской академии на прозападную и национально ориентированную. Мы оттачивали на нем реферирование, писали автору в ответ свое эссе – в общем, чего только ни делали.
Дихотомия Гаповой напоминает оппозицию туземности/провинциальности у Михаила Соколова и Кирилла Титаева, но больше фокусируется не на коммуникации, а на распределении благ. Для Гаповой вопрос несогласия между академиками не только в том, кого они считают своей аудиторией, а в том, откуда берутся деньги на их содержание, и какая власть легитимизирует их работы. Отсутствие консенсуса между западниками и почвенниками – это вопрос социальной стратификации постсоциалистических обществ. Собственно, Гапова приняла участие в форуме, посвященном выходе статьи Соколова и Титаева. Можно прочитать о разнице позиций из первых рук.
Особенно мощный тейк статьи для меня в том, что несмотря на более свободное и профессиональное обращение со знанием, западники остались, по сути, узкой прослойкой элитистов. Их стратегией был гейткипинг достижений зарубежной академии и заодно потоков грантов оттуда. Это не помогало в борьбе с соперничающим классом исследователей и преподавателей из государственных вузов и институтов, а только мешало закрепиться на новой почве. Никому за пределами их узкого круга до них не было дела.
Другое сильное и горестное наблюдение касается очень ранних репрессий по отношению к прозападным ученым в Беларуси. Центр гендерных исследований, который Гапова основала в минском ЕГУ, был вынужден был еще в 2005 году перебраться в Вильнюс вслед за гонимым университетом. Сама же социолог через некоторое время переехала в США. Сейчас это все читается как предостережение российским исследователям, которые в 2011 (год написания) не хотели ничего знать про то, что происходит в соседней стране. А если знали, то вряд ли примеряли на себя. Оказалось, очень зря.
👍60👏4✍2