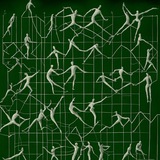Мы с легендарной Лихининой запускаем сиквел онлайн-курса прошлого года! На этот раз будем тренировать академическое письмо. Будет много практических заданий, инсайтов из социологии знания и душевного общения после занятий.
Желающие забронировать платное место могут писать @theghostagainstthemachine, представившись и рассказав пару слов о себе в качестве знакомства. Участникам конкурса на бюджетные места необходимо кидать свои письма на гугл-форму. Ждем вас!
Желающие забронировать платное место могут писать @theghostagainstthemachine, представившись и рассказав пару слов о себе в качестве знакомства. Участникам конкурса на бюджетные места необходимо кидать свои письма на гугл-форму. Ждем вас!
👍64👏16🤝2🙏1
Историческая память гегемона
Давненько на канале не было обзоров на документалистику. Сейчас смотрю сериал CNN «Холодная война» 1998 года. У нас его показывали еще на догазпромовском НТВ, когда я был совсем маленький. Почему-то особенно врезалась серия про строительство Берлинской стены, хотя я тогда с трудом понимал смысл. Как оказалось, у той дублированной версии не очень качественный перевод, так что рекомендую смотреть в оригинале. Тем более, что закадровый текст читает сам Златопуст Локонс. Пока впечатления от сериала следующие (я на 10 серии из 24).
Во-первых, прекрасный подбор и монтаж архивных съемок. Просто визуальная сказка. Во-вторых, старомодный саундтрек с драматическими и иногда даже лирическими струнными. В-третьих, люди из интервью – не просто говорящие головы, а полноценные участники и характеры. Им по полной дают раскрыться в кадре. Вот итальянский коммунист не может удержаться от слез, рассказывая о проигранных выборах 1948 года; а вот советский офицер ПВО с юношеским задором вспоминает, каким успехом увенчалась долгая охота на U2. Mesmerizing.
Минусов у сериала тоже хватает. Съемки происходили в эпоху, когда победа США казалась не только окончательной, но и абсолютно морально обоснованной. Справедливости ради, создатели пытаются соблюсти баланс, признавая преступления армии и ЦРУ, но все равно все сводится к сентиментальному «Боже, храни Америку!» Иногда проскакивает вообще кринж вроде прямой речи пожилого греческого крестьянина, который горячо благодарит правительство США за гуманитарную помощь в виде… породистых мулов. Момент выглядит максимально натянутым и постановочным. Я не удивлюсь, что перед нами вообще нанятый актер, так как все настоящие греки послали съемочную группу, помятуя о событиях гражданской войны совсем с другого ракурса.
Другой минус из этой же категории: европоцентризм. Как будто холодная война – это только НАТО и ОВД в их битве за Берлин, Афины и Варшаву. Юго-Восточной Азии еще как-то удается пролезть в кадр, но остальных частей света как будто не существует. Даже Ближний Восток удостаивается минимального внимания, хотя казалось бы… Короче, если ваша цель, как и моя, разобраться в событиях постколониального мира, то поищите что-то другое. К счастью, в современных популярных американских книжках про холодную войну используется по-настоящему глобальный подход. Может, и до документального телевидения эта тенденция когда-нибудь дойдет.
Давненько на канале не было обзоров на документалистику. Сейчас смотрю сериал CNN «Холодная война» 1998 года. У нас его показывали еще на догазпромовском НТВ, когда я был совсем маленький. Почему-то особенно врезалась серия про строительство Берлинской стены, хотя я тогда с трудом понимал смысл. Как оказалось, у той дублированной версии не очень качественный перевод, так что рекомендую смотреть в оригинале. Тем более, что закадровый текст читает сам Златопуст Локонс. Пока впечатления от сериала следующие (я на 10 серии из 24).
Во-первых, прекрасный подбор и монтаж архивных съемок. Просто визуальная сказка. Во-вторых, старомодный саундтрек с драматическими и иногда даже лирическими струнными. В-третьих, люди из интервью – не просто говорящие головы, а полноценные участники и характеры. Им по полной дают раскрыться в кадре. Вот итальянский коммунист не может удержаться от слез, рассказывая о проигранных выборах 1948 года; а вот советский офицер ПВО с юношеским задором вспоминает, каким успехом увенчалась долгая охота на U2. Mesmerizing.
Минусов у сериала тоже хватает. Съемки происходили в эпоху, когда победа США казалась не только окончательной, но и абсолютно морально обоснованной. Справедливости ради, создатели пытаются соблюсти баланс, признавая преступления армии и ЦРУ, но все равно все сводится к сентиментальному «Боже, храни Америку!» Иногда проскакивает вообще кринж вроде прямой речи пожилого греческого крестьянина, который горячо благодарит правительство США за гуманитарную помощь в виде… породистых мулов. Момент выглядит максимально натянутым и постановочным. Я не удивлюсь, что перед нами вообще нанятый актер, так как все настоящие греки послали съемочную группу, помятуя о событиях гражданской войны совсем с другого ракурса.
Другой минус из этой же категории: европоцентризм. Как будто холодная война – это только НАТО и ОВД в их битве за Берлин, Афины и Варшаву. Юго-Восточной Азии еще как-то удается пролезть в кадр, но остальных частей света как будто не существует. Даже Ближний Восток удостаивается минимального внимания, хотя казалось бы… Короче, если ваша цель, как и моя, разобраться в событиях постколониального мира, то поищите что-то другое. К счастью, в современных популярных американских книжках про холодную войну используется по-настоящему глобальный подход. Может, и до документального телевидения эта тенденция когда-нибудь дойдет.
👍39👌4💅3
Как раз недавно перечитывал фрагменты из Юрчака и осознал, что оверхайп после выхода книги помешал оценить некоторые ее довольно тонкие поинты. Единственный тезис, с которым я точно не согласен, – это тезис о смерти Сталина как потере хозяина дискурса. Мол, после этого идеология катилась куда-то по инерции. Напротив, смерть вождя вовлекла в борьбу за официальный дискурс огромное количество новых игроков. Востоковеды, например, очень активно занимались переопределением внешней политики, как и многие другие эксперты и аппаратчики. Подобной дискурсивной монополии, какая была у Сталина, разумеется, никто не достиг, но это уже другая история.
👍39✍2🤝1
Forwarded from Events and texts
От идеи общего блага — через негативную свободу — к цинизму
В Moscow Art Magazine - замечательный диалог Алексея Юрчака и Ильи Будрайтскиса. Несколько реплик А.Ю.:
Советские люди могли одновременно критиковать государственную номенклатуру и продолжать относиться серьезно ко многим этическим нормам социалистического общества. Многие их них не воспринимались как социалистические — они были просто частью здравого смысла. А «социалистическими» они стали выглядеть уже ретроспективно, через призму перестроечной критики, постсоветских рыночных реформ и либеральной идеологии.
В советское время окружающая реальность была проникнута само собой разумеющейся идеей: человек живет не только ради себя или своих близких, но и для некоего общего блага. Хотя для многих в советское время идея «социализма» с его заявленными идеологическими целями представлялась смехотворной, да и само слово «социализм» для большинства было запятнано номенклатурной речью, тем не менее идея, что смысл жизни связан с общим благом и лучшим будущим, оставалась важной основой нравственной ткани общества.
В период распада СССР и последовавших за ним преобразований поменялись не просто законы, цены или институты государства, но и то, что антропологи называют «космологией» мирового устройства — набор базовых видов здравого смысла, ориентиров, отношений и понятий, включающих восприятие времени и пространства, отношение с окружающими, способы саморефлексии, понимание того, что является ценностью человеческой жизни, и т.д.
История реально существовавшего советского общества оказалась вытеснена постсоветским нарративом о циничном homo soveticus. В действительности советское общество было намного более сложным; его базовые этические ценности нельзя свести к повсеместному цинизму или идиотизму, характерным для карикатурного homo soveticus и карикатурных райкомовских секретарей.
«Карьерист» или человек, для которого материальные блага стояли на первом месте, большинством не ощущался как «свой». Понимание свободы для подавляющего большинства не было напрямую связано с личным интересом, «здоровым эгоизмом», стремлением к экономической независимости. Это касалось как «обычных» людей, так и диссидентов.
Вместе с тем реформы государственной экономики в 1980-е годы — хозрасчеты, кооперативы, индивидуальная трудовая деятельность — начали подготавливать почву для совсем другого понимания свободы — свободы от ответственности за других и от ощущения долга перед окружающими. При демонтаже Советского Союза именно эта идея свободы — свободы от ответственности за других – начала доминировать в публичном дискурсе. Ее представляли как «естественную» черту человека, которую просто задавили в советское время.
Девяностые годы для огромного количества людей стали годами моральной и личностной ломки. В кризисе оказалось то, что для многих являлось базовой этической ценностью и что имело прямое отношение к тому, как человек воспринимал «смысл жизни». Например, ощущение того, что мы все ответственны перед окружающими и перед будущим [...], вдруг оказалось чем-то наивным, признаком незрелости, тяжелым наследием патерналистского государства, в котором люди забыли, что за свою судьбу каждый должен нести сугубо личную ответственность, и что в жизни всегда будут победившие и проигравшие. По крайней мере, так это описывал пришедший к власти либеральный дискурс.
Социалистическая идея поменялась на прямо противоположную, согласно которой единственный способ быть «свободным» — это никак не зависеть от других и не быть им ничем обязанным. Такое понимание личной свободы наложилось на идеи изменения социально-экономической структуры общества, [...] ведь главным философским основанием неолиберализма является идея общества как совокупности индивидуумов, каждый из которых ответственен только за себя.
Результатом первого постсоветского десятилетия, или способом совладать с травмой перехода от советского общества, стала нормализация циничного отношения к любому высказыванию и к истине как таковой.
В Moscow Art Magazine - замечательный диалог Алексея Юрчака и Ильи Будрайтскиса. Несколько реплик А.Ю.:
Советские люди могли одновременно критиковать государственную номенклатуру и продолжать относиться серьезно ко многим этическим нормам социалистического общества. Многие их них не воспринимались как социалистические — они были просто частью здравого смысла. А «социалистическими» они стали выглядеть уже ретроспективно, через призму перестроечной критики, постсоветских рыночных реформ и либеральной идеологии.
В советское время окружающая реальность была проникнута само собой разумеющейся идеей: человек живет не только ради себя или своих близких, но и для некоего общего блага. Хотя для многих в советское время идея «социализма» с его заявленными идеологическими целями представлялась смехотворной, да и само слово «социализм» для большинства было запятнано номенклатурной речью, тем не менее идея, что смысл жизни связан с общим благом и лучшим будущим, оставалась важной основой нравственной ткани общества.
В период распада СССР и последовавших за ним преобразований поменялись не просто законы, цены или институты государства, но и то, что антропологи называют «космологией» мирового устройства — набор базовых видов здравого смысла, ориентиров, отношений и понятий, включающих восприятие времени и пространства, отношение с окружающими, способы саморефлексии, понимание того, что является ценностью человеческой жизни, и т.д.
История реально существовавшего советского общества оказалась вытеснена постсоветским нарративом о циничном homo soveticus. В действительности советское общество было намного более сложным; его базовые этические ценности нельзя свести к повсеместному цинизму или идиотизму, характерным для карикатурного homo soveticus и карикатурных райкомовских секретарей.
«Карьерист» или человек, для которого материальные блага стояли на первом месте, большинством не ощущался как «свой». Понимание свободы для подавляющего большинства не было напрямую связано с личным интересом, «здоровым эгоизмом», стремлением к экономической независимости. Это касалось как «обычных» людей, так и диссидентов.
Вместе с тем реформы государственной экономики в 1980-е годы — хозрасчеты, кооперативы, индивидуальная трудовая деятельность — начали подготавливать почву для совсем другого понимания свободы — свободы от ответственности за других и от ощущения долга перед окружающими. При демонтаже Советского Союза именно эта идея свободы — свободы от ответственности за других – начала доминировать в публичном дискурсе. Ее представляли как «естественную» черту человека, которую просто задавили в советское время.
Девяностые годы для огромного количества людей стали годами моральной и личностной ломки. В кризисе оказалось то, что для многих являлось базовой этической ценностью и что имело прямое отношение к тому, как человек воспринимал «смысл жизни». Например, ощущение того, что мы все ответственны перед окружающими и перед будущим [...], вдруг оказалось чем-то наивным, признаком незрелости, тяжелым наследием патерналистского государства, в котором люди забыли, что за свою судьбу каждый должен нести сугубо личную ответственность
Социалистическая идея поменялась на прямо противоположную, согласно которой единственный способ быть «свободным» — это никак не зависеть от других и не быть им ничем обязанным. Такое понимание личной свободы наложилось на идеи изменения социально-экономической структуры общества, [...] ведь главным философским основанием неолиберализма является идея общества как совокупности индивидуумов, каждый из которых ответственен только за себя.
Результатом первого постсоветского десятилетия, или способом совладать с травмой перехода от советского общества, стала нормализация циничного отношения к любому высказыванию и к истине как таковой.
ХЖ - Художественный журнал
В перспективе критического наблюдателя
В советское время окружающая реальность была проникнута некой важной само собой разумеющейся идеей, которая заключалась в том, что человек живет не только ради себя или своих близких, но и для некоего общего блага. Хотя для многих в советское время идея «социализма»…
👍54👏5🙏2👎1👌1🖕1
На обломках мир-системы
2094 год. В результате терминального кризиса капиталистической мир-системы, сопровождаемого климатической катастрофой и неконтролируемыми волнами миграции, на планете Земля набирает популярность новая мировая религия – христианский атеизм, проповедуемый легендарным философом Сюткиным. Адепты Сюткина получают контроль над ООН и преобразуют его в Мировую федерацию. Казалось бы, коммунизм побеждает, война против всех войн завершена, человечество накормлено веганской едой и обязательной курсами диалектики. Наконец-то социология и другие позитивные науки о человеке официально объявлены реакционным учением…
Увы, престарелый Сюткин уходит из этого мира в процессе голосования по Всемирной конституции. Центральный конклав христианских атеистов не соглашается между собой насчет интерпретации сюткианского синтеза. Всемирная федерация раскалывается на два конфессиональных мегагосударства: Поливразию с культом Жижека и Союз коммунистов севера, где почитают Бадью. Сопротивляются единому всепобеждающему учению лишь немногочисленные анархистские делезианские сети. Впрочем, это все происходит только в виртуальной реальности без каких-либо политических последствий. Единственным пространством настоящего политического язычества остается Луна, где баррикадируются недобитые акселерационисты разных уклонов.
Борясь с единством учения, молодые критические философы по всему миру читают Сюткина в оригинале, обмениваясь файлами его неизданных голосовух, постов и комментариев. Ходят слухи, что в молодости он дружил с неокантианцем Герасимовым и увлекался признанным ныне реакционным пост-роком. Толпы энтузистов возлагают цветы к Мавзолею в Мурино, но поливразийские полицейские раз за разом насильственно зачищают площадь. Предыстория человечества, возможно, закончилась, но начинается его история…
Спасибо, что дочитали этот бред до конца. Я что-то переупотребил статей про раскол Китая и СССР и их политику в постколониальной Африке. Так что решил сублимировать это все в фан-фикшн. Всем хорошего вечера и спокойного сна!
2094 год. В результате терминального кризиса капиталистической мир-системы, сопровождаемого климатической катастрофой и неконтролируемыми волнами миграции, на планете Земля набирает популярность новая мировая религия – христианский атеизм, проповедуемый легендарным философом Сюткиным. Адепты Сюткина получают контроль над ООН и преобразуют его в Мировую федерацию. Казалось бы, коммунизм побеждает, война против всех войн завершена, человечество накормлено веганской едой и обязательной курсами диалектики. Наконец-то социология и другие позитивные науки о человеке официально объявлены реакционным учением…
Увы, престарелый Сюткин уходит из этого мира в процессе голосования по Всемирной конституции. Центральный конклав христианских атеистов не соглашается между собой насчет интерпретации сюткианского синтеза. Всемирная федерация раскалывается на два конфессиональных мегагосударства: Поливразию с культом Жижека и Союз коммунистов севера, где почитают Бадью. Сопротивляются единому всепобеждающему учению лишь немногочисленные анархистские делезианские сети. Впрочем, это все происходит только в виртуальной реальности без каких-либо политических последствий. Единственным пространством настоящего политического язычества остается Луна, где баррикадируются недобитые акселерационисты разных уклонов.
Борясь с единством учения, молодые критические философы по всему миру читают Сюткина в оригинале, обмениваясь файлами его неизданных голосовух, постов и комментариев. Ходят слухи, что в молодости он дружил с неокантианцем Герасимовым и увлекался признанным ныне реакционным пост-роком. Толпы энтузистов возлагают цветы к Мавзолею в Мурино, но поливразийские полицейские раз за разом насильственно зачищают площадь. Предыстория человечества, возможно, закончилась, но начинается его история…
Спасибо, что дочитали этот бред до конца. Я что-то переупотребил статей про раскол Китая и СССР и их политику в постколониальной Африке. Так что решил сублимировать это все в фан-фикшн. Всем хорошего вечера и спокойного сна!
👍49👏19💅9✍7🙏4🖕3👌1
Писать как историк
Постепенно приближается новый цикл подач документов в аспирантуры. Это значит, что пора возвращаться к взлому кода поступления. Решил, что осенью буду подаваться не только на социологию, но и на историю. Кажется, что историкам куда легче объяснить важность сюжета о востоковедческой экспертизе эпох холодной войны и деколонизации. Вот начал читать самые разные заявки, авторы которых успешно куда-то поступили. Опять бросились в глаза содержательные и стилевые различия между двумя дисциплинами. Надеюсь, мы подробнее еще обсудим их на нашем курсе, а пока напишу основное, что сразу приходит в голову.
Частым заблуждением является то, что социологи мыслят обобщениями, а историки – частностями. Скорее, надо говорить, что историки любят не частности, а конкретную привязку темы и проблемы к определенным датам и регионам. Долгий 1968 год – это весьма общий концепт. В него влезает миллиарды единичных фактов. Холодная война – еще более общий. Триллионы фактов, но объединенных одним понятием.
В свою очередь, социологи – особенно качественники – не избегают частных наблюдений за сообществами. Но их оптика и вытекающий из нее исследовательский вопрос куда чаще основывается на более абстрактной отсылке к одной из сфер деятельности, вокруг которых строятся субдисциплинарные отрасли (социология науки, социология организаций, социология социальных движений, etc.). Два социолога науки легко могут обсуждать темы друг друга, даже если те отделены километрами и декадами. Историкам делать это заметно труднее. Зато историк внешней политики легко поймет историка культуры при условии, что оба занимаются Оттепелью в СССР.
Риторические различия в написании заявок тоже важны. Социологи пишут лаконичнее и строже. Их стейтменты – это стейтменты социальных ученых с упором слово «ученых». Обязательно необходимо перечислить актуальность, исследовательский вопрос, гипотезу… Все как у политологов или даже экономистов. Историки, напротив, не стесняются того, что они гуманитарии. Можно ввинтить исторический анекдот, личную историю или привести какой-то афоризм. Можно даже сделать эпиграф. Вот легендарная Лихинина в прошлом году процитировала Токвиля. Это вполне нормально. А гипотеза? Какая еще гипотеза?
Постепенно приближается новый цикл подач документов в аспирантуры. Это значит, что пора возвращаться к взлому кода поступления. Решил, что осенью буду подаваться не только на социологию, но и на историю. Кажется, что историкам куда легче объяснить важность сюжета о востоковедческой экспертизе эпох холодной войны и деколонизации. Вот начал читать самые разные заявки, авторы которых успешно куда-то поступили. Опять бросились в глаза содержательные и стилевые различия между двумя дисциплинами. Надеюсь, мы подробнее еще обсудим их на нашем курсе, а пока напишу основное, что сразу приходит в голову.
Частым заблуждением является то, что социологи мыслят обобщениями, а историки – частностями. Скорее, надо говорить, что историки любят не частности, а конкретную привязку темы и проблемы к определенным датам и регионам. Долгий 1968 год – это весьма общий концепт. В него влезает миллиарды единичных фактов. Холодная война – еще более общий. Триллионы фактов, но объединенных одним понятием.
В свою очередь, социологи – особенно качественники – не избегают частных наблюдений за сообществами. Но их оптика и вытекающий из нее исследовательский вопрос куда чаще основывается на более абстрактной отсылке к одной из сфер деятельности, вокруг которых строятся субдисциплинарные отрасли (социология науки, социология организаций, социология социальных движений, etc.). Два социолога науки легко могут обсуждать темы друг друга, даже если те отделены километрами и декадами. Историкам делать это заметно труднее. Зато историк внешней политики легко поймет историка культуры при условии, что оба занимаются Оттепелью в СССР.
Риторические различия в написании заявок тоже важны. Социологи пишут лаконичнее и строже. Их стейтменты – это стейтменты социальных ученых с упором слово «ученых». Обязательно необходимо перечислить актуальность, исследовательский вопрос, гипотезу… Все как у политологов или даже экономистов. Историки, напротив, не стесняются того, что они гуманитарии. Можно ввинтить исторический анекдот, личную историю или привести какой-то афоризм. Можно даже сделать эпиграф. Вот легендарная Лихинина в прошлом году процитировала Токвиля. Это вполне нормально. А гипотеза? Какая еще гипотеза?
👍58✍13👏10🤝1
Отыскал великолепную статью о Георгии Мирском – востоковеде-экономисте, который обосновывал советскую помощь режиму Насера спонтанно социалистическим характером египетского военного класса. Конечно, с одной стороны, это было довольно консервативное обновление марксистко-ленинской доктрины. С другой, в центре такого неожиданного возвышения армии советскими интеллектуалами скрывалась не любовь к сильной руке, а как раз напротив: страх перед массовыми репрессиями и вера в масштабные инфрастуруктурные проекты в постколониальном мире без насильственной коллективизации.
👍18👏2
Forwarded from Парнасский пересмешник (Александр Радаев)
Плакат, посвященный египетско-советской дружбе, в память о строительстве Асуанской плотины
👍35💅6👌5🖕3
К прикладному глобализму?
Теория поля науки в поле власти Пьера Бурдье за последние годы часто подвергалась дружественной критике. Из наследия Бурдье черпают хорошо знакомые идеи, но в то же время допиливают и докручивают, исходя из потребностей нового материала. Две группы социологов социальных наук и социального знания особенно далеко продвинулись в сочетании старого и нового. Попробуем разобраться в их взглядах.
Первая группа – глобалисты – пришла в основном из исторической и сравнительной социологии. Сюда можно отнести Джорджа Стайнмитца, Йохана Хайлброна, Стефани Мадж, Монику Краузе. Для них изначальная концепция поля Бурдье проблематична, так как несет в себе т. н. методологический национализм. Мол, молчаливо подразумевается, что одно поле – одна страна. Глобалисты замечают, что научные поля самыми разными способами пересекают границы национальных государств. Некоторые совпадают с границами больших империй. Другие – с границами расселения носителей одного языка (допустим, испанского или китайского). Третьи вообще простираются по всей мир-системе. Выходом для глобалистов является не просто изучение подобных транснациональных полей, но и принятие их в качестве базовой модели социальных полей вообще.
Вторая группа – прикладники – в своей критике исходит из достижений STS и социологии профессий. Главные имена здесь: Гил Эяль, Ракеш Курана, Томас Медвец и снова Стефани Мадж, и снова Моника Краузе. Главная претензия прикладников к Бурдье в том, что тот изображает автономный полюс поля в виде носителей абстрактного теоретического знания. Идеал Бурдье – математика, царица наук. Прикладники демонстрируют, что огромные массивы знания о человеке существует не в форме фундаментальных университетских дисциплин, а в форме прикладной экспертизы: экономической, управленческой, юридической. Ее носители не хотят, да и не могут бороться за автономию по Бурдье. Однако это не значит, что эти специалисты – рабы поля власти. Пожалуй, в их случае надо говорить об автономии не как о дистанцировании от обыденной доксы, а как об ансамбле когнитивных навыков, где есть и ситуативные, и универсальные составные части.
Прикольно, что мой материал пока отлично вписывается в поинты обеих групп необурдьевистов. Советское востоковедение – это область знаний империи положительной деятельности. Там подвизались и работники московских НИИ, и преподаватели университетов в союзных республиках, и сочувствующие советскому проекту интеллектуалы из дружественных стран, и советские консультанты в этих же странах, и международники из ЦК, и гэбисты... В то же самое время сила востоковедческой относительной автономии заключалась как раз в нестандартном пакете умений своих представителей: говорить на редких иностранных языках; знать литературу как братских народов, так и империалистических; завязывать знакомства на земле, неформально представлять СССР за рубежом в качестве общественников и т. п. Важно подчеркнуть, что обе эти черты взаимосвязаны: без транснационального нет автономного, и наоборот. Правда, пока я далек от выдвижения конкретных гипотез о причинно-следственных связях. От всех этих entanglements пока просто плавятся мозги.
Теория поля науки в поле власти Пьера Бурдье за последние годы часто подвергалась дружественной критике. Из наследия Бурдье черпают хорошо знакомые идеи, но в то же время допиливают и докручивают, исходя из потребностей нового материала. Две группы социологов социальных наук и социального знания особенно далеко продвинулись в сочетании старого и нового. Попробуем разобраться в их взглядах.
Первая группа – глобалисты – пришла в основном из исторической и сравнительной социологии. Сюда можно отнести Джорджа Стайнмитца, Йохана Хайлброна, Стефани Мадж, Монику Краузе. Для них изначальная концепция поля Бурдье проблематична, так как несет в себе т. н. методологический национализм. Мол, молчаливо подразумевается, что одно поле – одна страна. Глобалисты замечают, что научные поля самыми разными способами пересекают границы национальных государств. Некоторые совпадают с границами больших империй. Другие – с границами расселения носителей одного языка (допустим, испанского или китайского). Третьи вообще простираются по всей мир-системе. Выходом для глобалистов является не просто изучение подобных транснациональных полей, но и принятие их в качестве базовой модели социальных полей вообще.
Вторая группа – прикладники – в своей критике исходит из достижений STS и социологии профессий. Главные имена здесь: Гил Эяль, Ракеш Курана, Томас Медвец и снова Стефани Мадж, и снова Моника Краузе. Главная претензия прикладников к Бурдье в том, что тот изображает автономный полюс поля в виде носителей абстрактного теоретического знания. Идеал Бурдье – математика, царица наук. Прикладники демонстрируют, что огромные массивы знания о человеке существует не в форме фундаментальных университетских дисциплин, а в форме прикладной экспертизы: экономической, управленческой, юридической. Ее носители не хотят, да и не могут бороться за автономию по Бурдье. Однако это не значит, что эти специалисты – рабы поля власти. Пожалуй, в их случае надо говорить об автономии не как о дистанцировании от обыденной доксы, а как об ансамбле когнитивных навыков, где есть и ситуативные, и универсальные составные части.
Прикольно, что мой материал пока отлично вписывается в поинты обеих групп необурдьевистов. Советское востоковедение – это область знаний империи положительной деятельности. Там подвизались и работники московских НИИ, и преподаватели университетов в союзных республиках, и сочувствующие советскому проекту интеллектуалы из дружественных стран, и советские консультанты в этих же странах, и международники из ЦК, и гэбисты... В то же самое время сила востоковедческой относительной автономии заключалась как раз в нестандартном пакете умений своих представителей: говорить на редких иностранных языках; знать литературу как братских народов, так и империалистических; завязывать знакомства на земле, неформально представлять СССР за рубежом в качестве общественников и т. п. Важно подчеркнуть, что обе эти черты взаимосвязаны: без транснационального нет автономного, и наоборот. Правда, пока я далек от выдвижения конкретных гипотез о причинно-следственных связях. От всех этих entanglements пока просто плавятся мозги.
👍34✍6👏1
Щупальца виляют осьминогом
Мы привыкли рассуждать о сознании, познании, решении в антропоморфных категориях. Органы чувств человека (глаза, нос, уши и т. д.) сначала обрабатывают сигнал из окружающей среды. Потом перекодируют и передают в мозг. Тот их обрабатывает, а дальше идет уже обратная связь в конечности. Надо ли бежать, драться или лежать на диване дальше. Потом новый сигнал из среды, и так далее.
У философа Питера Годфри-Смита есть сильный образ, который подвешивает наши привычные представления о воспринимающем и действующем субъекте – это физиологическое устройство осьминогов и вообще моллюсков. Большинство сигналов из щупальца осьминога не идет в центральный мозг, а остается в этом же щупальце. Им как бы делегированы собственные юрисдикции и полномочия. В каком-то смысле у осьминогов девять частично автономных мозгов. Если помните, именно на этом феномене основан целый персонаж – доктор Октавиус из вселенной Marvel.
Я не философ, так что дебаты о нечеловеческом меня не очень привлекают. Однако как социологу мне очень нравится образ осьминога как аллегория административной структуры. По сути, любая организация и тем более холдинг организаций обрабатывают информацию и выносят решения не так, как нервная система человека, а именно как колоссальный осьминог. Да, какие-то дела делаются в головном офисе, но даже центр крайне зависим от периферийных отделов. Это комплексная динамика. Когда-то периферия может подвести центр тем, что делится с ним не всем, что знает. Но когда-то, наоборот, это спасает центр от паралича бесконечного количества решений.
Советская система, которая кажется нам олицетворением вот этой централизованности и иерархичности, во многих отношениях была вот таким осьминогом. Причем фрактальным осьминогом, так как у щупалец тоже были свои щупальца. Так, например, члены Политбюро выносили свои суждения о ситуации в других странах на основании того, что им подсунули консультанты и референты Международного отдела ЦК. А в сам ЦК записки писали сотрудники сети институтов, которые занимались региональной тематикой.
Да, тут можно возразить, что сотрудники не писали того, что не хотели услышать консультанты и референты. А консультанты и референты не писали того, что не готовы были воспринять в Политбюро. Однако это только еще сильнее доказывает относительную самостоятельность щупалец. Человеческие глаза и уши ведь не выбирают, о чем сообщать мозгу, а о чем нет.
Мы привыкли рассуждать о сознании, познании, решении в антропоморфных категориях. Органы чувств человека (глаза, нос, уши и т. д.) сначала обрабатывают сигнал из окружающей среды. Потом перекодируют и передают в мозг. Тот их обрабатывает, а дальше идет уже обратная связь в конечности. Надо ли бежать, драться или лежать на диване дальше. Потом новый сигнал из среды, и так далее.
У философа Питера Годфри-Смита есть сильный образ, который подвешивает наши привычные представления о воспринимающем и действующем субъекте – это физиологическое устройство осьминогов и вообще моллюсков. Большинство сигналов из щупальца осьминога не идет в центральный мозг, а остается в этом же щупальце. Им как бы делегированы собственные юрисдикции и полномочия. В каком-то смысле у осьминогов девять частично автономных мозгов. Если помните, именно на этом феномене основан целый персонаж – доктор Октавиус из вселенной Marvel.
Я не философ, так что дебаты о нечеловеческом меня не очень привлекают. Однако как социологу мне очень нравится образ осьминога как аллегория административной структуры. По сути, любая организация и тем более холдинг организаций обрабатывают информацию и выносят решения не так, как нервная система человека, а именно как колоссальный осьминог. Да, какие-то дела делаются в головном офисе, но даже центр крайне зависим от периферийных отделов. Это комплексная динамика. Когда-то периферия может подвести центр тем, что делится с ним не всем, что знает. Но когда-то, наоборот, это спасает центр от паралича бесконечного количества решений.
Советская система, которая кажется нам олицетворением вот этой централизованности и иерархичности, во многих отношениях была вот таким осьминогом. Причем фрактальным осьминогом, так как у щупалец тоже были свои щупальца. Так, например, члены Политбюро выносили свои суждения о ситуации в других странах на основании того, что им подсунули консультанты и референты Международного отдела ЦК. А в сам ЦК записки писали сотрудники сети институтов, которые занимались региональной тематикой.
Да, тут можно возразить, что сотрудники не писали того, что не хотели услышать консультанты и референты. А консультанты и референты не писали того, что не готовы были воспринять в Политбюро. Однако это только еще сильнее доказывает относительную самостоятельность щупалец. Человеческие глаза и уши ведь не выбирают, о чем сообщать мозгу, а о чем нет.
👍52✍5👏3👌3
Сколько же за эти три года я наслушался домашних лекций про художников и чиновников-ноунеймов: всяких левчинских-бекчинских, ивановых-соколовых, боровичей-бехтеревых... А еще про раннебольшевицкие организации с совершенно невыговариваемыми аббревиатурами: совхудкоморги, искпродторги, минкультурмультуркомы... Неужели это все почти кончилось? Но самое забавное, что в результате Лихинина утянула меня в советскую историю вслед за собой.
👍37✍1👏1
Forwarded from Дом искусств
Семантическая сатиация
Пару дней назад у нас прошла защита «научных докладов» (кодовое название для диссера при его окончательном представлении на факультете). За последние недели мне не раз вспоминался мем, где идеальное на первый взгляд селфи через 5-7 просмотров кажется его автору просто ужасным. Или когда слово, повторенное много раз, превращается в набор звуков — семантическое пресыщение (или семантическая сатиация).
Так и с текстом: когда за короткое время перечитываешь его много раз и в разной последовательности частей, некогда интересные выводы превращаются в страшную банальщину, и удивляешься, зачем вообще о таких простых вещах надо было так долго писать. В общем, пришло время нам побыть независимо друг от друга!
Интереснейшие проекты завершили мои коллеги. Юля написала внушительную творческую биографию архитектора Александра Клейна, для чего, среди прочего, героически пробивалась в архивы Хайфы на пасхальной неделе. Полина посвятила свою диссертацию географии голландского натюрморта первой половины XVII века, досконально изучив стилистические тонкости и религиозно-политический контекст эпохи. Поздравляю коллег и желаю скорейшей публикации монографий!
Пару дней назад у нас прошла защита «научных докладов» (кодовое название для диссера при его окончательном представлении на факультете). За последние недели мне не раз вспоминался мем, где идеальное на первый взгляд селфи через 5-7 просмотров кажется его автору просто ужасным. Или когда слово, повторенное много раз, превращается в набор звуков — семантическое пресыщение (или семантическая сатиация).
Так и с текстом: когда за короткое время перечитываешь его много раз и в разной последовательности частей, некогда интересные выводы превращаются в страшную банальщину, и удивляешься, зачем вообще о таких простых вещах надо было так долго писать. В общем, пришло время нам побыть независимо друг от друга!
Интереснейшие проекты завершили мои коллеги. Юля написала внушительную творческую биографию архитектора Александра Клейна, для чего, среди прочего, героически пробивалась в архивы Хайфы на пасхальной неделе. Полина посвятила свою диссертацию географии голландского натюрморта первой половины XVII века, досконально изучив стилистические тонкости и религиозно-политический контекст эпохи. Поздравляю коллег и желаю скорейшей публикации монографий!
👍44🙏1
Академические коммуникации
На выходных удалось развиртуализироваться с коллегами Багери и Мамадшоевой, с которыми раньше эпизодически пересекались на онлайн-ридинге по социологии знания. Очень освежающее чувство: поговорить о (пост)советских социальных науках с исследователями, которые вообще никак не связаны с российской академией и смотрят на все драматические трансформации последних десятилетий из центральноазиатской перспективы. Пришлось зачем-то рассказывать им, кто такой Виктор Вахштайн. Аххах.
Но удалось подискутировать на по-настоящему важную и мою любимую тему различий между оптиками разных дисциплин. Я, конечно, защищал социологию. Коллега Мамадшоева с позиции человека, ушедшего из социологии, говорила, что нужно становиться историком. По ее мнению, историки идей, историки науки, etc. делают то же самое, что и социологи, но они куда внимательнее к нюансам и контексту. К консенсусу не пришли, поэтому переключились на внезапно менее горячую тему: студенческие протесты. Тут быстро сошлись на поддержке студентов.
Также за выходные мы с Марией внимательно прочитали все мотивационные письма на курс по академическому письму. В очередной раз пришла лавина заявок. С одной стороны, приятно, что наш мини-проект востребован. С другой, очень жаль, что приходится кого-то оставлять за бортом. В итоге мы по хорошей традиции взяли больше человек на бесплатные места, а еще нескольким предложили скидки. У тех же, кто пропустил дедлайн на конкурс, еще есть немного времени записаться на курс за смешную плату.
На выходных удалось развиртуализироваться с коллегами Багери и Мамадшоевой, с которыми раньше эпизодически пересекались на онлайн-ридинге по социологии знания. Очень освежающее чувство: поговорить о (пост)советских социальных науках с исследователями, которые вообще никак не связаны с российской академией и смотрят на все драматические трансформации последних десятилетий из центральноазиатской перспективы. Пришлось зачем-то рассказывать им, кто такой Виктор Вахштайн. Аххах.
Но удалось подискутировать на по-настоящему важную и мою любимую тему различий между оптиками разных дисциплин. Я, конечно, защищал социологию. Коллега Мамадшоева с позиции человека, ушедшего из социологии, говорила, что нужно становиться историком. По ее мнению, историки идей, историки науки, etc. делают то же самое, что и социологи, но они куда внимательнее к нюансам и контексту. К консенсусу не пришли, поэтому переключились на внезапно менее горячую тему: студенческие протесты. Тут быстро сошлись на поддержке студентов.
Также за выходные мы с Марией внимательно прочитали все мотивационные письма на курс по академическому письму. В очередной раз пришла лавина заявок. С одной стороны, приятно, что наш мини-проект востребован. С другой, очень жаль, что приходится кого-то оставлять за бортом. В итоге мы по хорошей традиции взяли больше человек на бесплатные места, а еще нескольким предложили скидки. У тех же, кто пропустил дедлайн на конкурс, еще есть немного времени записаться на курс за смешную плату.
👍38👏4👌2