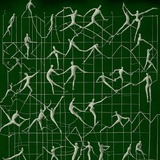Записки палеоконсерваторов
Почитал дискуссию в «России в глобальной политике», стартовавшую как реакция на публичный демарш Валерия Гарбузова. Дискуссанты наперебой обсуждают мотив борьбы России с Западом, желаемые тактические и стратегические ходы, роль образованной элиты в противостоянии. Честно, не знаю, как все это понимать и комментировать. Скорее, воспринял это как такое guilty pleasure. Кто-то любит Z-военкоров читать, а мне вот правда интересно, что думают консервативные интеллектуалы.
Внезапно, самый кровожадный из участников – это молдавский историк Виктор Таки, работающий в Канаде. Возможно, это не настоящий человек, а академическое альтер-эго самого Путина. Таки буквально ожидает скорого распада Западной коалиции под влиянием внутренних противоречий, а Россию призывает оборонять занятые территории до этого момента, попутно забрасывая Украину ракетами. Да, еще он считает себя противником любого Просвещения, потому что исторически с него начались все самые плохие вещи в культуре.
Неожиданно, но российские участники дискуссии Борис Межуев и Андрей Тесля как раз поправляют разгоряченного Таки, заявляя, что перманентная война – это плохо, и что Просвещение бывает разным, даже полезным, etc. С одной стороны, хорошо, что кто-то пытается хотя бы немного адеквата добавлять в этот дискурс. С другой, даже ложка этого адеквата растворена в бочке неадеквата. Например, тот же Межуев считает Россию отдельной цивилизацией, но при этом сокрушается, что у нее нет никакой идеологии. Как такое возможно вообще? С третьей стороны, я не уверен, что наверху кому-то есть дело до таких дискуссий, так что какая разница.
Почитал дискуссию в «России в глобальной политике», стартовавшую как реакция на публичный демарш Валерия Гарбузова. Дискуссанты наперебой обсуждают мотив борьбы России с Западом, желаемые тактические и стратегические ходы, роль образованной элиты в противостоянии. Честно, не знаю, как все это понимать и комментировать. Скорее, воспринял это как такое guilty pleasure. Кто-то любит Z-военкоров читать, а мне вот правда интересно, что думают консервативные интеллектуалы.
Внезапно, самый кровожадный из участников – это молдавский историк Виктор Таки, работающий в Канаде. Возможно, это не настоящий человек, а академическое альтер-эго самого Путина. Таки буквально ожидает скорого распада Западной коалиции под влиянием внутренних противоречий, а Россию призывает оборонять занятые территории до этого момента, попутно забрасывая Украину ракетами. Да, еще он считает себя противником любого Просвещения, потому что исторически с него начались все самые плохие вещи в культуре.
Неожиданно, но российские участники дискуссии Борис Межуев и Андрей Тесля как раз поправляют разгоряченного Таки, заявляя, что перманентная война – это плохо, и что Просвещение бывает разным, даже полезным, etc. С одной стороны, хорошо, что кто-то пытается хотя бы немного адеквата добавлять в этот дискурс. С другой, даже ложка этого адеквата растворена в бочке неадеквата. Например, тот же Межуев считает Россию отдельной цивилизацией, но при этом сокрушается, что у нее нет никакой идеологии. Как такое возможно вообще? С третьей стороны, я не уверен, что наверху кому-то есть дело до таких дискуссий, так что какая разница.
👍37👏5👌4
Хорошие чехи
Коллега Жихаревич навел на интереснейшую статью Гила Эйяла в Theory and Society, посвященную пути либеральной интеллигенции к власти в Чехии 1970–1990-х гг. Удалось вкратце обсудить ее с Митей и другими коллегами онлайн, за что им огромное спасибо! В отрыве от сообщества я, кажется, потихоньку начинаю забуревать.
Эйял пишет, что в свержении Коммунистической партии Чехословакии решающую роль сыграли две группы. Во-первых, диссиденты-гуманитарии; во-вторых, технократы, как правило, с управленческой или экономической специализацией. Кроме образования разделяла их и другая важная деталь. Диссидентов не пускали в официальные институции, так что они выживали за счет малоквалифицированных и неформальных заработков. В то время как технократы коротали дни хоть и на средненьких постах, но зато внутри системы, мечтая о реформах. Жаль, что Эяйл собрал далеко не полную статистику по обеим группам, но даже та, иллюстративная, что есть, выглядит захватывающе.
Интересно, как выработанная во время внутренней ссылки морализирующая и индивидуализирующая культура гуманитарной оппозиции стала идеальным дополнением монетаризму технократов. Эяйл вообще предлагает интригующий тезис, что в конечном счете именно полуподпольные субкультурные практики стали подлинным фундаментом чешского неолиберализма. Мне нравится такой подход тем, что он позволяет переключить внимание с западных влияний на то, что происходило в самих странах социалистического лагеря. Однако эмпирическое доказательство этого зиждется на довольно шаткой истории идей, которая куда менее убедительна, чем просопография.
После прочтения в голову полезли параллели с Россией, где, как остроумно сформулировал Митя, союз между Дуней Смирновой и Анатолием Чубайсом – это тоже краеугольный камень политической культуры. Мне, впрочем, кажется, что сходство есть, но поверхностное. В Чехии обе группы стали неотъемлемой частью властного истеблишмента, надолго закрепившись в министерствах и парламенте. В России этого добилась только небольшая часть технократов, а диссиденты ушли из политики заниматься академическими и культурными проектами.
Коллега Жихаревич навел на интереснейшую статью Гила Эйяла в Theory and Society, посвященную пути либеральной интеллигенции к власти в Чехии 1970–1990-х гг. Удалось вкратце обсудить ее с Митей и другими коллегами онлайн, за что им огромное спасибо! В отрыве от сообщества я, кажется, потихоньку начинаю забуревать.
Эйял пишет, что в свержении Коммунистической партии Чехословакии решающую роль сыграли две группы. Во-первых, диссиденты-гуманитарии; во-вторых, технократы, как правило, с управленческой или экономической специализацией. Кроме образования разделяла их и другая важная деталь. Диссидентов не пускали в официальные институции, так что они выживали за счет малоквалифицированных и неформальных заработков. В то время как технократы коротали дни хоть и на средненьких постах, но зато внутри системы, мечтая о реформах. Жаль, что Эяйл собрал далеко не полную статистику по обеим группам, но даже та, иллюстративная, что есть, выглядит захватывающе.
Интересно, как выработанная во время внутренней ссылки морализирующая и индивидуализирующая культура гуманитарной оппозиции стала идеальным дополнением монетаризму технократов. Эяйл вообще предлагает интригующий тезис, что в конечном счете именно полуподпольные субкультурные практики стали подлинным фундаментом чешского неолиберализма. Мне нравится такой подход тем, что он позволяет переключить внимание с западных влияний на то, что происходило в самих странах социалистического лагеря. Однако эмпирическое доказательство этого зиждется на довольно шаткой истории идей, которая куда менее убедительна, чем просопография.
После прочтения в голову полезли параллели с Россией, где, как остроумно сформулировал Митя, союз между Дуней Смирновой и Анатолием Чубайсом – это тоже краеугольный камень политической культуры. Мне, впрочем, кажется, что сходство есть, но поверхностное. В Чехии обе группы стали неотъемлемой частью властного истеблишмента, надолго закрепившись в министерствах и парламенте. В России этого добилась только небольшая часть технократов, а диссиденты ушли из политики заниматься академическими и культурными проектами.
👍41👎1👏1🙏1
Славяне, лингвисты и социологи
До своего перехода в историки легендарная Лихинина училась лингвистике, поэтому до сих пор любит засыпать меня рандомными фактами об эволюции языков. В ходе одного из таких разговоров мне совершенно спонтанно пришла в голову довольно банальная идея, что целая куча довольно крупных славянских этничностей до сих пор не имеют своих наций-государств (лужичане, кашубы, русины, etc.) К этому можно прибавить те этнические группы, которые по разным причинам практически исчезли (подляшуки, полабы, etc.), а можно и даже те, которые могли бы существовать, но не продвинулись в кристаллизации своих традиций и укладов достаточно далеко.
Это, грубо говоря, факты, но есть и ценностные интерпретации. Сферический деколониалист в вакууме будет переживать о каждой из таких этнических групп, включая так и не оформившиеся, и требовать для каждой из них суверенитета в той или иной форме. Сферический имперец будет пренебрегать этой проблемой вовсе, заявляя, что даже существующих наций-государств слишком много, и нужно всех объединить в рамках одного унитарного политического образования.
Этот амальгаму можно еще интерсекциональненько усложнить. Сферический конфессионалист будет продавливать важность религии. Мол, одно большое государство для всех славян – это очень круто, но, скажем, православных туда не берем, а мусульман-то и подавно. Сферический интернационалист, в свою очередь, может сказать, что класс важнее этничности, поэтому дробление суверенитета играет на руку международному капиталу. И вновь тут будет целая градация, внутри которой аргументы будут смешиваться…
Возвращаясь к исходному пункту: лингвисты утверждают, что их интересуют только факты, а не ценностные интерпретации. В принципе, наука о языке так и состоялась. Думаю, что социолог, антрополог или любой другой исследователь национальных вопросов также может стремиться дистанцироваться от любых обозначенных позиций, делая их частными случаями своей большой концептуальной рамки. Даже любимого мной интернационализма. На мой взгляд, это и есть желаемый идеал.
Парадоксально, однако, что в результате гипотетического успеха получившаяся позиция будет совершенно никому непонятна за пределами узкого научного сообщества своей выхолощенностью и отсутствием связи с реальными проблемами людей. И это тоже будет совершенно заслуженно. Но как тогда изучать условные славянские этносы (тут можно вставить любую другую социальную группу, конечно), но при этом быть им не только интересным, но и полезным? Вот это действительно самый сложный вопрос.
До своего перехода в историки легендарная Лихинина училась лингвистике, поэтому до сих пор любит засыпать меня рандомными фактами об эволюции языков. В ходе одного из таких разговоров мне совершенно спонтанно пришла в голову довольно банальная идея, что целая куча довольно крупных славянских этничностей до сих пор не имеют своих наций-государств (лужичане, кашубы, русины, etc.) К этому можно прибавить те этнические группы, которые по разным причинам практически исчезли (подляшуки, полабы, etc.), а можно и даже те, которые могли бы существовать, но не продвинулись в кристаллизации своих традиций и укладов достаточно далеко.
Это, грубо говоря, факты, но есть и ценностные интерпретации. Сферический деколониалист в вакууме будет переживать о каждой из таких этнических групп, включая так и не оформившиеся, и требовать для каждой из них суверенитета в той или иной форме. Сферический имперец будет пренебрегать этой проблемой вовсе, заявляя, что даже существующих наций-государств слишком много, и нужно всех объединить в рамках одного унитарного политического образования.
Этот амальгаму можно еще интерсекциональненько усложнить. Сферический конфессионалист будет продавливать важность религии. Мол, одно большое государство для всех славян – это очень круто, но, скажем, православных туда не берем, а мусульман-то и подавно. Сферический интернационалист, в свою очередь, может сказать, что класс важнее этничности, поэтому дробление суверенитета играет на руку международному капиталу. И вновь тут будет целая градация, внутри которой аргументы будут смешиваться…
Возвращаясь к исходному пункту: лингвисты утверждают, что их интересуют только факты, а не ценностные интерпретации. В принципе, наука о языке так и состоялась. Думаю, что социолог, антрополог или любой другой исследователь национальных вопросов также может стремиться дистанцироваться от любых обозначенных позиций, делая их частными случаями своей большой концептуальной рамки. Даже любимого мной интернационализма. На мой взгляд, это и есть желаемый идеал.
Парадоксально, однако, что в результате гипотетического успеха получившаяся позиция будет совершенно никому непонятна за пределами узкого научного сообщества своей выхолощенностью и отсутствием связи с реальными проблемами людей. И это тоже будет совершенно заслуженно. Но как тогда изучать условные славянские этносы (тут можно вставить любую другую социальную группу, конечно), но при этом быть им не только интересным, но и полезным? Вот это действительно самый сложный вопрос.
👍38
С тех пор, как переехал в Ереван, ожидал нового витка горячего конфликта. И вот азербайджанское нападение началось. Интуитивно согласен с коллегой в прогнозах. Хотя черт его знает, как такой клубок страстей и интересов будет распутываться. Остается только социологически наблюдать на всем этим ужасом.
🙏31🤝2
Forwarded from Русский SJW
Мой краткий прогноз:
◾️>100 тысяч армянских беженцев
◾️неминуемое военное поражение НКР
◾️столкновения на границе Армении вплоть до заходов на приграничную территорию (под предлогом того что граница не делимитирована)
◾️Азербайджан остановится либо уже на блокаде Степанакерта-Ханкенди, либо при попытке пробиться через Армению до Нахичевана под международным давлением
◾️поводом остановиться будет либо гибель российских военных (как в 2020), либо гибель наблюдателей от ЕС, либо заявление Армении о капитуляции и вывозе оставшихся армян из Карабаха
Сколько продлится этот ад и его последствия, сейчас сказать трудно
◾️>100 тысяч армянских беженцев
◾️неминуемое военное поражение НКР
◾️столкновения на границе Армении вплоть до заходов на приграничную территорию (под предлогом того что граница не делимитирована)
◾️Азербайджан остановится либо уже на блокаде Степанакерта-Ханкенди, либо при попытке пробиться через Армению до Нахичевана под международным давлением
◾️поводом остановиться будет либо гибель российских военных (как в 2020), либо гибель наблюдателей от ЕС, либо заявление Армении о капитуляции и вывозе оставшихся армян из Карабаха
Сколько продлится этот ад и его последствия, сейчас сказать трудно
🙏33👍4
Кемалисты против петрократов
Случайно наткнулся на статью Дмитрия Фурмана, описывающего политическую трансформацию Азербайджана во время и после распада СССР. Это публицистическая работа, написанная по горячим следам самих событий, а не на базе каких-то поздних исторических разысканий. Тем не менее, его наблюдения в чем-то перекликаются с работой Гила Эйяла о Чехии. Фурман тоже отмечает главную роль в преобразованиях заряженной гуманитарной интеллигенции во главе с кандидатом исторических наук Абульфазом Эльчибеем, которая первоначально смогла присвоить себе огромное количество руководящих постов в стране.
Оригинально Фурман объясняет итоговый реванш номенклатуры, начавшийся с заключения Нахичеваном сепаратного мира с Арменией в 1992 году (к своему стыду, вообще ничего не знал про этот эпизод ранее). Согласно автору, главной причиной вытеснения интеллигенции обратно на задворки политической жизни была своеобразная исламофобия не только в России, но и среди западных руководителей. Несмотря на то, что Эльчибей называл себя «солдатом Ататюрка» и намеревался как раз дистанцироваться от любых религиозных основ власти, для внешних игроков это все было слишком заумно, непонятно и опасно. Особенно по сравнению с находящейся рядом христианской Арменией, которая обладала еще и крупнейшими диаспорами. По злой иронии, именно прагматичный и умеренный тяжеловес советской политики Гейдар Алиев, которого и внутренние, и внешние игроки предпочли пассионарному харизматику Эльчибею, вскоре стал всерьез заигрывать с политическим исламом, что отчасти привело нас в ту точку, где мы находимся сейчас.
Напоследок о самом Фурмане. Кажется, не зря его так много рекомендовал Георгий Дерлугьян. Действительно, очень мощная интеллектуальная эссеистика, напоминающая в чем-то стиль британцев типа Эрнеста Геллера и стоящая на двух китах: сравнительном методе и нормативном примате демократии. Комментариев Фурмана по поводу разных политических событий на постсоветском пространстве накопилось очень много, но из-за живого и доступного языка читать их легко. Кто вслед за мной хочет оживить свои познания по истории 1999–2000 гг., добро пожаловать на сайт с электронной коллекцией его публикаций.
Случайно наткнулся на статью Дмитрия Фурмана, описывающего политическую трансформацию Азербайджана во время и после распада СССР. Это публицистическая работа, написанная по горячим следам самих событий, а не на базе каких-то поздних исторических разысканий. Тем не менее, его наблюдения в чем-то перекликаются с работой Гила Эйяла о Чехии. Фурман тоже отмечает главную роль в преобразованиях заряженной гуманитарной интеллигенции во главе с кандидатом исторических наук Абульфазом Эльчибеем, которая первоначально смогла присвоить себе огромное количество руководящих постов в стране.
Оригинально Фурман объясняет итоговый реванш номенклатуры, начавшийся с заключения Нахичеваном сепаратного мира с Арменией в 1992 году (к своему стыду, вообще ничего не знал про этот эпизод ранее). Согласно автору, главной причиной вытеснения интеллигенции обратно на задворки политической жизни была своеобразная исламофобия не только в России, но и среди западных руководителей. Несмотря на то, что Эльчибей называл себя «солдатом Ататюрка» и намеревался как раз дистанцироваться от любых религиозных основ власти, для внешних игроков это все было слишком заумно, непонятно и опасно. Особенно по сравнению с находящейся рядом христианской Арменией, которая обладала еще и крупнейшими диаспорами. По злой иронии, именно прагматичный и умеренный тяжеловес советской политики Гейдар Алиев, которого и внутренние, и внешние игроки предпочли пассионарному харизматику Эльчибею, вскоре стал всерьез заигрывать с политическим исламом, что отчасти привело нас в ту точку, где мы находимся сейчас.
Напоследок о самом Фурмане. Кажется, не зря его так много рекомендовал Георгий Дерлугьян. Действительно, очень мощная интеллектуальная эссеистика, напоминающая в чем-то стиль британцев типа Эрнеста Геллера и стоящая на двух китах: сравнительном методе и нормативном примате демократии. Комментариев Фурмана по поводу разных политических событий на постсоветском пространстве накопилось очень много, но из-за живого и доступного языка читать их легко. Кто вслед за мной хочет оживить свои познания по истории 1999–2000 гг., добро пожаловать на сайт с электронной коллекцией его публикаций.
👍35
На вершине бытия
В средневековой христианской теологии была распространена концепция великой цепи бытия. Этот важнейший топос подразумевал, что все существующее в мире образует общую иерархию от минералов к растениям, потом к животным, людям, ангелам, и, конец, к Богу. Идея никуда не делась и после Реформации, проникнув в размышления об онтологии Лейбница, Шеллинга и других почтенных философов. Об этом давным-давно написал целую книгу Артур Лавджой.
Мне только сейчас пришло в голову, что эта же идея, возможно, сильно повлияла и на Огюста Конта, когда он выдумывал свою пирамиду наук. Напомню, что все науки для него тоже образовывали цепь, где вершина из сверхъестественных существ была заменена на общество. Кроме того, каждый из предыдущих уровней поддерживал следующие. (Интересно, что базой всего этого были не физические, а математические объекты, но про это как-нибудь в другой раз.)
Сегодня такого рода рассуждения непопулярны среди читающей аудитории. Их заменила мода на плоские онтологии, в которых все возникает из взаимодействия всего со всем, но при этом все уникально и текуче. Великая цепь бытия и ее производные кажутся репрессивным образом мира. От нее необходимо избавиться, дав множественности и инаковости полноправно творить.
Разумеется, я думаю, что в представлениях Конта содержится очень мощный аргумент, избавление от которого не сулит для социальных наук ничего хорошего. Это аргумент за ирредукционизм. Суть его в том, что социальная реальность не сводится ни к телам отдельных людей, ни к их ментальным состояниям, ни даже к отдельным отношениям между ними. Физику нечего сказать о молекулах, а химику – о тканях. По аналогии, никто не может объяснить особый слой социальной действительности, кроме социальных ученых.
Плоские онтологии же контрабандой ввозят в социальные науки методологический индивидуализм/номинализм, бесконечно растворяющий общество в единичных элементах, ситуациях, вспышках. На мой взгляд, в таком примитивизме репрессивности куда больше, чем в эмерджетизме Конта, идеи которого о важности общества как раз надо срочно реанимировать.
В средневековой христианской теологии была распространена концепция великой цепи бытия. Этот важнейший топос подразумевал, что все существующее в мире образует общую иерархию от минералов к растениям, потом к животным, людям, ангелам, и, конец, к Богу. Идея никуда не делась и после Реформации, проникнув в размышления об онтологии Лейбница, Шеллинга и других почтенных философов. Об этом давным-давно написал целую книгу Артур Лавджой.
Мне только сейчас пришло в голову, что эта же идея, возможно, сильно повлияла и на Огюста Конта, когда он выдумывал свою пирамиду наук. Напомню, что все науки для него тоже образовывали цепь, где вершина из сверхъестественных существ была заменена на общество. Кроме того, каждый из предыдущих уровней поддерживал следующие. (Интересно, что базой всего этого были не физические, а математические объекты, но про это как-нибудь в другой раз.)
Сегодня такого рода рассуждения непопулярны среди читающей аудитории. Их заменила мода на плоские онтологии, в которых все возникает из взаимодействия всего со всем, но при этом все уникально и текуче. Великая цепь бытия и ее производные кажутся репрессивным образом мира. От нее необходимо избавиться, дав множественности и инаковости полноправно творить.
Разумеется, я думаю, что в представлениях Конта содержится очень мощный аргумент, избавление от которого не сулит для социальных наук ничего хорошего. Это аргумент за ирредукционизм. Суть его в том, что социальная реальность не сводится ни к телам отдельных людей, ни к их ментальным состояниям, ни даже к отдельным отношениям между ними. Физику нечего сказать о молекулах, а химику – о тканях. По аналогии, никто не может объяснить особый слой социальной действительности, кроме социальных ученых.
Плоские онтологии же контрабандой ввозят в социальные науки методологический индивидуализм/номинализм, бесконечно растворяющий общество в единичных элементах, ситуациях, вспышках. На мой взгляд, в таком примитивизме репрессивности куда больше, чем в эмерджетизме Конта, идеи которого о важности общества как раз надо срочно реанимировать.
👍58👏4
Инна здорово помогала мне с переводами текстов как с немецкого на русский, так и обратно. Она может разобраться во всем: от идей раннего Хабермаса до позиции на поле Томаса Мюллера! Не сомневаюсь и в ее преподавательских компетенциях. Если вам необходимо прокачать ваш академический немецкий язык, курсы и канал Инны – это то, что нужно!
👍17👏3🙏1
Forwarded from Laurens Eichhoernchen | Бельчонок Лауры
Давно пора поделиться планами на осень 🍁. Вместе со мной можно совершенствовать свой немецкий на уровнях С1-С2 и не только:
🎬 Курс по немецкому кино, С1 (10 онлайн-встреч, 30 ак. часов)
По субботам, 11:00-13:30 (Мск), с 07.10 по 16.12
Стоимость 16500 руб., оплата на сайте Гёте-института. Мы придумали этот курс вместе с автором канала Кински Ирой Посредниковой, под эгидой Гёте-института 😍.
📚 Курс по немецкоязычной литературе, C1 (6 онлайн-встреч, 18 ак. часов)
По пятницам два раза в месяц + чат, 19:00-21:30 (Мск), с 06.10 по 15.12
Стоимость 8000 руб., оплата через сайт.
📺 Hörverstehen und Sprechen, C1-C2 (абонемент на 4 встречи в месяц, 8 ак. часов в месяц)
По четвергам, 19:00-20:20 (Мск), начало 05.10
Стоимость абонемента 4500 руб., оплата через сайт.
👩🏫 Также у меня есть один-два слота для индивидуальных или парных занятий в утреннее или дневное время (на любом уровне) – подробности на сайте.
🎬 Курс по немецкому кино, С1 (10 онлайн-встреч, 30 ак. часов)
По субботам, 11:00-13:30 (Мск), с 07.10 по 16.12
Стоимость 16500 руб., оплата на сайте Гёте-института. Мы придумали этот курс вместе с автором канала Кински Ирой Посредниковой, под эгидой Гёте-института 😍.
📚 Курс по немецкоязычной литературе, C1 (6 онлайн-встреч, 18 ак. часов)
По пятницам два раза в месяц + чат, 19:00-21:30 (Мск), с 06.10 по 15.12
Стоимость 8000 руб., оплата через сайт.
📺 Hörverstehen und Sprechen, C1-C2 (абонемент на 4 встречи в месяц, 8 ак. часов в месяц)
По четвергам, 19:00-20:20 (Мск), начало 05.10
Стоимость абонемента 4500 руб., оплата через сайт.
👩🏫 Также у меня есть один-два слота для индивидуальных или парных занятий в утреннее или дневное время (на любом уровне) – подробности на сайте.
👍13👏1
Для умных, но ленивых
А вы что-то знали про существование организации Macat International? Официальный сайт сообщает, что целью ее существования является распространение критического мышления, что сформулировано, конечно, максимально расплывчато. Однако один проект в сотрудничестве с издательством Routledge привлек мое внимание. Он посвящен выпуску учебных пособий по мотивам ключевых трудов по обществоведению и гуманитаристике.
Вот, например, классная брошюра о «Наброске теории практики» Бурдье. Первая часть повествует о контексте написания классического труда. Вторая непосредственно про его содержание. Третья о том, какие дебаты велись по итогам его публикации с библиографией. Такая структура принята для всех книг, заслуживших попадание в серию. Да, есть упрощения, но зато очень удобно погружаться в контекст.
На данный момент вышло уже 220 пособий, среди которых встречается очень много социологической и околосоциологической литературы. Радует, что внимание уделено не только уберклассикам, но и относительно свежим нашумевшим трудам. Например, «Долгу» Гребера или «Капиталу в XXI веке» Пикетти.
Небольшой лайфах: можно в поиске на «Либгене» просто забить «macat», и сразу вылезет много полезного. Пока есть не все, но надеюсь, со временем просочится и остальная коллекция.
А вы что-то знали про существование организации Macat International? Официальный сайт сообщает, что целью ее существования является распространение критического мышления, что сформулировано, конечно, максимально расплывчато. Однако один проект в сотрудничестве с издательством Routledge привлек мое внимание. Он посвящен выпуску учебных пособий по мотивам ключевых трудов по обществоведению и гуманитаристике.
Вот, например, классная брошюра о «Наброске теории практики» Бурдье. Первая часть повествует о контексте написания классического труда. Вторая непосредственно про его содержание. Третья о том, какие дебаты велись по итогам его публикации с библиографией. Такая структура принята для всех книг, заслуживших попадание в серию. Да, есть упрощения, но зато очень удобно погружаться в контекст.
На данный момент вышло уже 220 пособий, среди которых встречается очень много социологической и околосоциологической литературы. Радует, что внимание уделено не только уберклассикам, но и относительно свежим нашумевшим трудам. Например, «Долгу» Гребера или «Капиталу в XXI веке» Пикетти.
Небольшой лайфах: можно в поиске на «Либгене» просто забить «macat», и сразу вылезет много полезного. Пока есть не все, но надеюсь, со временем просочится и остальная коллекция.
👍91👏3
Неибежность смешанных методов
Историк-антиковед Эрик Хэвлок в свое время выдвинул интригующий тезис: возникновение философии, а, значит, впоследствии и науки, стало возможно только благодаря появлению письменности. Переориентация на нее позволила и накапливать идеи на бумаге (тогда на пергаменте, папирусе, глине), и общаться с теми, кто находится далеко во времени и пространстве. Однако ключевой сдвиг, обеспеченный письменностью, заключался в том, что идеи теперь стали полностью абстрагированы от прагматики повседневного устного языка. Письменный язык обернулся своего рода параллельным реальности экраном, выступающим и как идеал для нее. Хэвлок называл это «неизбежным платонизмом» письменных обществ.
Вместе с тем, друг и коллега Хэвлока Уолтер Онг выдвинул предположение, что общества, перешедшие на письменную коммуникацию, одновременно порождают огромное количество того, что он предложил именовать вторичной устной речью. Например, в науке проводятся лекции, семинары, доклады, симпозиумы, где речь хоть и возникает на фоне структур письменного языка, но сама таковой не является. Причем инновации на бумаге часто сначала возникают как импровизация разговора в курилке. Одним словом, письменность победила, но не безоговорочно.
Современные наукометрические штудии не всегда могут проникнуть в это научное закулисье, так как используют количественные индикаторы, отсылающие именно к бытованию научных статей и монографий. С другой стороны, и чисто этнографические исследования практик локальных научных сообществ не улавливают их погруженность в колоссальную гиперсеть текстов, распространяющуюся не только на всех ныне живущих, но и на умерших и даже еще не родившихся. В общем, этим утомительными рассуждениями я веду всего лишь к желательности использования в SSSH mixed methods.
Историк-антиковед Эрик Хэвлок в свое время выдвинул интригующий тезис: возникновение философии, а, значит, впоследствии и науки, стало возможно только благодаря появлению письменности. Переориентация на нее позволила и накапливать идеи на бумаге (тогда на пергаменте, папирусе, глине), и общаться с теми, кто находится далеко во времени и пространстве. Однако ключевой сдвиг, обеспеченный письменностью, заключался в том, что идеи теперь стали полностью абстрагированы от прагматики повседневного устного языка. Письменный язык обернулся своего рода параллельным реальности экраном, выступающим и как идеал для нее. Хэвлок называл это «неизбежным платонизмом» письменных обществ.
Вместе с тем, друг и коллега Хэвлока Уолтер Онг выдвинул предположение, что общества, перешедшие на письменную коммуникацию, одновременно порождают огромное количество того, что он предложил именовать вторичной устной речью. Например, в науке проводятся лекции, семинары, доклады, симпозиумы, где речь хоть и возникает на фоне структур письменного языка, но сама таковой не является. Причем инновации на бумаге часто сначала возникают как импровизация разговора в курилке. Одним словом, письменность победила, но не безоговорочно.
Современные наукометрические штудии не всегда могут проникнуть в это научное закулисье, так как используют количественные индикаторы, отсылающие именно к бытованию научных статей и монографий. С другой стороны, и чисто этнографические исследования практик локальных научных сообществ не улавливают их погруженность в колоссальную гиперсеть текстов, распространяющуюся не только на всех ныне живущих, но и на умерших и даже еще не родившихся. В общем, этим утомительными рассуждениями я веду всего лишь к желательности использования в SSSH mixed methods.
👍38👌7🙏2
Различения и сходства
Кстати, про Лумана. Наконец-то вернулся к работе над своей статьей, и в очередной раз замечаю, как много параллелей в концептуализации социального между ним и Эндрю Эбботтом. Разумеется, американец не настолько абстрактно философичен, но многие ходы у социологов буквально дублируют друг друга. Оба строят свой образ общества из различений. Оба увлечены развертыванием различений во времени. Для обоих важно наблюдать наблюдателей.
Насколько я понимаю, Эбботт, если и читал Лумана, то вряд ли сильно внимательно. Его больше вдохновляли учителя из Чикагской школы. Луман, в свою очередь, интересовался заокеанскими коллегами типа Уайта и Валлерстайна, но до публикации главных теоретических работ младшего собрата по духу, видимо, просто не дожил. Короче, это сходство – результат параллельной эволюции. Если повезет когда-нибудь встретить Эбботта, то обязательно спрошу, общались ли они вообще. Кто-то же должен это сделать.
Отчасти эту гипотезу подтверждают их отличающиеся нормативные видения социологии, сформированные, на мой взгляд, национальными интеллектуальными контекстами. При всей своей симпатии к плюрализму, принимающей у него консервативный характер, Луман всю жизнь пытался построить метатеорию. Вполне в немецком духе – это должна была быть метатеория, которая положит конец самой идее метатеории.
Эбботт же хотя и признает, что ни одна дисциплина, школа или теория ПРИНЦИПИАЛЬНО не может быть ближе к истине, чем любая другая, одновременно считает, что В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКЕ кто-то все-таки обгоняет всех остальных. Любопытно, что тут он вполне созвучен феминистской standpoint theory. За важным исключением, что эпистемическим преимуществом у него обладают не подчиненные гендерные или расовые роли, а забытые и подавленные интеллектуальные линиджи. Луман, конечно, до такой американщины никогда бы не опустился. И это главная причина, почему Эбботт мне куда дороже Лумана.
Кстати, про Лумана. Наконец-то вернулся к работе над своей статьей, и в очередной раз замечаю, как много параллелей в концептуализации социального между ним и Эндрю Эбботтом. Разумеется, американец не настолько абстрактно философичен, но многие ходы у социологов буквально дублируют друг друга. Оба строят свой образ общества из различений. Оба увлечены развертыванием различений во времени. Для обоих важно наблюдать наблюдателей.
Насколько я понимаю, Эбботт, если и читал Лумана, то вряд ли сильно внимательно. Его больше вдохновляли учителя из Чикагской школы. Луман, в свою очередь, интересовался заокеанскими коллегами типа Уайта и Валлерстайна, но до публикации главных теоретических работ младшего собрата по духу, видимо, просто не дожил. Короче, это сходство – результат параллельной эволюции. Если повезет когда-нибудь встретить Эбботта, то обязательно спрошу, общались ли они вообще. Кто-то же должен это сделать.
Отчасти эту гипотезу подтверждают их отличающиеся нормативные видения социологии, сформированные, на мой взгляд, национальными интеллектуальными контекстами. При всей своей симпатии к плюрализму, принимающей у него консервативный характер, Луман всю жизнь пытался построить метатеорию. Вполне в немецком духе – это должна была быть метатеория, которая положит конец самой идее метатеории.
Эбботт же хотя и признает, что ни одна дисциплина, школа или теория ПРИНЦИПИАЛЬНО не может быть ближе к истине, чем любая другая, одновременно считает, что В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКЕ кто-то все-таки обгоняет всех остальных. Любопытно, что тут он вполне созвучен феминистской standpoint theory. За важным исключением, что эпистемическим преимуществом у него обладают не подчиненные гендерные или расовые роли, а забытые и подавленные интеллектуальные линиджи. Луман, конечно, до такой американщины никогда бы не опустился. И это главная причина, почему Эбботт мне куда дороже Лумана.
👍26👏1👌1
Общество пластиковых зайцев
4 октября 1993 – это самое первое в моей жизни политическое событие, непосредственным свидетелем которого я могу себя назвать. Я помню встревоженные разговоры родственников за ужином. Помню экстренные выпуски новостей, заставки которых были стилизированы опаленными буквами. Многие не верят, что я вообще сумел такое запомнить, потому что едва мог тогда сказать что-то связное. Просто сидел в колготках на ковре перед телевизором и машинально играл с пластиковыми зайцами. (Кажется, что степень моего влияния на политику так и зафиксировалась на этом уровне, лол.)
Сейчас я без иронии рад, что многие мои либеральные друзья в последние годы переоткрывают и переосмысляют не только 1993 год, а вообще всю историю ельцинского правления. Я, как и многие другие дети из провинциальных интеллигентских семей, также воспитывался на почти безоговорочном принятии постсоветских реформаторов. Отшелушивать от себя эту отсохшую кожу, как бы по наследству доставшуюся от родителей, довольно болезненно. Прекрасно это понимаю. И я благодарен моему знакомству с левой средой, которая в свое время помогла соскоблить с себя всю эту липучую мифологию.
Вместе с тем, я бы хотел дождаться от моих левых друзей какой-то сопоставимой ревизии эпохи Революции и Гражданской войны. Для вот меня само собой получается, что если преступлением было расстрелять Верховный Совет, то аналогичным преступлением является и разгон Учредительного собрания. Если преступлением было штурмовать Грозный, то вряд ли чем-то хорошим был штурм Кронштадта. Ну и так далее.
Мое собственное переоткрытие и переосмысление, конечно, тоже пока далеко от завершения, но в сегодняшней точке Ленин и Ельцин кажутся мне почти однотипными фигурами, которые до сих пор убеждают своих симпатизантов, что насилие – не насилие, если применяется избранными людьми. Этим промежуточным выводам я сам не рад, потому что пока в образовавшийся от сношенных великих идеологий XX века вакуум устремляются в основном правые уродцы, альтернативы которым по всему миру не видно.
4 октября 1993 – это самое первое в моей жизни политическое событие, непосредственным свидетелем которого я могу себя назвать. Я помню встревоженные разговоры родственников за ужином. Помню экстренные выпуски новостей, заставки которых были стилизированы опаленными буквами. Многие не верят, что я вообще сумел такое запомнить, потому что едва мог тогда сказать что-то связное. Просто сидел в колготках на ковре перед телевизором и машинально играл с пластиковыми зайцами. (Кажется, что степень моего влияния на политику так и зафиксировалась на этом уровне, лол.)
Сейчас я без иронии рад, что многие мои либеральные друзья в последние годы переоткрывают и переосмысляют не только 1993 год, а вообще всю историю ельцинского правления. Я, как и многие другие дети из провинциальных интеллигентских семей, также воспитывался на почти безоговорочном принятии постсоветских реформаторов. Отшелушивать от себя эту отсохшую кожу, как бы по наследству доставшуюся от родителей, довольно болезненно. Прекрасно это понимаю. И я благодарен моему знакомству с левой средой, которая в свое время помогла соскоблить с себя всю эту липучую мифологию.
Вместе с тем, я бы хотел дождаться от моих левых друзей какой-то сопоставимой ревизии эпохи Революции и Гражданской войны. Для вот меня само собой получается, что если преступлением было расстрелять Верховный Совет, то аналогичным преступлением является и разгон Учредительного собрания. Если преступлением было штурмовать Грозный, то вряд ли чем-то хорошим был штурм Кронштадта. Ну и так далее.
Мое собственное переоткрытие и переосмысление, конечно, тоже пока далеко от завершения, но в сегодняшней точке Ленин и Ельцин кажутся мне почти однотипными фигурами, которые до сих пор убеждают своих симпатизантов, что насилие – не насилие, если применяется избранными людьми. Этим промежуточным выводам я сам не рад, потому что пока в образовавшийся от сношенных великих идеологий XX века вакуум устремляются в основном правые уродцы, альтернативы которым по всему миру не видно.
👍59🙏10👎9👌4🖕3👏2🤝2
База от Анатолия Ульянова. Горестная и прискорбная база.
🙏10👍2👎1👌1
Forwarded from DADAKINDER 🌿
Ряд акцентов по ситуации в Израиле:
1. Причина – нефть. Точнее её роль в геополитической конкуренции. Набег ХАМАС – попытка (например, Ирана и его дРУзей) поджечь регион, и сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Зачем? Чтобы не дать американским партнёрам Израиля добиться от саудитов увеличения добычи нефти. Таковое снижает её цену, укрепляет Запад, ослабляет Россию, теснит Китай, и бьёт по Ирану. Атака ХАМАС влечёт израильскую ответку, которая не может быть проигнорирована СА, поддерживающей идею Палестины.
2. Многое зависит от реакции СА. Исторически саудиты поддерживают палестинцев. Но есть мнение, что новое поколение во главе с принцем Мухаммедом ибн Салманом смотрит на этот вопрос мягче, и может быть готово к сливу палестинцев ради выгод нормализации отношений с Израилем и США.
3. ХАМАС – это политическая организация, чей экстремизм питается иранскими деньгами и политикой государства Израиль в Газе, давая повод эту политику оправдывать и развивать.
4. Сочувствие израильтянам не отменяет сочувствия палестинцам, а сочувствие палестинцам не значит, что нужно поддерживать ХАМАС – правых консерваторов, чей национализм заряжен религиозным фундаментализмом, а террор не только не достигает заявленных целей, но и цементирует статус-кво; сохраняет палестинцев в положении угнетения.
5. Атаки ХАМАС не снимают вопросов к политике Израиля в секторе Газа, и не могут служить основанием для отказа палестинскому народу в праве на жизнь и дом. То, что ХАМАС находит поддержку у этого народа связано с его отчаянным положением. Эту поддержку невозможно понять в отрыве от её контекста: истории Иерусалима, Накба, политики Израиля, ФАТХ (и других конкурентов ХАМАС по PLO); точечной зачистки палестинского политического поля от более прогрессивных лидеров (Канафани); того факта, что у людей, десятилетиями живущих в реальности тюрьмы, блокады, вышки, КПП, и ночного рейда, в повседневности апартеидного колониализма и гуманитарной катастрофы, выбор сводится либо к покорному исчезновению с лица земли, либо к вступлению в ряды фундаменталистов (с их помощью движение борцов за палестинскую независимость раскололи, и дискредитируют).
6. Игра на эмоциональном невежестве не проясняет реальность, где Иран дружит с РФ, которая дружит с Израилем, чья военка стоит на помощи США, которые лезут дружить к саудитам, поддерживающими Палестину, и где ХАМАС, борясь “за свободу от реки до моря”, не вторгается в Египет, с которым у Газы 12 км. общей границы, и который поддерживает её блокаду.
7. Читая, что пишут об этом вскормленные путинской сиськой “либералы” типа Лошака и Невзорова, понимаешь, что “озлобленная нищая масса”, “ни с того, ни с сего” бросившаяся “убивать и терзать красивых, благополучных людей только за то, что они такие красивые и благополучные”, увезла в багажниках не тех рейверов.
8. Силы ХАМАС и ЦАХАЛ несопоставимы. Если в эту историю не нырнёт вся коалиция врагов государства Израиль, ХАМАС будет раздавлен. Давить его будут вместе со всем палестинским народом под бурные овации “цивилизованного мира”. Сделка между Израилем и Саудовской Аравией может быть заморожена. Если это случится, шансы на победу Республиканцев на выборах в США возрастут, что отразится на западной поддержке Украины. Сливки с этого кошмара снимет Иран, Китай, и Россия, которая продолжит спекулировать ресурсами, играя на ресентименте, и консолидируя вокруг себя Глобальный Юг. Политика Израиля станет ещё более милитаристской и националистической. Деглобализация продолжится.
9. Выкрикивая расистские лозунги о “дикарях в шлёпках”, обратите внимание на размеры демонстраций в поддержку Палестины в арабском мире, и задумайтесь, стоит ли подливать масло в этот костёр на бочке с порохом.
@dadakinder
1. Причина – нефть. Точнее её роль в геополитической конкуренции. Набег ХАМАС – попытка (например, Ирана и его дРУзей) поджечь регион, и сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Зачем? Чтобы не дать американским партнёрам Израиля добиться от саудитов увеличения добычи нефти. Таковое снижает её цену, укрепляет Запад, ослабляет Россию, теснит Китай, и бьёт по Ирану. Атака ХАМАС влечёт израильскую ответку, которая не может быть проигнорирована СА, поддерживающей идею Палестины.
2. Многое зависит от реакции СА. Исторически саудиты поддерживают палестинцев. Но есть мнение, что новое поколение во главе с принцем Мухаммедом ибн Салманом смотрит на этот вопрос мягче, и может быть готово к сливу палестинцев ради выгод нормализации отношений с Израилем и США.
3. ХАМАС – это политическая организация, чей экстремизм питается иранскими деньгами и политикой государства Израиль в Газе, давая повод эту политику оправдывать и развивать.
4. Сочувствие израильтянам не отменяет сочувствия палестинцам, а сочувствие палестинцам не значит, что нужно поддерживать ХАМАС – правых консерваторов, чей национализм заряжен религиозным фундаментализмом, а террор не только не достигает заявленных целей, но и цементирует статус-кво; сохраняет палестинцев в положении угнетения.
5. Атаки ХАМАС не снимают вопросов к политике Израиля в секторе Газа, и не могут служить основанием для отказа палестинскому народу в праве на жизнь и дом. То, что ХАМАС находит поддержку у этого народа связано с его отчаянным положением. Эту поддержку невозможно понять в отрыве от её контекста: истории Иерусалима, Накба, политики Израиля, ФАТХ (и других конкурентов ХАМАС по PLO); точечной зачистки палестинского политического поля от более прогрессивных лидеров (Канафани); того факта, что у людей, десятилетиями живущих в реальности тюрьмы, блокады, вышки, КПП, и ночного рейда, в повседневности апартеидного колониализма и гуманитарной катастрофы, выбор сводится либо к покорному исчезновению с лица земли, либо к вступлению в ряды фундаменталистов (с их помощью движение борцов за палестинскую независимость раскололи, и дискредитируют).
6. Игра на эмоциональном невежестве не проясняет реальность, где Иран дружит с РФ, которая дружит с Израилем, чья военка стоит на помощи США, которые лезут дружить к саудитам, поддерживающими Палестину, и где ХАМАС, борясь “за свободу от реки до моря”, не вторгается в Египет, с которым у Газы 12 км. общей границы, и который поддерживает её блокаду.
7. Читая, что пишут об этом вскормленные путинской сиськой “либералы” типа Лошака и Невзорова, понимаешь, что “озлобленная нищая масса”, “ни с того, ни с сего” бросившаяся “убивать и терзать красивых, благополучных людей только за то, что они такие красивые и благополучные”, увезла в багажниках не тех рейверов.
8. Силы ХАМАС и ЦАХАЛ несопоставимы. Если в эту историю не нырнёт вся коалиция врагов государства Израиль, ХАМАС будет раздавлен. Давить его будут вместе со всем палестинским народом под бурные овации “цивилизованного мира”. Сделка между Израилем и Саудовской Аравией может быть заморожена. Если это случится, шансы на победу Республиканцев на выборах в США возрастут, что отразится на западной поддержке Украины. Сливки с этого кошмара снимет Иран, Китай, и Россия, которая продолжит спекулировать ресурсами, играя на ресентименте, и консолидируя вокруг себя Глобальный Юг. Политика Израиля станет ещё более милитаристской и националистической. Деглобализация продолжится.
9. Выкрикивая расистские лозунги о “дикарях в шлёпках”, обратите внимание на размеры демонстраций в поддержку Палестины в арабском мире, и задумайтесь, стоит ли подливать масло в этот костёр на бочке с порохом.
@dadakinder
👍91👎9👏6🙏4
Wonderlust King
Я часто загоняюсь, что до сих пор не защитил диссертацию, а если когда-то и защищу, то только когда мне будет под сорок, если не больше. Однако эти загоны частично прекратились, когда я недавно узнал, что один из основателей ревизионистской школы в изучении истории СССР Моше Левин был куда более безнадежным late bloomer’ом. Его биография тянет даже не на фильм, а на целый сериал, так что я перескажу только основные пункты, чтобы у вас сложилось первое впечатление.
Левин родился в Вильно – одном из главных городов компактного проживания ашкеназов, который переходил из рук в руки после крушения Романовых. Спасаясь от наступающих немецких танков, юный Левин бежал вглубь СССР, сидя на кузове армейского грузовика. Он пытался вступить в советскую армию, чтобы мстить нацистам, но на протяжении первых лет войны его не брали туда из-за дистрофии. Плюс играл и фактор недоверия властей к переселенцам из бывшей Польши. Пришлось набирать вес и доказывать свою состоятельность трудом сначала в тамбовском колхозе, а потом у доменной печи на уральском заводе. В конце концов, Левин все-таки поступил в советское офицерское училище, но повоевать толком так и не успел.
После войны началось увлечение сионизмом. Левин решил ехать в Израиль основывать кибуцы, писать журналистские статьи и одновременно участвовать в жизни социалистической партии «Мапам». Однако постепенно он понял, что таким, как он, романтикам не место в мире партийных коалиций и военных блоков. Уже глубоко за тридцать Левин решился еще на одну крутую смену жизненного маршрута: поступил учиться в Сорбонну, где заинтересовался работами школы «Анналов». Пытаясь как-то научно интерпретировать свой опыт в колхозе и кибуце, Левин занялся крестьянством, что потом станет его академическим брендом.
Защитившись в 41 год и немного поработав под началом Фернана Броделя в Практической школе высших исследований, Левин попал в США, где в то время существовал огромный запрос на экспертизу по СССР. Однако вместо лояльного эксперта американцы получили полемиста, который стал критиковать тамошние советологические подходы и предлагать анализировать историю снизу через классовые, демографические, институциональные факторы. Кроме того, политически Левин задним числом симпатизировал правому уклону в ВКП(б), что было далеко не самой радикальной точкой зрения по тем временам, но все равно шокировало консервативных американцев.
Далее именно нетривиальный подход Левина к историографии стал тем ледоколом, через который в американскую русистику устремились Шейла Фицпатрик и Рональд Суни. Но этого подхода никогда бы не сложилось без опыта доакадемического периода. Возможно, нам тоже стоит ценить наши прекарные приключения чуть больше. А диссертация когда-нибудь да и приложится.
Я часто загоняюсь, что до сих пор не защитил диссертацию, а если когда-то и защищу, то только когда мне будет под сорок, если не больше. Однако эти загоны частично прекратились, когда я недавно узнал, что один из основателей ревизионистской школы в изучении истории СССР Моше Левин был куда более безнадежным late bloomer’ом. Его биография тянет даже не на фильм, а на целый сериал, так что я перескажу только основные пункты, чтобы у вас сложилось первое впечатление.
Левин родился в Вильно – одном из главных городов компактного проживания ашкеназов, который переходил из рук в руки после крушения Романовых. Спасаясь от наступающих немецких танков, юный Левин бежал вглубь СССР, сидя на кузове армейского грузовика. Он пытался вступить в советскую армию, чтобы мстить нацистам, но на протяжении первых лет войны его не брали туда из-за дистрофии. Плюс играл и фактор недоверия властей к переселенцам из бывшей Польши. Пришлось набирать вес и доказывать свою состоятельность трудом сначала в тамбовском колхозе, а потом у доменной печи на уральском заводе. В конце концов, Левин все-таки поступил в советское офицерское училище, но повоевать толком так и не успел.
После войны началось увлечение сионизмом. Левин решил ехать в Израиль основывать кибуцы, писать журналистские статьи и одновременно участвовать в жизни социалистической партии «Мапам». Однако постепенно он понял, что таким, как он, романтикам не место в мире партийных коалиций и военных блоков. Уже глубоко за тридцать Левин решился еще на одну крутую смену жизненного маршрута: поступил учиться в Сорбонну, где заинтересовался работами школы «Анналов». Пытаясь как-то научно интерпретировать свой опыт в колхозе и кибуце, Левин занялся крестьянством, что потом станет его академическим брендом.
Защитившись в 41 год и немного поработав под началом Фернана Броделя в Практической школе высших исследований, Левин попал в США, где в то время существовал огромный запрос на экспертизу по СССР. Однако вместо лояльного эксперта американцы получили полемиста, который стал критиковать тамошние советологические подходы и предлагать анализировать историю снизу через классовые, демографические, институциональные факторы. Кроме того, политически Левин задним числом симпатизировал правому уклону в ВКП(б), что было далеко не самой радикальной точкой зрения по тем временам, но все равно шокировало консервативных американцев.
Далее именно нетривиальный подход Левина к историографии стал тем ледоколом, через который в американскую русистику устремились Шейла Фицпатрик и Рональд Суни. Но этого подхода никогда бы не сложилось без опыта доакадемического периода. Возможно, нам тоже стоит ценить наши прекарные приключения чуть больше. А диссертация когда-нибудь да и приложится.
👍91👏13🙏7🤝1
В нашей независимой медиа-конфедерации новые крутые участники! Есть среди них и академические каналы. Кроме того, обратите внимание, что наш любимый «Жижек дейли» теперь называется Radio Ljubljana. Не тревожьтесь. Символическое меняется – Реальное остается.
👍25