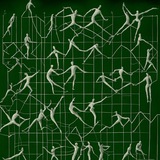Этюд в четырех тонах
Ура! Во вторник учебный год стартовал и для меня! Михаил за день до начала курса слегка ошарашил меня новостью, что в этом году настала моя очередь читать вводную лекцию. Пришлось срочно доставать из чулана замаринованные там квадратики. Правда, в этот раз они обрели содержание не через различия в базовых строительных блоках социального, а через ответ на проблемы в познании человека, поставленные еще стариком Кантом.
Фиолетовый и зеленый сектора – позитивистские, но различающиеся в акценте на верховенстве опыта над теорией, или наоборот. Красный критический и синий интерпретативный – вообще отрицающие единство естественнонаучного и социального познания, поэтому тем более требующие особой мыслительной выучки. Как бы там ни было, под каким социологическим стягом вы бы ни плавали, знать теорию нужно, хотя и использовать ее придется по-разному.
В ходе знакомства оказалось, что первокурсники этого года очень прошарены в теме. Кто-то ходил на специальные теоретические курсы, а у кого-то за плечами и целый социологический бакалавриат. Так что немецкими именами и терминами их было не испугать. Не испугались они и на следующей лекции – про раннего Дюркгейма. Надеюсь, мне удалось донести идею, что это, возможно, наиболее недооцененный классик, идеи которого никому не помешает хранить в своем чулане. Узнаем уже в следующий вторник, когда будем семинарить по поводу «Первобытных форм классификации».
Ну а сегодня у меня другой важный и ответственный день – отбор конкурсных заявок на онлайн-курс. Очень достойных писем пришло так много, что мне, видимо, придется слегка расширить число бюджетных мест. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников конкурса за проявленный интерес! Совсем скоро смогу назвать окончательный состав слушателей.
Ура! Во вторник учебный год стартовал и для меня! Михаил за день до начала курса слегка ошарашил меня новостью, что в этом году настала моя очередь читать вводную лекцию. Пришлось срочно доставать из чулана замаринованные там квадратики. Правда, в этот раз они обрели содержание не через различия в базовых строительных блоках социального, а через ответ на проблемы в познании человека, поставленные еще стариком Кантом.
Фиолетовый и зеленый сектора – позитивистские, но различающиеся в акценте на верховенстве опыта над теорией, или наоборот. Красный критический и синий интерпретативный – вообще отрицающие единство естественнонаучного и социального познания, поэтому тем более требующие особой мыслительной выучки. Как бы там ни было, под каким социологическим стягом вы бы ни плавали, знать теорию нужно, хотя и использовать ее придется по-разному.
В ходе знакомства оказалось, что первокурсники этого года очень прошарены в теме. Кто-то ходил на специальные теоретические курсы, а у кого-то за плечами и целый социологический бакалавриат. Так что немецкими именами и терминами их было не испугать. Не испугались они и на следующей лекции – про раннего Дюркгейма. Надеюсь, мне удалось донести идею, что это, возможно, наиболее недооцененный классик, идеи которого никому не помешает хранить в своем чулане. Узнаем уже в следующий вторник, когда будем семинарить по поводу «Первобытных форм классификации».
Ну а сегодня у меня другой важный и ответственный день – отбор конкурсных заявок на онлайн-курс. Очень достойных писем пришло так много, что мне, видимо, придется слегка расширить число бюджетных мест. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников конкурса за проявленный интерес! Совсем скоро смогу назвать окончательный состав слушателей.
👍47
Если и можно найти какой-то положительный момент во всем безумии, в котором мы вынуждены пребывать, то это повысившийся у широкой аудитории интерес к работам профессиональных социологов. Дмитрий Рогозин a.k.a. Иван Низгораев известен как ведущий специалист по проведению интервью, но теперь дал его сам. Рассказал и про академическую кухню, и про оставшиеся в стране каналы выражения общественного мнения, и про исследования старших поколений, и про многое многое другое. Да, и обязательно подписывайтесь на его канал. Там есть отличные заметки по всем этим темам, но без навязчивой мелодраматической музыки на фоне.
👍29👎2
Forwarded from Скажи Гордеевой
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Дмитрий Рогозин – один из самых авторитетных и влиятельных социологов России – герой нового выпуска #Скажи Гордеевой.
Это интервью – американские горки, только для интеллекта: следить за мыслью Рогозина – один из самых крутых опытов, случившихся с нашей командой за последнее время.
КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА ПРИЗНАНА МИНЮСТОМ РОССИИ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ
Мы благодарим Екатерину Шульман за подсказку героя интервью и Григория Юдина (он ученик Рогозина) – за помощь в подготовке к разговору.
Этот выпуск – тот редкий случай, когда я лично очень рекомендую досмотреть всё до конца и обещаю, что не пожалеете.
С Рогозиным мы говорим о том, как устроена социология, почему крайне вредно гоняться за однозначными ответами и чрезвычайно полезно не переставать задавать (в том числе, себе) вопросы, о том, существует ли абсолютное зло и как оно определимо. Чем ценна старость и как прожить максимально долго, причём здесь секс, существует ли старость и чем русские отличаются от всех остальных. И это – процентов двадцать интервью. Остальное – внутри ✌️
Это интервью – американские горки, только для интеллекта: следить за мыслью Рогозина – один из самых крутых опытов, случившихся с нашей командой за последнее время.
КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА ПРИЗНАНА МИНЮСТОМ РОССИИ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ
Мы благодарим Екатерину Шульман за подсказку героя интервью и Григория Юдина (он ученик Рогозина) – за помощь в подготовке к разговору.
Этот выпуск – тот редкий случай, когда я лично очень рекомендую досмотреть всё до конца и обещаю, что не пожалеете.
С Рогозиным мы говорим о том, как устроена социология, почему крайне вредно гоняться за однозначными ответами и чрезвычайно полезно не переставать задавать (в том числе, себе) вопросы, о том, существует ли абсолютное зло и как оно определимо. Чем ценна старость и как прожить максимально долго, причём здесь секс, существует ли старость и чем русские отличаются от всех остальных. И это – процентов двадцать интервью. Остальное – внутри ✌️
👍41👎1
Бюрократия умерла…
Еще одним заметным на неделе интервью с социологом стал разговор бывшей редакции «Кольты» с Эллой Панеях. Огромный респект команде, что они возрождаются и привлекают интересных спикеров. Их не хватало. Тем не менее, во время чтения разговора я испытал острейшее идеологическое расхождение с участниками, которое хочется немедленно артикулировать. Особенно учитывая, что через неделю у нас с магистрами пара по Веберу. Дело в том, что на протяжении интервью Панеях рукоплещет сетевым организациям, которые, по ее мнению, приходят на смену государственным бюрократиям и скоро заместят все их функции на новом уровне эффективности. «За иерархиями прошлое, за сетями будущее!» – лозунг, который отдельно объявляется.
Во-первых, весь пласт социологических исследований сетей, который накоплен за тридцать с лишним лет существования этого направления, уверенно говорит нам, что ровно одну функцию иерархий сети умеют выполнять едва ли не лучше своих предшественников – это производство неравенства. Неформальные клики зачастую строятся как раз на вытеснении по этническому или гендерному признаку. Брокеры, стригущие дивиденды за счет связей с разными кликами, легко манипулируют потоками информации, экономических капиталов и избирательно применяют санкции. Словом, полная горизонтальность – это, скорее, миф, чем реальность. (Тут еще должна быть шутка про кафе «Фрик», но я не успел ее придумать. Гоу в комменты, если у вас она есть.)
Во-вторых и в главных, а кто вообще сказал, что Россия – это страна победивших иерархий (бюрократий)? По мне как раз все ровно наоборот! Наше государство работает как сетевой картель: семейных кланов, одноклассников, однокашников, однополчан, озерных кооперативов, секций дзюдо и прочих фракталов. В нем все граждане горизонтальны, но некоторые более, чем другие. Да, я точно буду больше рад, если на месте сети бывших соратников Собчака окажется сеть объединенных редакций «Кольты», «Доксы» и «Сигмы», но, положа руку на сердце, вы уверены, что все проблемы недостойного правления будут тогда решены?
Формализм бюрократий – это то, чего, как мне кажется, в российском обществе как раз остро не хватает. Не хватает в государственных органах, которые работают, нарушая собственные же правила или применяя их как попало. Не хватает, как ни странно, и в низовых инициативах – профессиональных ассоциациях, профсоюзах, ТСЖ, НКО, где обычно нет никаких соблюдаемых уставов, прописанных прав и обязанностей членов. Словом, общественное значение бюрократии необходимо переосмыслить. И, конечно, взять лучшее от нее в Прекрасную Россию Будущего.
Еще одним заметным на неделе интервью с социологом стал разговор бывшей редакции «Кольты» с Эллой Панеях. Огромный респект команде, что они возрождаются и привлекают интересных спикеров. Их не хватало. Тем не менее, во время чтения разговора я испытал острейшее идеологическое расхождение с участниками, которое хочется немедленно артикулировать. Особенно учитывая, что через неделю у нас с магистрами пара по Веберу. Дело в том, что на протяжении интервью Панеях рукоплещет сетевым организациям, которые, по ее мнению, приходят на смену государственным бюрократиям и скоро заместят все их функции на новом уровне эффективности. «За иерархиями прошлое, за сетями будущее!» – лозунг, который отдельно объявляется.
Во-первых, весь пласт социологических исследований сетей, который накоплен за тридцать с лишним лет существования этого направления, уверенно говорит нам, что ровно одну функцию иерархий сети умеют выполнять едва ли не лучше своих предшественников – это производство неравенства. Неформальные клики зачастую строятся как раз на вытеснении по этническому или гендерному признаку. Брокеры, стригущие дивиденды за счет связей с разными кликами, легко манипулируют потоками информации, экономических капиталов и избирательно применяют санкции. Словом, полная горизонтальность – это, скорее, миф, чем реальность. (Тут еще должна быть шутка про кафе «Фрик», но я не успел ее придумать. Гоу в комменты, если у вас она есть.)
Во-вторых и в главных, а кто вообще сказал, что Россия – это страна победивших иерархий (бюрократий)? По мне как раз все ровно наоборот! Наше государство работает как сетевой картель: семейных кланов, одноклассников, однокашников, однополчан, озерных кооперативов, секций дзюдо и прочих фракталов. В нем все граждане горизонтальны, но некоторые более, чем другие. Да, я точно буду больше рад, если на месте сети бывших соратников Собчака окажется сеть объединенных редакций «Кольты», «Доксы» и «Сигмы», но, положа руку на сердце, вы уверены, что все проблемы недостойного правления будут тогда решены?
Формализм бюрократий – это то, чего, как мне кажется, в российском обществе как раз остро не хватает. Не хватает в государственных органах, которые работают, нарушая собственные же правила или применяя их как попало. Не хватает, как ни странно, и в низовых инициативах – профессиональных ассоциациях, профсоюзах, ТСЖ, НКО, где обычно нет никаких соблюдаемых уставов, прописанных прав и обязанностей членов. Словом, общественное значение бюрократии необходимо переосмыслить. И, конечно, взять лучшее от нее в Прекрасную Россию Будущего.
👍92👎2
Потерянное поколение
У Михаила Соколова есть простое, но крайне важное наблюдение об устройстве социологического канона, которое я хочу развить. Согласно ему, наиболее почитаемые нами авторы поделены на две группы. Сначала идут праотцы рубежа XIX–XX вв. Им мы готовы простить любые концептуальные противоречия, натяжки в наблюдениях и допотопные методы. Лишь бы иметь саму возможность возвести свой тезис к той или иной их большой идее, хоть и вольно растолкованной уже на нашем языке. Это, конечно, Вебер и Дюркгейм. Для многих Маркс. Часто еще Зиммель, Теннис или Мид. Назовем труды этой группы социологической патристикой, или S-Tier Classics.
Другая часть канона – это уже не праотцы, но отцы второй половины XX века. Мы подвергаем их концепции тщательной критике, сталкиваем их друг с другом, однако все-таки используем их теории как медиум профессиональной коммуникации. Бурдье – ходовая валюта сразу для нескольких субдисциплин. Грановеттер, Гоффман или Тилли тоже почти универсально конвертируемы. Будем считать их социологической схоластикой, или A-Tier Classics.
Между временем написания патристики и схоластики – перерыв в эпоху великих войн и революций. Эту эпоху в каноне по большому счету никто не представляет. Все из-за того, что к авторам этой группы мы применяем современные стандарты критики, но при этом отказываемся употреблять их словарь, считая его нерелеватным для нашей якобы куда более свободной и стабильной социальной реальности. Самый показательный пример этого вытеснения – Парсонс, обвиняемый во всех смертных академических грехах вплоть до криптофашизма.
Возможно, в таком надменном отношении и есть какая-то латентная социальная функция, но я решил начать свой онлайн-курс именно с разбора трех теоретиков, которые сейчас барахтаются где-то на маргиналиях канона. К Парсонсу я добавил еще Шюца и Адорно в качестве его самых музыкальных критиков. На мой взгляд, именно благодаря дебатам между этими тремя недоклассиками социологическая теория вообще пережила эту кризисную эпоху, хотя неблагодарные ученики потом поспешили сдать многое из них в архив, чтобы самими стать отцами. Как признали многие слушатели курса, словари у них еще вполне и вполне актуальны, а уж на въедливую критику у нас впереди еще десять недель.
У Михаила Соколова есть простое, но крайне важное наблюдение об устройстве социологического канона, которое я хочу развить. Согласно ему, наиболее почитаемые нами авторы поделены на две группы. Сначала идут праотцы рубежа XIX–XX вв. Им мы готовы простить любые концептуальные противоречия, натяжки в наблюдениях и допотопные методы. Лишь бы иметь саму возможность возвести свой тезис к той или иной их большой идее, хоть и вольно растолкованной уже на нашем языке. Это, конечно, Вебер и Дюркгейм. Для многих Маркс. Часто еще Зиммель, Теннис или Мид. Назовем труды этой группы социологической патристикой, или S-Tier Classics.
Другая часть канона – это уже не праотцы, но отцы второй половины XX века. Мы подвергаем их концепции тщательной критике, сталкиваем их друг с другом, однако все-таки используем их теории как медиум профессиональной коммуникации. Бурдье – ходовая валюта сразу для нескольких субдисциплин. Грановеттер, Гоффман или Тилли тоже почти универсально конвертируемы. Будем считать их социологической схоластикой, или A-Tier Classics.
Между временем написания патристики и схоластики – перерыв в эпоху великих войн и революций. Эту эпоху в каноне по большому счету никто не представляет. Все из-за того, что к авторам этой группы мы применяем современные стандарты критики, но при этом отказываемся употреблять их словарь, считая его нерелеватным для нашей якобы куда более свободной и стабильной социальной реальности. Самый показательный пример этого вытеснения – Парсонс, обвиняемый во всех смертных академических грехах вплоть до криптофашизма.
Возможно, в таком надменном отношении и есть какая-то латентная социальная функция, но я решил начать свой онлайн-курс именно с разбора трех теоретиков, которые сейчас барахтаются где-то на маргиналиях канона. К Парсонсу я добавил еще Шюца и Адорно в качестве его самых музыкальных критиков. На мой взгляд, именно благодаря дебатам между этими тремя недоклассиками социологическая теория вообще пережила эту кризисную эпоху, хотя неблагодарные ученики потом поспешили сдать многое из них в архив, чтобы самими стать отцами. Как признали многие слушатели курса, словари у них еще вполне и вполне актуальны, а уж на въедливую критику у нас впереди еще десять недель.
👍64
Я помню, как познакомился с Ильей в Фейсбучке, когда я еще был юным яблочником с интересами к советской истории, а он – куда более бывалым активистом РСД. Тогда наши взгляды на происходящее в стране сильно различались. С тех пор я изрядно полевел (к неудовольствию некоторых), а Илья (к такому же неудовольствию) стал более умеренным, но зато более основательным исследователем социального государства и государственных корпораций. Короче, очередная сверка часов со старшим коллегой прошла успешно. Это важно перед все сгущающимися тучами.
👍25
Forwarded from Рабкор
19 сентября в 19:00 пройдет стрим "Как разобраться в происходящем?"
У нас в гостях будет политолог и кандидат политических наук - Илья Матвеев. О политике и будем говорить
Всех ждем!
https://www.youtube.com/watch?v=-lrqYyG2fag&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%80
У нас в гостях будет политолог и кандидат политических наук - Илья Матвеев. О политике и будем говорить
Всех ждем!
https://www.youtube.com/watch?v=-lrqYyG2fag&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%80
YouTube
Как разобраться в происходящем? (Илья Матвеев, Борис Кагарлицкий)
На случай блокировки канала:
https://rabkor.ru/
https://t.iss.one/rabkor
https://t.iss.one/kagarlitsky
https://vk.com/rabkor_ru
https://discord.gg/nVbTwsuY
Предложить гостя и другие вопросы: [email protected]
Вы можете стать нашим спонсором и получить доступ к…
https://rabkor.ru/
https://t.iss.one/rabkor
https://t.iss.one/kagarlitsky
https://vk.com/rabkor_ru
https://discord.gg/nVbTwsuY
Предложить гостя и другие вопросы: [email protected]
Вы можете стать нашим спонсором и получить доступ к…
👍18
П@№*)ц н&(>й, б#$^ь!!1111
Ну что, коллеги? Ситуация, когда нет на уме никаких сложных слов из каких-нибудь классиков, а одна ненормативная лексика. Наверное, матюки – это вообще единственная теория, адекватная нашей социальной реальности. Они мощнее и точнее идей любых традиций, школ и квадратиков. Но я, тем не менее, попробую урезонить свои чувства и высказаться рационально.
Во-первых, согласен с коллегой Закотянским. Организационных, технических, инфраструктурных средств для проведения полномасштабных мобилизационных действий у нашего государства попросту нет. Вся компания приведет, скорее, к панике и хаосу в обществе, чем к дружному хождению строем. Однако это не особо хорошие новости сами по себе. На массовые уклонения и саботаж низовой бюрократии Кремль будет, скорее всего, отвечать судорожным расширением призывной франшизы и другими резкими действиями. Так что тем, у кого сейчас есть бронь по студенчеству или аспирантству, расслабляться не стоит.
Во-вторых, сейчас, конечно, многим не до этого – на повестке дела поважнее. Но все-таки скажу: видимо, не за горами новая большая волна ожесточений, регулировок и репрессий в науке и образовании. Сложно сказать, по кому конкретно будут бить, но будут. Первому игроку приготовиться, как говорил Томас Шеллинг.
Ну что, коллеги? Ситуация, когда нет на уме никаких сложных слов из каких-нибудь классиков, а одна ненормативная лексика. Наверное, матюки – это вообще единственная теория, адекватная нашей социальной реальности. Они мощнее и точнее идей любых традиций, школ и квадратиков. Но я, тем не менее, попробую урезонить свои чувства и высказаться рационально.
Во-первых, согласен с коллегой Закотянским. Организационных, технических, инфраструктурных средств для проведения полномасштабных мобилизационных действий у нашего государства попросту нет. Вся компания приведет, скорее, к панике и хаосу в обществе, чем к дружному хождению строем. Однако это не особо хорошие новости сами по себе. На массовые уклонения и саботаж низовой бюрократии Кремль будет, скорее всего, отвечать судорожным расширением призывной франшизы и другими резкими действиями. Так что тем, у кого сейчас есть бронь по студенчеству или аспирантству, расслабляться не стоит.
Во-вторых, сейчас, конечно, многим не до этого – на повестке дела поважнее. Но все-таки скажу: видимо, не за горами новая большая волна ожесточений, регулировок и репрессий в науке и образовании. Сложно сказать, по кому конкретно будут бить, но будут. Первому игроку приготовиться, как говорил Томас Шеллинг.
👍70👎3
Не трогай моих чертежей
Последние дни субъективно ощущаются мной как еще более плохо снятый ремейк конца февраля. К чтению новостных лент теперь добавилось изучение юридических тонкостей мобилизационных мероприятий и маршрутов выезда за границы РФ. В отличие от многих друзей, коллег, родственников и знакомых я не так остро ощущаю на себе риски, но все равно и страшно, и злобно, и тоскливо. (Ну и может, я просто непроходимо туп, если эти самые не риски не ощущаю.)
Ключевое отличие, которое и делает разницу, заключается в том, что сейчас у меня намного больше преподавательской нагрузки. Подготовка к семинарам и лекциям позволяет прямо реально отдыхать душой. Немного, но отдыхать. Не говоря уже об их проведении. Вот вчера в рамках онлайн-курса мы пробирались через тернии «Познания и интереса» Хабермаса, которым в середине 60-х гг. тогда еще совсем не старик закрыл для себя Positivismusstreit c Поппером, феноменологами и все тем же Адорно. А потом был краткий ликбез по поводу трансфера все тех же немецких концептуальных проблем через Атлантику к берегам исторической социологии мир-систем и сетей.
Хочется еще поблагодарить всех и за респонсы, и за работу на занятиях. В самом начале я воспринимал появление двух групп, скорее, как дополнительную нагрузку, а сейчас все ровно наоборот. «Не трогай моих чертежей!» – это, пожалуй, все, на что я вообще сейчас способен. Что останется после меня. Что возьму я с собой.
Последние дни субъективно ощущаются мной как еще более плохо снятый ремейк конца февраля. К чтению новостных лент теперь добавилось изучение юридических тонкостей мобилизационных мероприятий и маршрутов выезда за границы РФ. В отличие от многих друзей, коллег, родственников и знакомых я не так остро ощущаю на себе риски, но все равно и страшно, и злобно, и тоскливо. (Ну и может, я просто непроходимо туп, если эти самые не риски не ощущаю.)
Ключевое отличие, которое и делает разницу, заключается в том, что сейчас у меня намного больше преподавательской нагрузки. Подготовка к семинарам и лекциям позволяет прямо реально отдыхать душой. Немного, но отдыхать. Не говоря уже об их проведении. Вот вчера в рамках онлайн-курса мы пробирались через тернии «Познания и интереса» Хабермаса, которым в середине 60-х гг. тогда еще совсем не старик закрыл для себя Positivismusstreit c Поппером, феноменологами и все тем же Адорно. А потом был краткий ликбез по поводу трансфера все тех же немецких концептуальных проблем через Атлантику к берегам исторической социологии мир-систем и сетей.
Хочется еще поблагодарить всех и за респонсы, и за работу на занятиях. В самом начале я воспринимал появление двух групп, скорее, как дополнительную нагрузку, а сейчас все ровно наоборот. «Не трогай моих чертежей!» – это, пожалуй, все, на что я вообще сейчас способен. Что останется после меня. Что возьму я с собой.
👍92👎1
Когда и где заканчиваются границы
На фоне новостей о полной жести в региональных военкоматах в оппозиционных медиа начали осторожно припоминать роль Среднеазиатского восстания в качестве спускового крючка падения империи Романовых. Начал это, как я понимаю, Аббас Галлямов, а потом подхватили люди, предельно далекие от постколониального дискурса. Мне кажется, это маленький, но уверенный шаг не только в признании прогрессивной роли этнических меньшинств в нашей политической истории, но и в более позитивном прочтении эпохи больших революций как таковой.
Однако мне хочется обсудить тут более отвлеченный академический сюжет. Насколько я понимаю, самой значительной работой, которая отсчитывает начало гражданских войн в империи именно с бунтов против мобилизации и реквизиции в среднеазиатских колониях, является работа Джонатана Смила. Вот сейчас читаю ее и понимаю, что это, возможно, один из лучших примеров теоретической работы у историков, о которой мне известно. Речь идет не о построении навороченных метаконцепций, которые приняты у социологов, а именно о тончайшей нюансировке времени и пространства.
На первый взгляд, Смил повествует о всех тех же событиях, которые мы знаем со школы, а кто-то и из университета, но очень изящно меняет фокус с Петрограда, Москвы или там Крымского перешейка на огромный спектр восстаний, бунтов, сражений. С 1916 по 1926 гг. От Средней Азии до Дальнего Востока. Сам британский специалист и многие его коллеги, наверное, скажут, что нет в этом никакой особой теории. Надо просто следовать за различными документами и свидетельствами. Да, но нет. На самом деле сдвиги в понимании пространственно-временных рамок любого социального феномена – это куда более мощный и потенциально более абстрактный ход, чем кажется. Именно он ведет за собой переосмысление и понятия империи, и войны, и революции, и всего остального.
Подытоживая: в каждой социальной и гуманитарной дисциплине есть разные способы работы с языком. Социологам надо понимать, каковы эти способы, не ограничиваясь только своими собственными. Не только чтобы учиться у соседей, бла-бла-бла. Но и для того, чтобы популяризировать собственные работы среди них, переводя их на тамошний язык. Дисциплинарным холодным войнам предпочитать теплоту дипломатии и мягкой силы.
На фоне новостей о полной жести в региональных военкоматах в оппозиционных медиа начали осторожно припоминать роль Среднеазиатского восстания в качестве спускового крючка падения империи Романовых. Начал это, как я понимаю, Аббас Галлямов, а потом подхватили люди, предельно далекие от постколониального дискурса. Мне кажется, это маленький, но уверенный шаг не только в признании прогрессивной роли этнических меньшинств в нашей политической истории, но и в более позитивном прочтении эпохи больших революций как таковой.
Однако мне хочется обсудить тут более отвлеченный академический сюжет. Насколько я понимаю, самой значительной работой, которая отсчитывает начало гражданских войн в империи именно с бунтов против мобилизации и реквизиции в среднеазиатских колониях, является работа Джонатана Смила. Вот сейчас читаю ее и понимаю, что это, возможно, один из лучших примеров теоретической работы у историков, о которой мне известно. Речь идет не о построении навороченных метаконцепций, которые приняты у социологов, а именно о тончайшей нюансировке времени и пространства.
На первый взгляд, Смил повествует о всех тех же событиях, которые мы знаем со школы, а кто-то и из университета, но очень изящно меняет фокус с Петрограда, Москвы или там Крымского перешейка на огромный спектр восстаний, бунтов, сражений. С 1916 по 1926 гг. От Средней Азии до Дальнего Востока. Сам британский специалист и многие его коллеги, наверное, скажут, что нет в этом никакой особой теории. Надо просто следовать за различными документами и свидетельствами. Да, но нет. На самом деле сдвиги в понимании пространственно-временных рамок любого социального феномена – это куда более мощный и потенциально более абстрактный ход, чем кажется. Именно он ведет за собой переосмысление и понятия империи, и войны, и революции, и всего остального.
Подытоживая: в каждой социальной и гуманитарной дисциплине есть разные способы работы с языком. Социологам надо понимать, каковы эти способы, не ограничиваясь только своими собственными. Не только чтобы учиться у соседей, бла-бла-бла. Но и для того, чтобы популяризировать собственные работы среди них, переводя их на тамошний язык. Дисциплинарным холодным войнам предпочитать теплоту дипломатии и мягкой силы.
👍75👎2
Запахло важным
Вчера при посредничестве легендарной Лихининой провел в одной питерской школе «Разговоры о важном» с одиннадцатыми классами. Идеи у учителей по темам таких разговоров давно кончились. К тому же им за это особо не доплачивают. Так что спасаются приглашенными гостями. Лихинина вот уже устала рассказывать им про социальную историю искусства времен военного коммунизма (кстати, подписывайтесь на ее канал об этом). Теперь пришла моя очередь осуществлять гражданский долг.
Ну а что для меня самое важное? Конечно, наука социология! Вот и поговорили про нее. Школьники, конечно, больше интересовались, сколько баллов по общаге нужно набрать, если они захотят поступать на социологов. А еще – где работать и сколько можно получать. Я постарался им про все это ответить, но в нагрузку накинул еще несколько телег про Огюста Конта, Пьера Бурдье и разные школы сетевого анализа. Был рад, что последними заинтересовались даже некоторые скучающие на задних партах.
Пока бродил из кабинета в кабинет, заметил, как упоительны школьные запахи. Булки в столовой, мел у доски, деревянные полы в коридорах, даже свежевымытый хлоркой линолеум. Если позовут поговорить о самом важном еще, то обязательно приду!
Вчера при посредничестве легендарной Лихининой провел в одной питерской школе «Разговоры о важном» с одиннадцатыми классами. Идеи у учителей по темам таких разговоров давно кончились. К тому же им за это особо не доплачивают. Так что спасаются приглашенными гостями. Лихинина вот уже устала рассказывать им про социальную историю искусства времен военного коммунизма (кстати, подписывайтесь на ее канал об этом). Теперь пришла моя очередь осуществлять гражданский долг.
Ну а что для меня самое важное? Конечно, наука социология! Вот и поговорили про нее. Школьники, конечно, больше интересовались, сколько баллов по общаге нужно набрать, если они захотят поступать на социологов. А еще – где работать и сколько можно получать. Я постарался им про все это ответить, но в нагрузку накинул еще несколько телег про Огюста Конта, Пьера Бурдье и разные школы сетевого анализа. Был рад, что последними заинтересовались даже некоторые скучающие на задних партах.
Пока бродил из кабинета в кабинет, заметил, как упоительны школьные запахи. Булки в столовой, мел у доски, деревянные полы в коридорах, даже свежевымытый хлоркой линолеум. Если позовут поговорить о самом важном еще, то обязательно приду!
👍108👎2
Что скрывает рациональность
Коллега Шерстобитов обсуждает у себя на канале политическое поведение типового российского гражданина. Для этого он традиционно использует классический outillage mental из теории рационального выбора. Гражданин взвешивает огромные издержки и незначительные выгоды от участия в протесте и в итоге выбирает не коллективное действие, а индивидуальное бегство. Пока звучит логично. Правда, для того, чтобы контекстуализировать свои рассуждения и придать им убедительности, коллега внезапно достает из мешка deus ex machina – неравномерное распределение информации между различными группами населения РФ. В итоге оказывается, что информация как надиндивидуальный фактор детерминирует выбор отдельных граждан. На мой взгляд, это отличная иллюстрация главной проблемы с ТРВ.
Конечно, я не считаю, что объяснения в категориях инструментальной рациональности совсем не имеют смысла. В целом, никто не будет отрицать, что люди так или иначе преследуют определенные блага и пытаются выбирать между альтернативами. Скорее, мой поинт состоит в том, что такие объяснения хронически недостаточны. Сторонники рацчойса всегда вынуждены подпирать свои рассуждения костылями: уже названной информационной ассиметрией, институтами как правилами игры, обязательствами, доверием, способностью регуляторов применять санкции и т. д. и т. п. В противном случае абстракция отдельных индивидов всегда бы оставалась сухой абстракцией и мало что сообщала по сути. Словом, в каждой реалистичной модели на каком-то этапе появляется социальная реальность sui generis, без которой модель толком вообще не применима. Хотя это далеко не всегда открыто признается.
Что я предлагаю коллегам, которые в той или иной форме придерживаются ТРВ – так это перестать стесняться и совершить структуралистский каминг-аут. Пытаетесь ли вы объяснить поведение подлежащих к мобилизации граждан, самоубийственные решения автократа или предположить, в чьих интересах может быть подрыв трубопроводов – вам нужна идея социальной структуры. Хорошо, называйте ее институтами, сетями или как-то иначе. Попытки же идти радикальным путем и, словами Бурдье, взгромоздить голову мыслителя на туловище рядового социального агента будут приводить в лучшем случае к исследовательским банальностям, а в худшем – к сомнительным неолиберальным policy, круг за кругом усугубляющим степень атомизации общества.
Коллега Шерстобитов обсуждает у себя на канале политическое поведение типового российского гражданина. Для этого он традиционно использует классический outillage mental из теории рационального выбора. Гражданин взвешивает огромные издержки и незначительные выгоды от участия в протесте и в итоге выбирает не коллективное действие, а индивидуальное бегство. Пока звучит логично. Правда, для того, чтобы контекстуализировать свои рассуждения и придать им убедительности, коллега внезапно достает из мешка deus ex machina – неравномерное распределение информации между различными группами населения РФ. В итоге оказывается, что информация как надиндивидуальный фактор детерминирует выбор отдельных граждан. На мой взгляд, это отличная иллюстрация главной проблемы с ТРВ.
Конечно, я не считаю, что объяснения в категориях инструментальной рациональности совсем не имеют смысла. В целом, никто не будет отрицать, что люди так или иначе преследуют определенные блага и пытаются выбирать между альтернативами. Скорее, мой поинт состоит в том, что такие объяснения хронически недостаточны. Сторонники рацчойса всегда вынуждены подпирать свои рассуждения костылями: уже названной информационной ассиметрией, институтами как правилами игры, обязательствами, доверием, способностью регуляторов применять санкции и т. д. и т. п. В противном случае абстракция отдельных индивидов всегда бы оставалась сухой абстракцией и мало что сообщала по сути. Словом, в каждой реалистичной модели на каком-то этапе появляется социальная реальность sui generis, без которой модель толком вообще не применима. Хотя это далеко не всегда открыто признается.
Что я предлагаю коллегам, которые в той или иной форме придерживаются ТРВ – так это перестать стесняться и совершить структуралистский каминг-аут. Пытаетесь ли вы объяснить поведение подлежащих к мобилизации граждан, самоубийственные решения автократа или предположить, в чьих интересах может быть подрыв трубопроводов – вам нужна идея социальной структуры. Хорошо, называйте ее институтами, сетями или как-то иначе. Попытки же идти радикальным путем и, словами Бурдье, взгромоздить голову мыслителя на туловище рядового социального агента будут приводить в лучшем случае к исследовательским банальностям, а в худшем – к сомнительным неолиберальным policy, круг за кругом усугубляющим степень атомизации общества.
👍54👎2
Социологический котик
У легендарного Коретыча есть, на мой взгляд, блестящая концепция котика – субъекта, абсолютно индифферентного к окружающей реальности, но парадоксальным образом заставляющего эту реальность крутиться вокруг себя. Собственно, домашние кошки далеко не всегда обозначают свою привязанность к хозяевам, однако получают от людей не только кров и корм, но и огромное количество сторис и рилсов, заполонивших интернет. Коретыч идет дальше и пытается раскрыть применимость концепции, например, к абьюзивным отношениям политика-популиста и избирателя.
Во время сегодняшнего занятия по курсу я подумал, что есть один социолог, который идеально описывается как понятый таким образом котик. Это Эрвин Гоффман. Гоффман был совершенно не заинтересован в построении единой социологической теории. Однако все континентальные мастодонты от Лумана до Бурдье посвятили ему множество своих текстов. Гоффман не хотел создать собственную школу. Однако между его учениками и последователями десятки лет ведутся споры о том, кто лучше всего понял своего наставника. Гоффман не пытался претендовать на экспертизу в одной из отраслевых социологий. Однако специалисты по социологии медицины, социологии культуры, социологии права, etc. щедро ссылаются на его труды, находя там наблюдения о медицине, культуре, праву, etc.
Поразительным образом Гоффман постоянно дистанцировался от всех коллег, но при этом заставляет читать и перечитывать свои тексты, использовать придуманные им многочисленные метафоры социального, и, наконец, просто ссылаться в статьях, уже посмертно обретя себе огромный Хирш. Kinda brilliant, right? Вероятно, это котиковость Гоффмана объясняет, почему мне и многим другим он все-таки не настолько понятен и интересен. На мой вкус, собаки – таксы, самоеды, чау-чау и многие другие – намного привлекательнее котиков. С ними можно побегать, поваляться, тискануть и чесануть их хорошенько. Вот и в социологической теории мне хотелось бы от авторов чего-нибудь аналогичного.
У легендарного Коретыча есть, на мой взгляд, блестящая концепция котика – субъекта, абсолютно индифферентного к окружающей реальности, но парадоксальным образом заставляющего эту реальность крутиться вокруг себя. Собственно, домашние кошки далеко не всегда обозначают свою привязанность к хозяевам, однако получают от людей не только кров и корм, но и огромное количество сторис и рилсов, заполонивших интернет. Коретыч идет дальше и пытается раскрыть применимость концепции, например, к абьюзивным отношениям политика-популиста и избирателя.
Во время сегодняшнего занятия по курсу я подумал, что есть один социолог, который идеально описывается как понятый таким образом котик. Это Эрвин Гоффман. Гоффман был совершенно не заинтересован в построении единой социологической теории. Однако все континентальные мастодонты от Лумана до Бурдье посвятили ему множество своих текстов. Гоффман не хотел создать собственную школу. Однако между его учениками и последователями десятки лет ведутся споры о том, кто лучше всего понял своего наставника. Гоффман не пытался претендовать на экспертизу в одной из отраслевых социологий. Однако специалисты по социологии медицины, социологии культуры, социологии права, etc. щедро ссылаются на его труды, находя там наблюдения о медицине, культуре, праву, etc.
Поразительным образом Гоффман постоянно дистанцировался от всех коллег, но при этом заставляет читать и перечитывать свои тексты, использовать придуманные им многочисленные метафоры социального, и, наконец, просто ссылаться в статьях, уже посмертно обретя себе огромный Хирш. Kinda brilliant, right? Вероятно, это котиковость Гоффмана объясняет, почему мне и многим другим он все-таки не настолько понятен и интересен. На мой вкус, собаки – таксы, самоеды, чау-чау и многие другие – намного привлекательнее котиков. С ними можно побегать, поваляться, тискануть и чесануть их хорошенько. Вот и в социологической теории мне хотелось бы от авторов чего-нибудь аналогичного.
👍54👎3
Друзья, если в вашей семье есть школьники средних и старших классов, то обратите внимание на онлайн-курс коллеги Кондрашева в Лицее 2 Мюнхена. Саня не пересказывает официозные учебники, а умеет заинтересовать предметом и объяснить, зачем историю необходимо знать каждому сознательному человеку и гражданину. В курсе будут использованы как актуальные подходы из глобальной и экологической истории, так и проверенные советские анекдоты и постсоветские мемы.
👍23👎2
Forwarded from Гранатовый сок
Новости подкаста одной строкой: идей подкаст-проектов у меня много, есть пару начинаний, но нового контента пока для вас нет. Зато есть две другие новости: во-первых, всем привет из солнечного Казахстана!
Во-вторых, из-за последних событий я задержал анонс своего курса "Россия и Европа - ретроспективный взгляд на историю и культуру" на базе Лицея - прекрасного образовательного проекта в Мюнхене. Курс будет удалённый, так что подключаться можно откуда угодно. Ориентировочный возраст с 12 лет. Планируемое время занятий вторник 19.00 по берлинскому времени (но если вы хотите ходить, но время не подходит - напишите). Стартуем мы на следующей неделе, но можно присоединиться и немного позднее.
Вопросы можно задать в комментариях или личных сообщениях, а также по почте [email protected]
Мест пока что много!
Прошу репоста и распространить по всем заинтересованным людям.
Ссылка на страничку курса с красивыми картинками - https://lyzeum-muenchen.de/history
Во-вторых, из-за последних событий я задержал анонс своего курса "Россия и Европа - ретроспективный взгляд на историю и культуру" на базе Лицея - прекрасного образовательного проекта в Мюнхене. Курс будет удалённый, так что подключаться можно откуда угодно. Ориентировочный возраст с 12 лет. Планируемое время занятий вторник 19.00 по берлинскому времени (но если вы хотите ходить, но время не подходит - напишите). Стартуем мы на следующей неделе, но можно присоединиться и немного позднее.
Вопросы можно задать в комментариях или личных сообщениях, а также по почте [email protected]
Мест пока что много!
Прошу репоста и распространить по всем заинтересованным людям.
Ссылка на страничку курса с красивыми картинками - https://lyzeum-muenchen.de/history
Lyzeum 2
Европа и Россия — ретроспективный взгляд на историю и культуру
Идея курса — познакомить русскоязычных школьников из Европы и России с тем, как возник тот мир, в котором мы живём сейчас. Мы будем использовать ретроспективный подход, то есть смотреть в прошлое исходя из настоящего, отслеживая в обратном порядке, шаг за…
👍20👎2
Доброй ночи и удачи
Мои друзья и коллеги по ЕУ несколько месяцев назад начали необычный исследовательский проект «Наука сна». Они собирают сны военного времени. Когда проект только стартовал, мы обсуждали с ними возможные способы интерпретации всех собранных анкет. Сперва я подумал, что вообще не могу назвать ни одного текста по социологии сна. Как будто сон – это целиком и полностью вотчина психологов. Однако мне все же удалось вспомнить одно замечательное эссе, которым я тогда и поделился с коллегами, а теперь хочу про него написать здесь.
«Сон: социологическая интерпретация» было опубликовано еще в 1959 году в Acta Sociologica. Одним из авторов был Хариссон Уайт – будущий архитектор сетевого анализа, а тогда только молодой PhD in physics без четких карьерных перспектив. Другим соавтором был тоже крайне необычный персонаж Вильхельм Уберт – один из создателей норвежской социологии как дисциплины, а также активный член антинацистского сопротивления в прошлом и яркий публицист Рабочей партии на тот момент. Видимо, для обоих крепкий сон был чем-то недосягаемым. Но это уже я додумываю.
Эссе довольно длинное, пространное и разбито на целых две части в разных номерах журнала. Остановлюсь только на одном мотиве, который мне кажется наиболее привлекательным. Авторы предлагают вполне дюркгеймианскую концепцию экологии сна. Согласно ей, сон является вполне себе и социальным, а не только психологическим феноменом. Обстоятельства и условия, в которых человек может уснуть, тесно связаны с его ролью в обществе. Уберт и Уайт делают несколько наблюдений.
Первое из них о том, что время сна является одним из важных индикаторов социального неравенства. Матери спят намного меньше своих детей, прекарии – работников с лимитированным рабочим днем. Некоторые группы людей типа фельдшеров скорой помощи зарабатывают именно тем, что почти не спят. Ну а у кого-то вообще нет постоянного места, где можно было бы хотя бы вздремнуть. Второе наблюдение касается того, что совместный сон является важным способом конструирования групповых идентичностей. Вместе спят супруги в нуклеарной семье или вообще вся расширенная семья. Вместе спят школьники в интернате, пациенты в больнице.
Словом, если вы спите долго и не в одиночку, значит, ваш социальный статус довольно устойчив и высок. Можно вас поздравить. Если нет, то не стоит списывать все на индивидуальные проблемы, а лучше задуматься, справедливо ли устроена окружающая социальная реальность. Ну и в обоих случаях не повредит прислать свои сны социологам для исследования.
Мои друзья и коллеги по ЕУ несколько месяцев назад начали необычный исследовательский проект «Наука сна». Они собирают сны военного времени. Когда проект только стартовал, мы обсуждали с ними возможные способы интерпретации всех собранных анкет. Сперва я подумал, что вообще не могу назвать ни одного текста по социологии сна. Как будто сон – это целиком и полностью вотчина психологов. Однако мне все же удалось вспомнить одно замечательное эссе, которым я тогда и поделился с коллегами, а теперь хочу про него написать здесь.
«Сон: социологическая интерпретация» было опубликовано еще в 1959 году в Acta Sociologica. Одним из авторов был Хариссон Уайт – будущий архитектор сетевого анализа, а тогда только молодой PhD in physics без четких карьерных перспектив. Другим соавтором был тоже крайне необычный персонаж Вильхельм Уберт – один из создателей норвежской социологии как дисциплины, а также активный член антинацистского сопротивления в прошлом и яркий публицист Рабочей партии на тот момент. Видимо, для обоих крепкий сон был чем-то недосягаемым. Но это уже я додумываю.
Эссе довольно длинное, пространное и разбито на целых две части в разных номерах журнала. Остановлюсь только на одном мотиве, который мне кажется наиболее привлекательным. Авторы предлагают вполне дюркгеймианскую концепцию экологии сна. Согласно ей, сон является вполне себе и социальным, а не только психологическим феноменом. Обстоятельства и условия, в которых человек может уснуть, тесно связаны с его ролью в обществе. Уберт и Уайт делают несколько наблюдений.
Первое из них о том, что время сна является одним из важных индикаторов социального неравенства. Матери спят намного меньше своих детей, прекарии – работников с лимитированным рабочим днем. Некоторые группы людей типа фельдшеров скорой помощи зарабатывают именно тем, что почти не спят. Ну а у кого-то вообще нет постоянного места, где можно было бы хотя бы вздремнуть. Второе наблюдение касается того, что совместный сон является важным способом конструирования групповых идентичностей. Вместе спят супруги в нуклеарной семье или вообще вся расширенная семья. Вместе спят школьники в интернате, пациенты в больнице.
Словом, если вы спите долго и не в одиночку, значит, ваш социальный статус довольно устойчив и высок. Можно вас поздравить. Если нет, то не стоит списывать все на индивидуальные проблемы, а лучше задуматься, справедливо ли устроена окружающая социальная реальность. Ну и в обоих случаях не повредит прислать свои сны социологам для исследования.
👍72👎3
Доцент Круз
Решил отвлечься от геополитических новостей и академических обязанностей. Глянул новый Top Gun, собравший огромную кассу летом, но так и не показанный у нас. Быстро убедился, что отвлечься никак не удастся. Начнем с того, что Майлз Теллер на пляже – это просто… Рррр… Аф-аф-аф… Так, ладно… Давайте я возьму себя в руки и не наговорю еще на одну политическую статью.
У фильма есть две составляющих: макро и микро. Макро – это про то, что картина является одой американской гегемонии в мир-системе. По сюжету Теллер, Том Круз и все остальные пытаются разбомбить центр ядерной программы безымянного государства-изгоя, чьи обезличенные пилоты летают на Су-57. Уже такая завязка для меня проблематична. Если на Западе есть вопросы, почему у полупериферийных диктаторов столько ферштееров, то частичный ответ кроется, в том числе, в существовании вот таких фильмов.
Тем не менее я считаю, что при просмотре можно и даже желательно абстрагироваться от милитаризма и всерьез заценить микро-составляющую, которая и делает фильм симпатичным. По существу, он посвящен системе образования. Небольшое пространство авиационной учебки – это прекрасная метафора микрокосма школы, техникума или университета. Здесь есть все узнаваемые персонажи: токсичный мажор, сознательная отличница, клоун-раздолбай, научный руководитель с кризисом среднего возраста, душнейший декан, меценат из совета попечителей и мн. др.
Согласитесь, что мало бы кто посмотрел фильм про проблемы в коммуникации между учениками и их учителем, если бы он был снят про соцфак. Антураж же тотального института позволяет искусственно поднять ставки и показать, почему здоровые отношения в классе так важны для каждого человека, даже давно покинувшего свою альма-матер. Надеюсь, впрочем, что и про социологов такой же фильм когда-нибудь снимут. Например, про Гейдельбергский университет начала XX века. Я даже не против, если Макса Вебера там тоже сыграет Том Круз.
Решил отвлечься от геополитических новостей и академических обязанностей. Глянул новый Top Gun, собравший огромную кассу летом, но так и не показанный у нас. Быстро убедился, что отвлечься никак не удастся. Начнем с того, что Майлз Теллер на пляже – это просто… Рррр… Аф-аф-аф… Так, ладно… Давайте я возьму себя в руки и не наговорю еще на одну политическую статью.
У фильма есть две составляющих: макро и микро. Макро – это про то, что картина является одой американской гегемонии в мир-системе. По сюжету Теллер, Том Круз и все остальные пытаются разбомбить центр ядерной программы безымянного государства-изгоя, чьи обезличенные пилоты летают на Су-57. Уже такая завязка для меня проблематична. Если на Западе есть вопросы, почему у полупериферийных диктаторов столько ферштееров, то частичный ответ кроется, в том числе, в существовании вот таких фильмов.
Тем не менее я считаю, что при просмотре можно и даже желательно абстрагироваться от милитаризма и всерьез заценить микро-составляющую, которая и делает фильм симпатичным. По существу, он посвящен системе образования. Небольшое пространство авиационной учебки – это прекрасная метафора микрокосма школы, техникума или университета. Здесь есть все узнаваемые персонажи: токсичный мажор, сознательная отличница, клоун-раздолбай, научный руководитель с кризисом среднего возраста, душнейший декан, меценат из совета попечителей и мн. др.
Согласитесь, что мало бы кто посмотрел фильм про проблемы в коммуникации между учениками и их учителем, если бы он был снят про соцфак. Антураж же тотального института позволяет искусственно поднять ставки и показать, почему здоровые отношения в классе так важны для каждого человека, даже давно покинувшего свою альма-матер. Надеюсь, впрочем, что и про социологов такой же фильм когда-нибудь снимут. Например, про Гейдельбергский университет начала XX века. Я даже не против, если Макса Вебера там тоже сыграет Том Круз.
👍42👎3
Иметь хорошего врага лучше, чем плохого друга. Спасибо, что заставляли и еще долго будете заставлять с вами спорить по всем вопросам, месье.
👍31
Пиратам слава!
Хочу обратить ваше внимание на два важных свежих слива! Нет-нет, я говорю не о тех, которые о планах стратегического командования из Кремля, а лишь о тех, которые книжек на «Либген». Извините, если кого-то обнадежил.
Итак, первый слив – это «Структурное изменение публичной сферы» Юргена Хабермаса в русском переводе. Одно из немногих эмпирических исследований классика, и, возможно, именно оттого преодолевшее границы достаточно узкой тусовки теоретических социологов. Григорий Юдин пишет в своей рецензии, что перевести могли и более качественно. Но это лучше, чем совсем ничего.
Второй – это сборник статей, написанных вокруг и после дебатов Люка Болтански и Нэнси Фрейзер о значении социальной критики сегодня. Сами дебаты состоялись еще в 2014 году на французском, а вот эта коллекция переведена на английский год назад. Из других значимых участников присутствуют деколониальная феминистка Франсуаза Верже и автор популярного у нас учебника по соцтеории Филипп Коркюфф. Очень любопытно, как постбурдьевистские и постхабермасианские линии критической теории сталкиваются между собой, хотя сам пока прочитать не успел. Возможно, вы меня опередите.
Хочу обратить ваше внимание на два важных свежих слива! Нет-нет, я говорю не о тех, которые о планах стратегического командования из Кремля, а лишь о тех, которые книжек на «Либген». Извините, если кого-то обнадежил.
Итак, первый слив – это «Структурное изменение публичной сферы» Юргена Хабермаса в русском переводе. Одно из немногих эмпирических исследований классика, и, возможно, именно оттого преодолевшее границы достаточно узкой тусовки теоретических социологов. Григорий Юдин пишет в своей рецензии, что перевести могли и более качественно. Но это лучше, чем совсем ничего.
Второй – это сборник статей, написанных вокруг и после дебатов Люка Болтански и Нэнси Фрейзер о значении социальной критики сегодня. Сами дебаты состоялись еще в 2014 году на французском, а вот эта коллекция переведена на английский год назад. Из других значимых участников присутствуют деколониальная феминистка Франсуаза Верже и автор популярного у нас учебника по соцтеории Филипп Коркюфф. Очень любопытно, как постбурдьевистские и постхабермасианские линии критической теории сталкиваются между собой, хотя сам пока прочитать не успел. Возможно, вы меня опередите.
👍62👎1