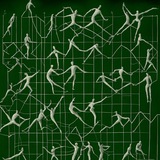«Ориенталисты» (набросок киносценария)
Часть 1: Асуанская плотина, 1956–1964
Владимир Строев – молодой политэконом из сибирской рабочей семьи. Играет на гитаре, сочиняет бардовские песни. Искренне верит, что ученый должен быть советским гражданином, а также в союз СССР и арабских стран. Быстро защитив кандидатскую в Институте востоковедения, он едет в командировку в Египет. Помогает планировать строительство объектов энергетики. Дружит со своим сверстником – журналистом Анваром, который приехал в Москву на стажировку в Институт общественных наук при ЦК КПСС. Желая помочь Владимиру подтянуть арабский, Анвар предлагает ему почитать томик Корана – подарок от умершего дяди-имама. Владимир смеется и отказывается учить язык по «феодальному пережитку». Анвар глубоко обижается, но не подает виду.
Вдохновленный Оттепелью, Владимир предлагает ленинскую теорию о переходе ближневосточных стран напрямую к коммунизму, минуя не только капитализм, но и социализм. Единственное условие – это полное устранение от власти всех армейских чинов и установление прямой рабочей демократии. Его начальник, директор сектора Николай Петрович Завалишин, прошедший лагеря и войну, отвергает эти идеи как «идеалистический уклон». Николай Петрович по-отечески симпатизирует Владимиру, но не хочет привлекать лишнее внимание к своему сектору. Черновик докторской диссертации о грядущем коммунизме в арабском мире отправляют «на доработку».
Жена Владимира, Юлия, из интеллигентной еврейской семьи. Она – младший научный сотрудник Института органической химии. Ее беспокоит антисионистская политика СССР. Владимир не понимает ее робких симпатий к Израилю. Юлия просит его помочь ей доделать ремонт в их комнате в общежитии, но Владимир проводит все время в библиотеке. Она делает ремонт сама. Во время очередной ссоры c Владимиром она бросает ему: «Ты никакой не ученый, а просто болторез партии!» Одновременно Анвару предлагают стать экспертом при новом министре экономики Египта. Тот ищет возможности заменить советских консультантов своими надежными кадрами, выходцами из духовенства.
Финал части: Владимир дома один. Слушает арабское радио. Делает заметки для книги «Проблемы индустриализации на Ближнем Востоке», которую пока продолжает писать в стол. Он уверен, что наверху скоро разберутся и позволят ему защититься. Юлия съехала к родителям. Анвар больше не отвечает на его письма.
Часть 1: Асуанская плотина, 1956–1964
Владимир Строев – молодой политэконом из сибирской рабочей семьи. Играет на гитаре, сочиняет бардовские песни. Искренне верит, что ученый должен быть советским гражданином, а также в союз СССР и арабских стран. Быстро защитив кандидатскую в Институте востоковедения, он едет в командировку в Египет. Помогает планировать строительство объектов энергетики. Дружит со своим сверстником – журналистом Анваром, который приехал в Москву на стажировку в Институт общественных наук при ЦК КПСС. Желая помочь Владимиру подтянуть арабский, Анвар предлагает ему почитать томик Корана – подарок от умершего дяди-имама. Владимир смеется и отказывается учить язык по «феодальному пережитку». Анвар глубоко обижается, но не подает виду.
Вдохновленный Оттепелью, Владимир предлагает ленинскую теорию о переходе ближневосточных стран напрямую к коммунизму, минуя не только капитализм, но и социализм. Единственное условие – это полное устранение от власти всех армейских чинов и установление прямой рабочей демократии. Его начальник, директор сектора Николай Петрович Завалишин, прошедший лагеря и войну, отвергает эти идеи как «идеалистический уклон». Николай Петрович по-отечески симпатизирует Владимиру, но не хочет привлекать лишнее внимание к своему сектору. Черновик докторской диссертации о грядущем коммунизме в арабском мире отправляют «на доработку».
Жена Владимира, Юлия, из интеллигентной еврейской семьи. Она – младший научный сотрудник Института органической химии. Ее беспокоит антисионистская политика СССР. Владимир не понимает ее робких симпатий к Израилю. Юлия просит его помочь ей доделать ремонт в их комнате в общежитии, но Владимир проводит все время в библиотеке. Она делает ремонт сама. Во время очередной ссоры c Владимиром она бросает ему: «Ты никакой не ученый, а просто болторез партии!» Одновременно Анвару предлагают стать экспертом при новом министре экономики Египта. Тот ищет возможности заменить советских консультантов своими надежными кадрами, выходцами из духовенства.
Финал части: Владимир дома один. Слушает арабское радио. Делает заметки для книги «Проблемы индустриализации на Ближнем Востоке», которую пока продолжает писать в стол. Он уверен, что наверху скоро разберутся и позволят ему защититься. Юлия съехала к родителям. Анвар больше не отвечает на его письма.
👍67👏7✍1
«Ориенталисты» (набросок киносценария)
Часть 2: Эхо империи, 1979–1991
Мират Валеев – проблемный аспирант Владимира. Меланхолический одиночка. Пишет диссертацию о критике буржуазной историографии Египта. Взахлеб читает статьи Валентина – французского историка, потомка русских эмигрантов, но члена Французской коммунистической партии.
Владимир часто приходит в институт нетрезвым. В разговорах со своим аспирантом он постоянно вспоминает убитого друга и эмигрировавшую бывшую жену. Так же он рекомендует Мирату больше интересоваться классикой политэкономии. Находя научное руководство Владимира бесполезным, Мират грезит о работе с Валентином. Он даже пишет ему письмо на французском языке, восторженно отзываясь о его исследованиях арабской культуры, но не отправляет. По мере работы над исследованием Мират все более осознает: советское востоковедение тоже несет в себе идеологию империализма, хотя пока не может выразить это даже эзоповым языком.
Молодой библиотекарь ИНИОН Лев, с которым они в столовой тихо смеются над анекдотами про номенлатурных работников и обсуждают книжные новинки, – один из немногих близких для Мирата людей в Москве. Мират украдкой любуется югославским свитером Льва, его походкой, его волосами. Однажды тот ловит на себе восхищенный взгляд Мирата и тепло улыбается в ответ. Во время одной кухонной попойки Мират хочет рассказать ему про письмо Валентину, про свои крамольные мысли о востоковедении да и вообще про все. Но так и не решается.
Тем временем, план диссертации Мирата даже с самыми мягкими формулировками отвергается. Одновременно его письмо Валентину, которое он хотел вот-вот отправить через коллег, пропадает. Владимир пытается отстоять Мирата перед директором, но у него ничего не получается. Приказ отдан откуда-то выше. Директор говорит, что не знает, откуда именно. Мирата выдавливают из института. Он возвращается домой к маме в Казань. Там его озаряет, что его приятель Лев связан с КГБ. Сидя в своей комнате, он пишет дневник, где разыгрывает диалоги с молодыми Владимиром, Юлией, Анваром, Валентином.
После прихода Горбачева к власти ему – тогда уже учителю в школе – позволяют вернуться к работе над диссертацией. Однако вместо нее он издает публицистическую книгу на основе свои казанских дневников. Он называет ее «Внутренняя империя». Мират надеется, что СССР еще можно реформировать в демократическом ключе, и его книга – это вклад в процесс Перестройки. Но его идеи мгновенно присваиваются антисоветскими политиками и интеллигентами. В прессе его с уважением называют «либеральным националистом», с чем он совершенно не согласен.
Финал части: Мирату приходит письмо из знаменитого французского издательства с предложением перевести книгу. Мират колеблется. В его голове проносится: «Сказал ли я что-то свое? Или я – просто эхо империи? Другой империи».
Часть 2: Эхо империи, 1979–1991
Мират Валеев – проблемный аспирант Владимира. Меланхолический одиночка. Пишет диссертацию о критике буржуазной историографии Египта. Взахлеб читает статьи Валентина – французского историка, потомка русских эмигрантов, но члена Французской коммунистической партии.
Владимир часто приходит в институт нетрезвым. В разговорах со своим аспирантом он постоянно вспоминает убитого друга и эмигрировавшую бывшую жену. Так же он рекомендует Мирату больше интересоваться классикой политэкономии. Находя научное руководство Владимира бесполезным, Мират грезит о работе с Валентином. Он даже пишет ему письмо на французском языке, восторженно отзываясь о его исследованиях арабской культуры, но не отправляет. По мере работы над исследованием Мират все более осознает: советское востоковедение тоже несет в себе идеологию империализма, хотя пока не может выразить это даже эзоповым языком.
Молодой библиотекарь ИНИОН Лев, с которым они в столовой тихо смеются над анекдотами про номенлатурных работников и обсуждают книжные новинки, – один из немногих близких для Мирата людей в Москве. Мират украдкой любуется югославским свитером Льва, его походкой, его волосами. Однажды тот ловит на себе восхищенный взгляд Мирата и тепло улыбается в ответ. Во время одной кухонной попойки Мират хочет рассказать ему про письмо Валентину, про свои крамольные мысли о востоковедении да и вообще про все. Но так и не решается.
Тем временем, план диссертации Мирата даже с самыми мягкими формулировками отвергается. Одновременно его письмо Валентину, которое он хотел вот-вот отправить через коллег, пропадает. Владимир пытается отстоять Мирата перед директором, но у него ничего не получается. Приказ отдан откуда-то выше. Директор говорит, что не знает, откуда именно. Мирата выдавливают из института. Он возвращается домой к маме в Казань. Там его озаряет, что его приятель Лев связан с КГБ. Сидя в своей комнате, он пишет дневник, где разыгрывает диалоги с молодыми Владимиром, Юлией, Анваром, Валентином.
После прихода Горбачева к власти ему – тогда уже учителю в школе – позволяют вернуться к работе над диссертацией. Однако вместо нее он издает публицистическую книгу на основе свои казанских дневников. Он называет ее «Внутренняя империя». Мират надеется, что СССР еще можно реформировать в демократическом ключе, и его книга – это вклад в процесс Перестройки. Но его идеи мгновенно присваиваются антисоветскими политиками и интеллигентами. В прессе его с уважением называют «либеральным националистом», с чем он совершенно не согласен.
Финал части: Мирату приходит письмо из знаменитого французского издательства с предложением перевести книгу. Мират колеблется. В его голове проносится: «Сказал ли я что-то свое? Или я – просто эхо империи? Другой империи».
👍45👏8💅5✍1
«Ориенталисты» (набросок киносценария)
Часть 3: justiceforsasha, 2019–2020
Антонина (Тоня) Синявская учится в НИУ ВШЭ, где должна писать магистерскую диссертацию по устной истории советского востоковедения. Ее формальный научный руководитель – проректор Мират. Внешне – саркастичная, внутренне – тревожная, она разрывается между скучной учебой и стрессовой работой в SMM.
Во время пандемии COVID-19 она проводит время в подаренной ей родителями однокомнатной квартире на окраине Санкт-Петербурга. Решив наконец приступить к написанию диссертации, Тоня пытается восстановить историю двух предыдущих поколений ученых. С помощью Саши, секретаря Мирата, ей удается организовать интервью в Zoom с Владимиром, живущим на пенсии в Подмосковье. Версии происходивших давным-давно событий у двух ветеранов востоковедения кардинально расходятся. Владимир случайно называет ее «Юлечкой», беспорядочно цитирует по памяти арабскую поэзию. Мират говорит в интервью куда более связно, но слишком гладко. Как будто в очередной раз выступает на Первом канале с критикой внешней политики США.
Тоня ведет с Сашей активную переписку уже за пределами темы магистерской, неловко флиртует, посылает мемы из политических пабликов. Саша в ответ шлет ей оцифрованные документы из личных архивов Владимира и Мирата. Тоня мечтает дождаться конца пандемии, чтобы поехать в Москву и сходить на настоящее свидание с Сашей. Однако постепенно Тоня начинает подозревать, что Саша фабрикует прошлое востоковедов, подменяя оцифрованные документы. Теперь она даже не уверена, что разговаривала с настоящим Владимиром.
Файл с предполагаемой диссертацией Тони превращается в огромный текст: сначала научный, потом дневниковый, потом драматический. Она включает туда цитаты из исследований Владимира и Валентина, воображаемые диалоги из записок Мирата, собственные сны и фрагменты своих бесед с терапевтом. Мират взбешен результатом. Он требует «объективности» и грозит выписать Тоню из своего большого коллективного гранта. Не выходя из своей квартиры, она пишет заявление об уходе из магистратуры.
Финал всего фильма: Тоня получает последний файл от Саши под названием «1971_09_YULIA». Старая оцифрованная аудиозапись: женский голос рассказывает о войне на Ближнем Востоке, противоречиях жизни при социализме и невозможности достижения научной истины. Тоня с интересом слушает ее во время своей первой постковидной поездки на метро. Затем она удаляет всю переписку и добавляет Сашу в черный список.
Часть 3: justiceforsasha, 2019–2020
Антонина (Тоня) Синявская учится в НИУ ВШЭ, где должна писать магистерскую диссертацию по устной истории советского востоковедения. Ее формальный научный руководитель – проректор Мират. Внешне – саркастичная, внутренне – тревожная, она разрывается между скучной учебой и стрессовой работой в SMM.
Во время пандемии COVID-19 она проводит время в подаренной ей родителями однокомнатной квартире на окраине Санкт-Петербурга. Решив наконец приступить к написанию диссертации, Тоня пытается восстановить историю двух предыдущих поколений ученых. С помощью Саши, секретаря Мирата, ей удается организовать интервью в Zoom с Владимиром, живущим на пенсии в Подмосковье. Версии происходивших давным-давно событий у двух ветеранов востоковедения кардинально расходятся. Владимир случайно называет ее «Юлечкой», беспорядочно цитирует по памяти арабскую поэзию. Мират говорит в интервью куда более связно, но слишком гладко. Как будто в очередной раз выступает на Первом канале с критикой внешней политики США.
Тоня ведет с Сашей активную переписку уже за пределами темы магистерской, неловко флиртует, посылает мемы из политических пабликов. Саша в ответ шлет ей оцифрованные документы из личных архивов Владимира и Мирата. Тоня мечтает дождаться конца пандемии, чтобы поехать в Москву и сходить на настоящее свидание с Сашей. Однако постепенно Тоня начинает подозревать, что Саша фабрикует прошлое востоковедов, подменяя оцифрованные документы. Теперь она даже не уверена, что разговаривала с настоящим Владимиром.
Файл с предполагаемой диссертацией Тони превращается в огромный текст: сначала научный, потом дневниковый, потом драматический. Она включает туда цитаты из исследований Владимира и Валентина, воображаемые диалоги из записок Мирата, собственные сны и фрагменты своих бесед с терапевтом. Мират взбешен результатом. Он требует «объективности» и грозит выписать Тоню из своего большого коллективного гранта. Не выходя из своей квартиры, она пишет заявление об уходе из магистратуры.
Финал всего фильма: Тоня получает последний файл от Саши под названием «1971_09_YULIA». Старая оцифрованная аудиозапись: женский голос рассказывает о войне на Ближнем Востоке, противоречиях жизни при социализме и невозможности достижения научной истины. Тоня с интересом слушает ее во время своей первой постковидной поездки на метро. Затем она удаляет всю переписку и добавляет Сашу в черный список.
👍54👏4✍1
Весенний марафон
Курс о Бурдье и его поле обернулся настоящим забегом на длинную дистанцию. Наверное, никогда я так еще умственно не напрягался, не выкладывался и не уставал в ходе занятий. Но одновременно никогда еще я не чувствовал какого-то… духовного роста, что ли… Не знаю даже, как описать это состояние социологического просветления после обсуждения не одного сложного текста, а целой их серии.
В ходе занятий я старался, чтобы слушатели разрушили для себя два распространенных стереотипа о социологической теории Бурдье. Во-первых, представление о нем как гранд-теоретике, сидящем на стуле в кабинете и спекулирующем о полях и габитусах. Это неправда. Бурдье – великий теоретик, но в первую очередь теоретик среднего уровня. Все его наиболее интересные концептуальные оппозиции заточены под конкретные поля: вкус к роскоши / вкус от нужды – под эмпирические исследования потребления, широкомасштабное / ограниченное производство – искусства, буржуазный / простонародный язык – образования и т. д.
Во-вторых, хотелось поколебать миф о Бурдье как о социологе социального пространства, диахронии, статики. Конечно, социальное время не настолько занимало его, как занимало оно Валлерстайна или Эбботта. Однако Бурдье с первых исследований много думал, как описать генезис полей целиком или траектории отдельных агентов. Социальное пространство у Бурдье постоянно искривляется и растягивается. Крестьяне вынуждены переезжать в город на заработки. Учителя идут преподавать не те дисциплины, которым их учили. Иммигранты женятся за пределами своих диаспор. Структура воспроизводится, но никогда не воспроизводится один к одному.
В общем, курс перезапустил мое восприятие общества, но, честно говоря, хочется из мира большой теории побыстрее возвратиться в мир длинной истории. Сейчас я наконец-то вернулся к написанию своей статьи об организационных реформах в советском востоковедении 1950–1960-х гг. Буду в ближайшее время выкладывать на канал не только только фикшн на эту тему, но и что-то посерьезнее.
Курс о Бурдье и его поле обернулся настоящим забегом на длинную дистанцию. Наверное, никогда я так еще умственно не напрягался, не выкладывался и не уставал в ходе занятий. Но одновременно никогда еще я не чувствовал какого-то… духовного роста, что ли… Не знаю даже, как описать это состояние социологического просветления после обсуждения не одного сложного текста, а целой их серии.
В ходе занятий я старался, чтобы слушатели разрушили для себя два распространенных стереотипа о социологической теории Бурдье. Во-первых, представление о нем как гранд-теоретике, сидящем на стуле в кабинете и спекулирующем о полях и габитусах. Это неправда. Бурдье – великий теоретик, но в первую очередь теоретик среднего уровня. Все его наиболее интересные концептуальные оппозиции заточены под конкретные поля: вкус к роскоши / вкус от нужды – под эмпирические исследования потребления, широкомасштабное / ограниченное производство – искусства, буржуазный / простонародный язык – образования и т. д.
Во-вторых, хотелось поколебать миф о Бурдье как о социологе социального пространства, диахронии, статики. Конечно, социальное время не настолько занимало его, как занимало оно Валлерстайна или Эбботта. Однако Бурдье с первых исследований много думал, как описать генезис полей целиком или траектории отдельных агентов. Социальное пространство у Бурдье постоянно искривляется и растягивается. Крестьяне вынуждены переезжать в город на заработки. Учителя идут преподавать не те дисциплины, которым их учили. Иммигранты женятся за пределами своих диаспор. Структура воспроизводится, но никогда не воспроизводится один к одному.
В общем, курс перезапустил мое восприятие общества, но, честно говоря, хочется из мира большой теории побыстрее возвратиться в мир длинной истории. Сейчас я наконец-то вернулся к написанию своей статьи об организационных реформах в советском востоковедении 1950–1960-х гг. Буду в ближайшее время выкладывать на канал не только только фикшн на эту тему, но и что-то посерьезнее.
👍76👏9
Отличные новости! Мы с легендарным Сюткиным теперь будем стримить раз в две недели по вторникам в 20:30 МСК. В планах – обсуждение французской теории, глобальной истории, и, конечно, важнейшего для нас искусства – футбола. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы не пропустить первый выпуск 29 апреля! Поговорим о взаимной пользе социальных наук и философии. Вопросы и предложения ждем в комментариях!
👏78💅18👍14🖕4👎2👌1
Структура наносит ответный удар pinned «Отличные новости! Мы с легендарным Сюткиным теперь будем стримить раз в две недели по вторникам в 20:30 МСК. В планах – обсуждение французской теории, глобальной истории, и, конечно, важнейшего для нас искусства – футбола. Подписывайтесь на наш канал в YouTube…»
Напрягая последние осколки памяти о физике, рассказал жене, в чем заключалась суть спора Альберта Эйнштейна и Нильса Бора и почему теория относительности подразумевает совершенно иной взгляд на физическую реальность, чем квантовая механика. Так перенапрягся, что в голову пришла аналогия между этими дебатами и взглядами на социальную структуру двух GOAT’ов послевоенной социологии: Пьера Бурдье и Харрисона Уайта. У одного социальное пространство едино, хоть и воспринимается по-разному разными агентами в зависимости от их «гравитации». У другого единой социальной реальности не существует: реальны только отдельные идентичности и их «суперпозиции», то есть потенциально разные способы образовывать сетевые отношения друг с другом. Очень жаль, что оба обменялись лишь небольшими сдержанными реверансами в адрес друг друга, но полноценного спора между Бурдье и Уайтом так и не случилось.
👍48👏10👌2
Первый «Спор факультетов» разгорится через полчаса! Наливайте чай и давайте к нам на огонек!
https://youtube.com/live/eTQqOCc5-68?feature=share
https://youtube.com/live/eTQqOCc5-68?feature=share
YouTube
Спор факультетов №1: О взаимной пользе наук
В первом выпуске Сюткин и Герасимов обсуждают, зачем философии – социология, а социологии – философия.
00:01:23 Начало
00:02:11 Сюткин несентиментально рассказывает про себя
00:05:03 Герасимов вспоминает, как на него повлиял Дерлугьян
00:08:54 Почему у обоих…
00:01:23 Начало
00:02:11 Сюткин несентиментально рассказывает про себя
00:05:03 Герасимов вспоминает, как на него повлиял Дерлугьян
00:08:54 Почему у обоих…
👍30👏16💅3👌1
Вчера Сюткин на стриме напомнил мне о другом нерешенном великом научном споре, но уже в биологии – между Стивеном Джеем Гулдом и Ричардом Докинзом. Первый отстаивал представление об эволюции жизни как о прерывистом макропроцессе, происходящем в масштабах большого времени и затрагивающем биогеоценозы целиком. Второй рассматривал тот же процесс с точки зрения механизмов наследования генов. В общем, взгляд палеонтолога против взгляда молекулярного биолога. Конечно, это не совсем гомологично позициям Бурдье и Уайта, но определенное сходство есть.
👍30👌4✍3
Шанинская теория
Совершенно отвратителен новый наезд на Шанинку. Извините, что не нашел время написать про это раньше. Я желаю всем своим коллегам, которые до сих пор там работают, пройти через эту ситуацию с наименьшими потерями. Понятно, что нынешнее время – это не 2018 год. Вероятность того, что наверху все откатят назад, как это было с Европейским университетом, крайне мала. Вместе с тем, как говорил великий Крис Хемсворт: «Асгард – это не место, а люди!» А сильных людей Шанинка выпустила достаточно, и еще достаточно выпустит!
Также понимаю, что сейчас не лучшее время критиковать то, что было сделано в Шанинке за все эти годы. Тем не менее, хочется эксплицировать свое скептическое отношение к двум, наверное, наиболее влиятельным вариантам работы с социологической теорией, возникшим в этом учебном заведении, но получившим известность далеко за его пределами. Мне кажется, что продолжение дебатов сейчас – это как раз лучший способ сохранить шанинское наследие.
Первая традиция, родоначальником которой является Александр Филиппов, рассматривает социологическую теорию и социологию в целом как исторически тупиковый отросток политической философии. Лучшими социологами в этой оптике оказываются разочаровавшиеся в позитивных науках фашизоиды вроде Шмитта, Фрайера и Шельски. Ладно-ладно, будем справедливы. Уважать можно еще позднего Вебера и даже некоторых леваков – в микродозах. Главное – чтобы никто из них не относился к претензиям социологии стать social science всерьез.
Другая традиция, проводником которой является Виктор Вахштайн, признает за социологической теорией автономию (респект за это!), однако зачем-то сводит ее к набору священных текстов, которые нужно всю жизнь «аналитически читать» – то есть фактически молиться на них и заниматься бесконечной экзегезой. В принципе, этот вариант мне даже чем-то симпатичен. Кроме одного: он уходит в другую крайность, полностью отрицая политическое измерение социальных наук.
Мне кажется, лучшей альтернативой обоим подходам является... в общем-то, отношение к социологической теории самого Теодора Шанина. Во-первых, не кланяться философам, а считать их равными себе. Во-вторых, не убегать от политической ответственности теоретика за общество. В-третьих – и, пожалуй, это главное – сохранять социологическую теорию в максимальной близости к социальной реальности. Проще говоря, к эмпирической социологии. Три очень простые максимы. Предлагаю их придерживаться – пока Асгард окончательно не освобожден от прихвостней Таноса.
Совершенно отвратителен новый наезд на Шанинку. Извините, что не нашел время написать про это раньше. Я желаю всем своим коллегам, которые до сих пор там работают, пройти через эту ситуацию с наименьшими потерями. Понятно, что нынешнее время – это не 2018 год. Вероятность того, что наверху все откатят назад, как это было с Европейским университетом, крайне мала. Вместе с тем, как говорил великий Крис Хемсворт: «Асгард – это не место, а люди!» А сильных людей Шанинка выпустила достаточно, и еще достаточно выпустит!
Также понимаю, что сейчас не лучшее время критиковать то, что было сделано в Шанинке за все эти годы. Тем не менее, хочется эксплицировать свое скептическое отношение к двум, наверное, наиболее влиятельным вариантам работы с социологической теорией, возникшим в этом учебном заведении, но получившим известность далеко за его пределами. Мне кажется, что продолжение дебатов сейчас – это как раз лучший способ сохранить шанинское наследие.
Первая традиция, родоначальником которой является Александр Филиппов, рассматривает социологическую теорию и социологию в целом как исторически тупиковый отросток политической философии. Лучшими социологами в этой оптике оказываются разочаровавшиеся в позитивных науках фашизоиды вроде Шмитта, Фрайера и Шельски. Ладно-ладно, будем справедливы. Уважать можно еще позднего Вебера и даже некоторых леваков – в микродозах. Главное – чтобы никто из них не относился к претензиям социологии стать social science всерьез.
Другая традиция, проводником которой является Виктор Вахштайн, признает за социологической теорией автономию (респект за это!), однако зачем-то сводит ее к набору священных текстов, которые нужно всю жизнь «аналитически читать» – то есть фактически молиться на них и заниматься бесконечной экзегезой. В принципе, этот вариант мне даже чем-то симпатичен. Кроме одного: он уходит в другую крайность, полностью отрицая политическое измерение социальных наук.
Мне кажется, лучшей альтернативой обоим подходам является... в общем-то, отношение к социологической теории самого Теодора Шанина. Во-первых, не кланяться философам, а считать их равными себе. Во-вторых, не убегать от политической ответственности теоретика за общество. В-третьих – и, пожалуй, это главное – сохранять социологическую теорию в максимальной близости к социальной реальности. Проще говоря, к эмпирической социологии. Три очень простые максимы. Предлагаю их придерживаться – пока Асгард окончательно не освобожден от прихвостней Таноса.
👍117👏27🙏14👎7🖕3👌1
Осуществляю второй заход на книги Евгения Примакова. Чувствую, что этот раз далеко не последний и даже не предпоследний, учитывая, сколько ветеран востоковедения на пенсии написал. Но вот что я уже заметил: если в тексте появляется фигура Сталина, то о ней почти всегда негативно. Если Ленина – то только пиетет. И как о революционере, и как о мыслителе. Примаков в нескольких местах почти цитирует «Империализм» как актуальный для него в 2016 году политэкономический трактат. Добавить к этому множество теплых воспоминаний о Ясире Арафате, и можно заподозрить, что пишет юный американский кампусовский левак, а не почетный член «Единой России». Just saying.
👍50👌9✍7👏4🖕2
Несгибаемый коллега Земцов. Топовая команда преподавателей. Обсуждение полевой работы. Берег Волги. Выглядит, как идеальное летнее времяпрепровождение для социологических гиков. Надо подаваться!
👍22🙏1
Forwarded from Лукошко ценностей
Мастерская исследования ценностей ЛШ открывает набор на полевую исследовательскую школу для студентов «Что такое труд?». Она будет проходить с 19 июля по 3 августа, в лагере на берегу Волги, в Тверской области.
Сезон посвящен феномену работы, как и зачем ее изучают социальные науки. На первой части школы — учебной — вместе с ведущими исследователями, Ростиславом Капелюшниковым, Дмитрием Рогозиным, Ольгой Пинчук, Евгением Варшавером и другими поговорим о социологии и этнографии труда, трудовых ценностях, рынке труда, социологии организаций, критике работы, успехе и неравенстве. Какие смыслы мы вкладываем в работу? Почему мы все чаще говорим о кризисе работы? Возможна ли работа за пределами рынка и плановой экономики?
Вторая часть школы — практическая. Студенты придумывает и делают собственные полевые исследования, а команда школы помогает с их воплощением.
Участие — конкурсное. Приоритет отдается студентам из региональных университетов. Заявки можно подать до 18 мая включительно
Все подробности — здесь
Сезон посвящен феномену работы, как и зачем ее изучают социальные науки. На первой части школы — учебной — вместе с ведущими исследователями, Ростиславом Капелюшниковым, Дмитрием Рогозиным, Ольгой Пинчук, Евгением Варшавером и другими поговорим о социологии и этнографии труда, трудовых ценностях, рынке труда, социологии организаций, критике работы, успехе и неравенстве. Какие смыслы мы вкладываем в работу? Почему мы все чаще говорим о кризисе работы? Возможна ли работа за пределами рынка и плановой экономики?
Вторая часть школы — практическая. Студенты придумывает и делают собственные полевые исследования, а команда школы помогает с их воплощением.
Участие — конкурсное. Приоритет отдается студентам из региональных университетов. Заявки можно подать до 18 мая включительно
Все подробности — здесь
👍23✍2👎1🙏1💅1
На днях пришло в голову, что мы живем в эпоху этакого Необарокко. По всему миру разочарование в коллективных движениях и больших идеологиях. Зато восход абсолютистских государств и массовой культуры, построенной на всепроникающей иронии. Оказалось, что недавно Александр Бикбов ровно на такую же тему прочитал лекцию на встрече с Борисом Клюшниковым. Однако, у гениев бурдьевистов мысли сходятся!
👌44👍22👏3👎2
Кстати, еще про Необарокко. Война между Индией и Пакистаном 1971 года – это одно из самых знаковых событий второй половины XX века, про которое почти никто не помнит. Религиозную диктатуру Яхья Хана поддержали одновременно США Никсона и Китай Мао. Одной из главных мотиваций обоих было насолить СССР. В принципе, эпоха холодных войн и деколонизаций и раньше рождала очень странные союзы. Но этот окончательно порвал с доминированием над умами коллективных трансцендентных идеологий и открыл двери в чистую геополитику.
👍43🙏10🤝4👏2
Оказывается, одним из первых, кто начал писать об Арнольде Тойнби в СССР, был востоковед Евгений Рашковский. Изначально книга про Тойнби и Восток 1976 года прошла почти незамеченной, но после начала войны в Афганистане цивилизационные идеи стали заходить не только специалистам, но и высшим партийным кругам. Книга начала цитироваться. Рашковский, кстати, интересен не только своими научными работами, но и тем, что был последователем Александра Меня. Возможно, его православие и интерес к Тойнби были тесно связаны. (Вы, наверное, уже поняли, что после долгого перерыва востоковедение вновь выходит на первый план на нашем канале!)
👍52👏3🤝3
НМДНИ
Человек, который научил меня любить историю – это Леонид Парфенов. Потягаться с ним может разве что Сид Мейер. Хотелось бы назвать кого-то более изысканного, но что есть, то есть. «Намедни. Наша эра» я пересмотрел в юношеском возрасте просто нереальное количество раз. Последний – лет десять назад. С тех пор за создателем следил мало. Вылезши из танка, обнаружил, что он доснял выпуски, посвященные СССР 1946–1960 гг. Как-то не решался их смотреть, опасаясь увидеть Парфенова совсем забронзовевшим, но под 9 мая решил дать ветерану телевидения шанс.
Оказалось, что зря боялся. Сильнейшая сторона Парфенова – это алхимическая комбинация иронии и ностальгии, которая до сих пор ему удается. Правда, в случае с позднесталинским временем материал уже сопротивляется такому творческому методу. Иронизировать по поводу Брежнева легко и весело, но по поводу Сталина – намного сложнее. Поэтому Парфенов часто срывается в очень простоватую антисоветчину в стиле агитации партии СПС, что его чуть более сложному раннему образу на пользу не идет.
Ностальгировать по тем повседневности и культуре легче, но только совсем старшим поколениям, которые вряд ли будут смотреть Парфенова. Тем более на YouTube. Такой миллениал, как я, еще может почувствовать какую-то связь с прошлым, когда ему рассказывают про происхождение песен, которые дед играл на баяне, или про игрушки, хранившиеся на чердаке дачи. Однако эта связь быстро ускользает. Но все равно спасибо, что и такая возможна. Особенно на чужбине.
Если резюмировать, то в качестве популярного введения в позднесоветскую историю приквел работает не хуже оригинала и его дополняет. Но советую все-таки на этом не останавливаться и изучать профессионально написанные монографии. С Парфеновым я пока не прощаюсь. На следующей неделе запланировал просмотр его самого первого документального фильма – «Дети XX съезда», снятого еще в Перестройку. Доложу, как только осилю.
Человек, который научил меня любить историю – это Леонид Парфенов. Потягаться с ним может разве что Сид Мейер. Хотелось бы назвать кого-то более изысканного, но что есть, то есть. «Намедни. Наша эра» я пересмотрел в юношеском возрасте просто нереальное количество раз. Последний – лет десять назад. С тех пор за создателем следил мало. Вылезши из танка, обнаружил, что он доснял выпуски, посвященные СССР 1946–1960 гг. Как-то не решался их смотреть, опасаясь увидеть Парфенова совсем забронзовевшим, но под 9 мая решил дать ветерану телевидения шанс.
Оказалось, что зря боялся. Сильнейшая сторона Парфенова – это алхимическая комбинация иронии и ностальгии, которая до сих пор ему удается. Правда, в случае с позднесталинским временем материал уже сопротивляется такому творческому методу. Иронизировать по поводу Брежнева легко и весело, но по поводу Сталина – намного сложнее. Поэтому Парфенов часто срывается в очень простоватую антисоветчину в стиле агитации партии СПС, что его чуть более сложному раннему образу на пользу не идет.
Ностальгировать по тем повседневности и культуре легче, но только совсем старшим поколениям, которые вряд ли будут смотреть Парфенова. Тем более на YouTube. Такой миллениал, как я, еще может почувствовать какую-то связь с прошлым, когда ему рассказывают про происхождение песен, которые дед играл на баяне, или про игрушки, хранившиеся на чердаке дачи. Однако эта связь быстро ускользает. Но все равно спасибо, что и такая возможна. Особенно на чужбине.
Если резюмировать, то в качестве популярного введения в позднесоветскую историю приквел работает не хуже оригинала и его дополняет. Но советую все-таки на этом не останавливаться и изучать профессионально написанные монографии. С Парфеновым я пока не прощаюсь. На следующей неделе запланировал просмотр его самого первого документального фильма – «Дети XX съезда», снятого еще в Перестройку. Доложу, как только осилю.
👍72👏11👎6🙏4💅4👌1
Георгий Дерлугьян считает, что мы, возможно, находимся на пороге цивилизационного коллапса, подобного одновременному разрушению Египетской, Хеттской и Критской держав XII в. до н. э. Это более интересное соображение, чем приевшиеся сравнения всех и вся со Сталиным и Гитлером, однако все равно есть с чем поспорить. Если хотите более оптимистичную всемирно-историческую аналитику, то присоединяйтесь ко второму выпуску наших бесед с легендарным Сюткиным в 21 МСК.
https://www.youtube.com/watch?v=Is0RJLG1M3k
https://www.youtube.com/watch?v=Is0RJLG1M3k
YouTube
Спор факультетов №2: О текущей исторической ситуации
Во втором выпуске Сюткин и Герасимов рассуждают, актуальны ли еще сегодня концепции капитализма, постмодернизма и тоталитаризма.
00:00:50 Начало
00:02:20 Наступает ли новая историческая фаза?
00:03:22 Взгляды Кодзина Каратани
00:06:50 Герасимов согласен…
00:00:50 Начало
00:02:20 Наступает ли новая историческая фаза?
00:03:22 Взгляды Кодзина Каратани
00:06:50 Герасимов согласен…
👍44👌3
Структура наносит ответный удар pinned «Георгий Дерлугьян считает, что мы, возможно, находимся на пороге цивилизационного коллапса, подобного одновременному разрушению Египетской, Хеттской и Критской держав XII в. до н. э. Это более интересное соображение, чем приевшиеся сравнения всех и вся со…»
Чей универсализм? Какая истина?
В чем я согласился с легендарным Сюткиным во время нашего стрима и важной дискуссии с его подписчиками? Для Антона в коротком XX веке существовало два универсализма со своими политиками истины: условно большой – коммунизм и условно малый – христианство. Первый раскололся на бернштейнианцев, ленинистов, маоистов и тысячи других цветов. Второй и вовсе представляет собой дисфункциональную и токсичную семью конфессий, враждующих с незапамятных времен. Оба постепенно рутинизировались и к 1989 году пришли в упадок. Однако в обоих есть важные зерна истины, которые необходимо усвоить, чтобы выйти за рамки консервативного гоббсианско-лейбницианского консенсуса и продолжить демократическую политику в XXI веке. So far, so good.
В чем я по-дружески хотел бы указать на ограничения такой картины? Сама постановка вопроса о диалектике двух универсализмов кажется мне спорной экстраполяцией проблем французских и итальянских левых интеллектуалов 1950–1970-х на всю мир-систему. С одной стороны, они ориентировались на социалистический лагерь. С другой – не могли не признавать заслуг христианских демократов в создании ООН и ЕС – еще живых интернациональных институтов, пришедших на смену уже мертвому к тому моменту Коминтерну. Думаю, именно из этой патовой ситуации современная континентальная философия уделяет столько внимания диалогу между последователями «Коммунистического манифеста» и Rerum novarum.
Кроме того, Антон, вслед за европейскими интеллектуалами, недооценивает еще два универсализма XX века, кажется, не признавая за ними даже претензий на политику истины. Во-первых, другой большой универсализм – вильсоновский либерализм – с его амбициями глобализации идей «Декларации независимости». Во-вторых, еще один малый – платформу африкано-азиатской солидарности, нашедшей наиболее завершенную форму в Движении неприсоединения. У последней нет единого катехизиса, но для риторического удобства можно считать таковым Hind Swaraj Махатмы Ганди.
Клеймить США как империю зла стало модно давно. Теперь это делают не только в Париже, Риме или Санкт-Петербурге, но и в самом Вашингтоне! Однако американский либерализм далеко не сразу стал узколобой идеологией материалистического индивидуализма. В его традиции легитимизируется революция, особое значение придается коллективным правам этнических и религиозных меньшинств. Без него не было бы победы над немецким нацизмом и, тем более, японским империализмом. Еще проще в европейских столицах отмахнуться от интернационализма Третьего мира, назвав его предвозвестником зашедшей в тупик политики идентичностей. Еще бы, ведь без него эти столицы не лишились бы своих империй!
Как и для Антона, для меня короткий XX век – это эпоха не только грандиозных трагедий, но и свершений. Я не считаю возможным сводить все его конфликты к жупелам тоталитаризма и империализма. Вместе с тем, главная проблема, на мой взгляд, несколько сложнее, чем недостроенные когда-то мосты между последними коммунистами и христианами. Увы, еще нужно копать туннели под Атлантикой и под Гималаями.
В чем я согласился с легендарным Сюткиным во время нашего стрима и важной дискуссии с его подписчиками? Для Антона в коротком XX веке существовало два универсализма со своими политиками истины: условно большой – коммунизм и условно малый – христианство. Первый раскололся на бернштейнианцев, ленинистов, маоистов и тысячи других цветов. Второй и вовсе представляет собой дисфункциональную и токсичную семью конфессий, враждующих с незапамятных времен. Оба постепенно рутинизировались и к 1989 году пришли в упадок. Однако в обоих есть важные зерна истины, которые необходимо усвоить, чтобы выйти за рамки консервативного гоббсианско-лейбницианского консенсуса и продолжить демократическую политику в XXI веке. So far, so good.
В чем я по-дружески хотел бы указать на ограничения такой картины? Сама постановка вопроса о диалектике двух универсализмов кажется мне спорной экстраполяцией проблем французских и итальянских левых интеллектуалов 1950–1970-х на всю мир-систему. С одной стороны, они ориентировались на социалистический лагерь. С другой – не могли не признавать заслуг христианских демократов в создании ООН и ЕС – еще живых интернациональных институтов, пришедших на смену уже мертвому к тому моменту Коминтерну. Думаю, именно из этой патовой ситуации современная континентальная философия уделяет столько внимания диалогу между последователями «Коммунистического манифеста» и Rerum novarum.
Кроме того, Антон, вслед за европейскими интеллектуалами, недооценивает еще два универсализма XX века, кажется, не признавая за ними даже претензий на политику истины. Во-первых, другой большой универсализм – вильсоновский либерализм – с его амбициями глобализации идей «Декларации независимости». Во-вторых, еще один малый – платформу африкано-азиатской солидарности, нашедшей наиболее завершенную форму в Движении неприсоединения. У последней нет единого катехизиса, но для риторического удобства можно считать таковым Hind Swaraj Махатмы Ганди.
Клеймить США как империю зла стало модно давно. Теперь это делают не только в Париже, Риме или Санкт-Петербурге, но и в самом Вашингтоне! Однако американский либерализм далеко не сразу стал узколобой идеологией материалистического индивидуализма. В его традиции легитимизируется революция, особое значение придается коллективным правам этнических и религиозных меньшинств. Без него не было бы победы над немецким нацизмом и, тем более, японским империализмом. Еще проще в европейских столицах отмахнуться от интернационализма Третьего мира, назвав его предвозвестником зашедшей в тупик политики идентичностей. Еще бы, ведь без него эти столицы не лишились бы своих империй!
Как и для Антона, для меня короткий XX век – это эпоха не только грандиозных трагедий, но и свершений. Я не считаю возможным сводить все его конфликты к жупелам тоталитаризма и империализма. Вместе с тем, главная проблема, на мой взгляд, несколько сложнее, чем недостроенные когда-то мосты между последними коммунистами и христианами. Увы, еще нужно копать туннели под Атлантикой и под Гималаями.
👍46👏5👌3👎1🖕1
Вышел из дома в полдень в поисках парикмахерской. Все варианты поблизости оказались закрыты. В итоге добрел аж до Чайна-тауна. В одном, все-таки работающем заведении, пожилой джентльмен, увидев меня, с радостью оторвался от просмотра ММА. Как только я показал ему свою фотографию со свадьбы, он сразу принялся за работу. Когда почти все было готово, он без предупреждения достал откуда-то мощнейший пылесос и стал чистить им мне нос, глаза, лоб, затем остальную голову и всю одежду. Потом на пальцах показал, сколько я ему должен. Справедливости ради, подстриг он меня хорошо! Жене понравилось!
🙏57👍27💅14👌4👎2👏1