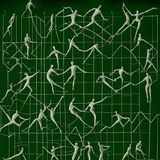Give War a Chance
Как и обещал, на этой неделе снова даю Бруно Латуру шанс понравиться мне через «Науку в действии». И снова фиксирую, что спустя два года мое отношение к нему стало куда более позитивным. Некоторые элементы письма Латура типа схематизаций или закрепления базовых мыслей в форме афоризмов вообще кажутся блестящими решениями для популярного изложения социологической теории. Наверное, знакомство с работами Моники Краузе и Гила Эйяла достаточно продемонстрировали, как акторно-сетевая теория может быть действительно полезной при изучении социального и гуманитарного знания.
Вместе с тем, теперь я даже острее стал чувствовать, как язык Латура несет в себе отпечаток атмосферы завершающего периода Холодной войны. В каком-то смысле «Наука в действии» – это настоящее признание в любви военно-промышленному комплексу. Столько образов и метафор из военного (союзники, враждебная среда, пункт обязательного прохождения…) или инженерного дела (сеть, черный ящик, неподвижный двигатель, вычислительный центр...) здесь используется, чтобы продать читателю идею, что наука – это борьба противоборствующих материальных сил.
Я не говорю, что весь образный язык необходимо полностью отбросить из-за сомнительного образного ряда. Сложно отрицать эвристические достижения такого подхода. Однако если растянуть этот язык до крайних случаев, то он сразу станет достаточно проблематичным. Представим, что есть математик, который работает над проблемами некоторой фундаментальной (в смысле не прикладной) отрасли типа топологии. С другой стороны, есть военный диктатор, который усмирил всех повстанцев с помощью новейших систем ракетного наведения, которое поставили ему союзники из Пентагона.
С точки зрения зрелой АСТ сеть первого куда менее протяженна и включает минимум нечеловеческих актантов по сравнению с сетью второго. Значит ли это, что военный диктатор куда в большей степени представитель науки, чем чистый математик? Я думаю, что ответ, к которому подталкивает нас «Наука в действии» (особенно последним методологическим правилом вовсе не искать когнитивных объяснений), будет: «Oui!». Увы, я не могу принять такой язык описания науки. Может, во мне говорит лишь наивный идеалист из Академгородка, но…
Как и обещал, на этой неделе снова даю Бруно Латуру шанс понравиться мне через «Науку в действии». И снова фиксирую, что спустя два года мое отношение к нему стало куда более позитивным. Некоторые элементы письма Латура типа схематизаций или закрепления базовых мыслей в форме афоризмов вообще кажутся блестящими решениями для популярного изложения социологической теории. Наверное, знакомство с работами Моники Краузе и Гила Эйяла достаточно продемонстрировали, как акторно-сетевая теория может быть действительно полезной при изучении социального и гуманитарного знания.
Вместе с тем, теперь я даже острее стал чувствовать, как язык Латура несет в себе отпечаток атмосферы завершающего периода Холодной войны. В каком-то смысле «Наука в действии» – это настоящее признание в любви военно-промышленному комплексу. Столько образов и метафор из военного (союзники, враждебная среда, пункт обязательного прохождения…) или инженерного дела (сеть, черный ящик, неподвижный двигатель, вычислительный центр...) здесь используется, чтобы продать читателю идею, что наука – это борьба противоборствующих материальных сил.
Я не говорю, что весь образный язык необходимо полностью отбросить из-за сомнительного образного ряда. Сложно отрицать эвристические достижения такого подхода. Однако если растянуть этот язык до крайних случаев, то он сразу станет достаточно проблематичным. Представим, что есть математик, который работает над проблемами некоторой фундаментальной (в смысле не прикладной) отрасли типа топологии. С другой стороны, есть военный диктатор, который усмирил всех повстанцев с помощью новейших систем ракетного наведения, которое поставили ему союзники из Пентагона.
С точки зрения зрелой АСТ сеть первого куда менее протяженна и включает минимум нечеловеческих актантов по сравнению с сетью второго. Значит ли это, что военный диктатор куда в большей степени представитель науки, чем чистый математик? Я думаю, что ответ, к которому подталкивает нас «Наука в действии» (особенно последним методологическим правилом вовсе не искать когнитивных объяснений), будет: «Oui!». Увы, я не могу принять такой язык описания науки. Может, во мне говорит лишь наивный идеалист из Академгородка, но…
👍40👎4👌2
Привилегии холодной войны
Внимание, квиз! Знаете ли вы, коммунистическая партия какой страны была третьей по численности в мире после СССР и Китая в начале 1960-х гг.? Количество ее членов достигало почти трех миллионов человек! Нет, это не ГДР и не Вьетнам. Северная Корея и Польша – тоже нет. Правильный ответ:Индонезия. Неожиданно! Я и сам был в неведении до сего дня. Впрочем, шутки в сторону. История этой партии была довольно трагической, о чем стоит кратко рассказать.
Политический режим в стране после деколонизации был устроен довольно хитро. В ней с трудом сосуществовали три массовые политические силы: коммунисты, исламисты и националистически ориентированная армия. Президент Сукарно служил нейтральным посредником между тремя крупнейшими партийными блоками внутри страны и одновременно добивался международного признания через Неприсоединение, таким образом лишь балансируя сложную архитектуру сдержек и противовесов.
Однако внешнеполитический курс Сукарно на сближение с Китаем в борьбе за британскую Малайзию и поддержка намерений Коммунистической партии Индонезии провести крупномасштабную земельную реформу нарушили хрупкий баланс сил. Индонезийский генералитет в ответ начал подковерные переговоры с США и инициировал поддержку праворадикальных молодежных движений. После неудавшегося военного переворота офицерским корпусом в сентябре 1965 года по стране прокатились массовые расправы над якобы сторонниками заговорщиков. Целью погромщиков были не только члены КПИ, но также индонезийские китайцы, неортодоксальные мусульмане, члены профсоюзов и женских организаций.
Даже по самым консервативным оценкам в Индонезии тогда погибло более 500 000 тысяч человек. Масштабные политические чистки не особо попали в фокус журналистов на Западе или в СССР. Однако для глобальной повестки оно было крайне значимо. Американские ястребы поняли, что диктаторы, опирающиеся на армию и религиозных радикалов, могут быть надежными союзниками в борьбе с левыми силами. Напротив, Мао лишний раз убедился, что мелкобуржуазным элементам доверять нельзя, даже если те объявляют тебе солидарность. Движение неприсоединения потеряло ключевого члена. Новая цепь насилия в Юго-Восточной Азии только начала раскручиваться. В итоге, для Третьего мира Холодная война так никогда и не стала холодной. Это была привилегия обитателей только Первого и Второго миров.
Внимание, квиз! Знаете ли вы, коммунистическая партия какой страны была третьей по численности в мире после СССР и Китая в начале 1960-х гг.? Количество ее членов достигало почти трех миллионов человек! Нет, это не ГДР и не Вьетнам. Северная Корея и Польша – тоже нет. Правильный ответ:
Политический режим в стране после деколонизации был устроен довольно хитро. В ней с трудом сосуществовали три массовые политические силы: коммунисты, исламисты и националистически ориентированная армия. Президент Сукарно служил нейтральным посредником между тремя крупнейшими партийными блоками внутри страны и одновременно добивался международного признания через Неприсоединение, таким образом лишь балансируя сложную архитектуру сдержек и противовесов.
Однако внешнеполитический курс Сукарно на сближение с Китаем в борьбе за британскую Малайзию и поддержка намерений Коммунистической партии Индонезии провести крупномасштабную земельную реформу нарушили хрупкий баланс сил. Индонезийский генералитет в ответ начал подковерные переговоры с США и инициировал поддержку праворадикальных молодежных движений. После неудавшегося военного переворота офицерским корпусом в сентябре 1965 года по стране прокатились массовые расправы над якобы сторонниками заговорщиков. Целью погромщиков были не только члены КПИ, но также индонезийские китайцы, неортодоксальные мусульмане, члены профсоюзов и женских организаций.
Даже по самым консервативным оценкам в Индонезии тогда погибло более 500 000 тысяч человек. Масштабные политические чистки не особо попали в фокус журналистов на Западе или в СССР. Однако для глобальной повестки оно было крайне значимо. Американские ястребы поняли, что диктаторы, опирающиеся на армию и религиозных радикалов, могут быть надежными союзниками в борьбе с левыми силами. Напротив, Мао лишний раз убедился, что мелкобуржуазным элементам доверять нельзя, даже если те объявляют тебе солидарность. Движение неприсоединения потеряло ключевого члена. Новая цепь насилия в Юго-Восточной Азии только начала раскручиваться. В итоге, для Третьего мира Холодная война так никогда и не стала холодной. Это была привилегия обитателей только Первого и Второго миров.
👍40🙏11✍3👏2
Я бы сказал, что социальные группы все-таки существуют. Просто являются частным случаем, когда несколько устойчивых категоризаций работают сообща, чтобы четко прочертить границы между теми, кто участвует в практиках, а кто – нет. Группы среди социальных практик – как кристаллы среди химических веществ: редкий, но тем еще более интересный феномен. И о чем мне интересно в этой связи думать – это сходства и различия между этническими категоризациями в массовой культуре и дисциплинарными в академии. Например, являются ли социологи всего лишь проштрафившимися антропологами? Или экономистами?
👍21🖕3
Forwarded from Ethnically Clean Ponds
Во введении к книге «Культивируя различия: символические границы и производство неравенства» Мишель Ламон и Марсель Фурнье – в первой же фразе – пишут следующее: «Если есть один единственный тезис, с которым согласятся все социологии культуры, то он состоит в том, что человечество не является единым обществом, а состоит из социальных групп, различающихся практиками, верованиями и институтами». Дело было в 1992 году. Книга часто цитируется в статьях про этничность. Но пройдет всего только 10 лет, и Брубекер напишет сначала статью (2002), а потом и книгу (2006) «Этничность без групп» (а в последнюю войдет и его статья «Этничность как познание», в журнале вышедшая в 2004 году) после которой согласие с этим тезисом оказывается невозможным, потому как, ребята, ну какие группы, ну какие границы – только категоризации, постоянно производящиеся и одновременно отлитые в институтах и практиках.
Почему не группы? Потому что а где они начинаются, а где заканчиваются? Эта метафора (хотя для большинства это не метафора, но даже если), тянет за собой идею цельности, а если говорить про группы людей – больших сходства и координированности и одновременно «отгороженности» и отличия от остальных, чем обычно имеют место. Почему не границы? Границы между чем и чем? И когда мы оказываемся в ситуации чуть более сложной, чем была в Сватской долине, где Барт изучал как пушуны, «проштрафившиеся» с точки зрения кодекса чести пуштунвэли, становятся белуджи, – например в современном городе, где категорий больше двух (а их обычно везде больше двух, и в Сватской долине тоже) – метафора перестает работать. Но именно этот путь и проделала социальная наука о различиях и, в частности, об этничности: от групп через границы к категоризациям. Подойдя в этот момент вплотную к тому, чем занимается когнитивистика, отчего большая коммуникация между социальными и когнитивными науками оказывается не блажью, а необходимостью.
Встает, впрочем, вопрос, а какие именно категоризации и категории являются этническими и не нужно ли как-то иначе подойти к этому вопросу, чем подходят даже «в лучших аудиториях»? Пока этот вопрос мы подвесим, а если хотите подумать о чем-то интересном в день народного единства – подумайте над тем, как различаются те категоризации, которые мы обычно называем этническими (например, по национальностям), и принципиально не-этнические, например, возрастные.
Lamont, Michèle, and Marcel Fournier, eds. Cultivating differences: Symbolic boundaries and the making of inequality. University of Chicago Press, 1992.
Brubaker, Rogers. Ethnicity without groups. Harvard university press, 2006.
Barth, Fredrik. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Waveland Press, 1998.
Почему не группы? Потому что а где они начинаются, а где заканчиваются? Эта метафора (хотя для большинства это не метафора, но даже если), тянет за собой идею цельности, а если говорить про группы людей – больших сходства и координированности и одновременно «отгороженности» и отличия от остальных, чем обычно имеют место. Почему не границы? Границы между чем и чем? И когда мы оказываемся в ситуации чуть более сложной, чем была в Сватской долине, где Барт изучал как пушуны, «проштрафившиеся» с точки зрения кодекса чести пуштунвэли, становятся белуджи, – например в современном городе, где категорий больше двух (а их обычно везде больше двух, и в Сватской долине тоже) – метафора перестает работать. Но именно этот путь и проделала социальная наука о различиях и, в частности, об этничности: от групп через границы к категоризациям. Подойдя в этот момент вплотную к тому, чем занимается когнитивистика, отчего большая коммуникация между социальными и когнитивными науками оказывается не блажью, а необходимостью.
Встает, впрочем, вопрос, а какие именно категоризации и категории являются этническими и не нужно ли как-то иначе подойти к этому вопросу, чем подходят даже «в лучших аудиториях»? Пока этот вопрос мы подвесим, а если хотите подумать о чем-то интересном в день народного единства – подумайте над тем, как различаются те категоризации, которые мы обычно называем этническими (например, по национальностям), и принципиально не-этнические, например, возрастные.
Lamont, Michèle, and Marcel Fournier, eds. Cultivating differences: Symbolic boundaries and the making of inequality. University of Chicago Press, 1992.
Brubaker, Rogers. Ethnicity without groups. Harvard university press, 2006.
Barth, Fredrik. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Waveland Press, 1998.
👍21
Déjà Vu
Блин, чот накатило воспоминание, как предыдущую победу Трампа я застал промозглым питерским утром на паре по количественным методам. Как сейчас помню, пытаемся с коллегой Шубиным записывать лекцию про коэффициент Пирсона и параллельно шепчемся, что же теперь будет с родиной и с нами. Господи, восемь лет прошло! Когда успели?
Сейчас сидим с легендарной Лихининой тоже усталые и сонные. Она читает про этнические чистки в Галиции к завтрашней паре по сравнительным национализмам, а я пишу промежуточное эссе про советскую экспертизу о странах Азии и Африки. Армии дедлайнов сурово приближаются. Время от времени поглядываем, как там Мичиган: подсчитали уже все или нет?
Что-то меняется, а что-то всегда остается совершенно неизменным. Пережили один раз – значит, и второй переживем. Не помню, кто из великих это сказал: Пирсон, Шубин или Примаков. Но смысл примерно такой.
Блин, чот накатило воспоминание, как предыдущую победу Трампа я застал промозглым питерским утром на паре по количественным методам. Как сейчас помню, пытаемся с коллегой Шубиным записывать лекцию про коэффициент Пирсона и параллельно шепчемся, что же теперь будет с родиной и с нами. Господи, восемь лет прошло! Когда успели?
Сейчас сидим с легендарной Лихининой тоже усталые и сонные. Она читает про этнические чистки в Галиции к завтрашней паре по сравнительным национализмам, а я пишу промежуточное эссе про советскую экспертизу о странах Азии и Африки. Армии дедлайнов сурово приближаются. Время от времени поглядываем, как там Мичиган: подсчитали уже все или нет?
Что-то меняется, а что-то всегда остается совершенно неизменным. Пережили один раз – значит, и второй переживем. Не помню, кто из великих это сказал: Пирсон, Шубин или Примаков. Но смысл примерно такой.
🤝71👍11🖕5👌2🙏1
Эндрю Эбботт – уникальный социолог по тысяче разных причин. Но если поднапрячься и выделить одну самую важную – это то, как он органично объединяет в своем проекте по социологии знания анализ дисциплинарных культур с рекомендациями для студентов по написанию текстов. Первая исследовательская составляющая еще худо-бедно известна, но про вторую – практическую – вообще мало кто знает. Так что всегда очень приятно видеть его в таких топах!
👍30
Forwarded from narrate don't explain
Этой осенью число читателей этого блога увеличилось. Спасибо вам — мне это очень приятно. Хотя новых идей для постов пока нет, я решила как-то суммировать свои знания о литературе по академическому письму. Возможно, кому-то окажется полезно.
Сейчас дефицита такой литературы нет, но разобраться в ней может оказаться сложно. Я подумала, что весь корпус текстов можно разбить на три плюс одну категорию.
Первая группа книг - это условно книги про то, “как быть ученым”, как ставить вопросы и отвечать на них в текстах так, чтобы эти тексты хотелось читать. Фокус здесь - не только на письме, хотя про это тоже много, но вообще на всю организацию исследовательского проекта и процесса.
Becker, H. S. (2007). Writing for Social Scientist. Chicago and London: Chicago University Press.
Книга Беккера предназначена для более зрелых молодых академических писателей, которые работают, возможно, над своим вторым, третьим и последующими проектами и по-прежнему испытывают растерянность перед своими данными, перед тем, что обнаруживается или не обнаруживается в литературе, кто чувствует себя заблудившимся в лесу теорий и утонувшим под грузом других, не академических обязательств. Беккер, обращаясь к своему опыту и опыту коллег, нормализует эти чувства, показывает на своем и чужих примерах, как выходил из разных сложных ситуаций и дает очень практичные рабочие советы.
Abbott, A. (2004). Methods of Discovery: Heuristics for the Social Sciences. New York: W.W. Norton & Company.
Это очень важная книга о том, как формулировать вопросы. С нее полезно начинать новый исследовательский проект, чтобы правильно задать вопрос; к ней полезно вернуться в середине, чтобы скорректировать свой поиск; и в конце — чтобы понять, что же я такого наисследовал и почему концы с концами не сходятся. Иногда исследование и написанный текст значительно уводят автора от изначальной задумки. И если слов написано уже много, а смысла в них вы не видите и текст не складывается, возможно, будет полезно пройтись по каждой эвристике, описанной Эбботом, и задать себе вопрос: “А что, если я приложу к этим данным четыре причины Аристотеля? А что, если посмотрю на них с точки зрения категорий Канта? А может, взглянуть на них через мотивы Берка?” Краткое изложение Эбботом различных риторических приёмов значительно помогает формулировать вопросы к своему тексту и данным и, в конечном итоге, помогает заострить собственный исследовательский вопрос. Ну, по крайней мере, мне это однажды помогло: когда я несколько дней крутила свое исследование вокруг этих вопросов, до меня дошло, что именно я хочу сказать.
Эко, У. (2003). Как написать дипломную работу. Москва: Книжный дом Университет.
Хотя эта книга больше напоминает третью группу — практические советы о том, как написать текст, в ней есть нечто большее — рассказ об опыте выдающегося ученого, изложенный очень простым языком. И хотя рекомендации Эко о том, как ходить в библиотеку и вести карточки на книги, могут показаться сегодня немного устаревшими (как и глава в книге Беккера “Пишем на компьютере”), главное, чему она учит, — научному смирению.
Вторую категорию книг я бы назвала “Слова и предложения”. Это книги про стиль, про то как делать “красиво”.
Таких книг очень много. Моя первая была
Williams, J. M. (2013). Style Lessons in Clarity and Grace. New York: Pearson Longman.
Именно на полях этой книги появился отчаянный призыв к самой себе: “narrate, don’t explain”, который я вынесла в заглавие этого канала. Это книги о выборе тона, о модальности текста. Не то чтобы в академической среде допустимо большое разнообразие в этом смысле. Но всегда приятно читать тексты, написанные хорошим языком. Мне кажется, что научиться этому невозможно, но можно немного поднять внутренние стандарты.
Сейчас дефицита такой литературы нет, но разобраться в ней может оказаться сложно. Я подумала, что весь корпус текстов можно разбить на три плюс одну категорию.
Первая группа книг - это условно книги про то, “как быть ученым”, как ставить вопросы и отвечать на них в текстах так, чтобы эти тексты хотелось читать. Фокус здесь - не только на письме, хотя про это тоже много, но вообще на всю организацию исследовательского проекта и процесса.
Becker, H. S. (2007). Writing for Social Scientist. Chicago and London: Chicago University Press.
Книга Беккера предназначена для более зрелых молодых академических писателей, которые работают, возможно, над своим вторым, третьим и последующими проектами и по-прежнему испытывают растерянность перед своими данными, перед тем, что обнаруживается или не обнаруживается в литературе, кто чувствует себя заблудившимся в лесу теорий и утонувшим под грузом других, не академических обязательств. Беккер, обращаясь к своему опыту и опыту коллег, нормализует эти чувства, показывает на своем и чужих примерах, как выходил из разных сложных ситуаций и дает очень практичные рабочие советы.
Abbott, A. (2004). Methods of Discovery: Heuristics for the Social Sciences. New York: W.W. Norton & Company.
Это очень важная книга о том, как формулировать вопросы. С нее полезно начинать новый исследовательский проект, чтобы правильно задать вопрос; к ней полезно вернуться в середине, чтобы скорректировать свой поиск; и в конце — чтобы понять, что же я такого наисследовал и почему концы с концами не сходятся. Иногда исследование и написанный текст значительно уводят автора от изначальной задумки. И если слов написано уже много, а смысла в них вы не видите и текст не складывается, возможно, будет полезно пройтись по каждой эвристике, описанной Эбботом, и задать себе вопрос: “А что, если я приложу к этим данным четыре причины Аристотеля? А что, если посмотрю на них с точки зрения категорий Канта? А может, взглянуть на них через мотивы Берка?” Краткое изложение Эбботом различных риторических приёмов значительно помогает формулировать вопросы к своему тексту и данным и, в конечном итоге, помогает заострить собственный исследовательский вопрос. Ну, по крайней мере, мне это однажды помогло: когда я несколько дней крутила свое исследование вокруг этих вопросов, до меня дошло, что именно я хочу сказать.
Эко, У. (2003). Как написать дипломную работу. Москва: Книжный дом Университет.
Хотя эта книга больше напоминает третью группу — практические советы о том, как написать текст, в ней есть нечто большее — рассказ об опыте выдающегося ученого, изложенный очень простым языком. И хотя рекомендации Эко о том, как ходить в библиотеку и вести карточки на книги, могут показаться сегодня немного устаревшими (как и глава в книге Беккера “Пишем на компьютере”), главное, чему она учит, — научному смирению.
Вторую категорию книг я бы назвала “Слова и предложения”. Это книги про стиль, про то как делать “красиво”.
Таких книг очень много. Моя первая была
Williams, J. M. (2013). Style Lessons in Clarity and Grace. New York: Pearson Longman.
Именно на полях этой книги появился отчаянный призыв к самой себе: “narrate, don’t explain”, который я вынесла в заглавие этого канала. Это книги о выборе тона, о модальности текста. Не то чтобы в академической среде допустимо большое разнообразие в этом смысле. Но всегда приятно читать тексты, написанные хорошим языком. Мне кажется, что научиться этому невозможно, но можно немного поднять внутренние стандарты.
👍51
К Востоку Ленина, к Востоку Маркса
Классики марксизма-ленинизма массово издавались в СССР с момента основания государства, но реально их читал только ограниченный круг партийных интеллектуалов, которых к тому же основательно прорядили репрессии. Остальным гражданам предлагалось знакомство только с избранными цитатами в Кратком курсе под редакцией вождя народов. Легитимизировать обновленную академическую дисциплину ссылками на этот официоз в оттепельные годы было невозможно, поэтому востоковеды неожиданно для себя оказались одними из важнейших движущих сил по пересозданию марксистско-ленинского канона.
Важнейшим возвращенным в оборот первоисточником стал «Империализм» Ленина, из которого можно было вытащить и идею мирового (сейчас бы сказали – глобального) капиталистического рынка, и неравномерности развития формаций. Обе идеи были важны, разумеется, не только академически, но и политически. Теперь можно было открыто критиковать прежний курс за фетишизацию рабочих движений Западной Европы и игнорирование вопросов развития Третьего мира. Введение в оборот труда Ленина взяли на себя выжившие «меньшевики» и «троцкисты», реабилитированные по инициативе Микояна и собранные его зятем в ИМЭМО. Среди них большую роль играл Ростислав Ульяновский, специалист по деколонизации Индии, прошедший Воркуту.
Другим важным событием стало дополненное издание собраний Маркса и Энгельса, в которое вошли многие работы, ранее вообще не переведенные на русский язык. Отдельным хитом среди них были экономические рукописи Маркса 1857–1859 гг., также известные как Grundrisse. Основной вклад в знакомство советского читателя с взглядами классиков на общества Востока проделал Михаил Виткин, который раньше других прочитал «Рукописи» по-немецки и прокомментировал в своей ставшей довольно популярной брошюре.
Карьеры Ульяновского и Виткина, среди прочего, показательны тем, по каким траекториям теоретическое востоковедение развивалось после наступления Застоя. Ульяновский дорос до референта Международного отдела ЦК, забронзовел и стал сам цензурировать новое поколение своих собственных коллег-имэмошников. Скромный же научный сотрудник ИФ Виткин практически не имел возможности защитить свои идеи. Его книга была изъята из продажи. Поскитавшись по разным секторам и институтам АН, в конце 1970-х гг. он эмигрировал в Канаду, где стал профессором социологии (!) Манитобского университета.
Классики марксизма-ленинизма массово издавались в СССР с момента основания государства, но реально их читал только ограниченный круг партийных интеллектуалов, которых к тому же основательно прорядили репрессии. Остальным гражданам предлагалось знакомство только с избранными цитатами в Кратком курсе под редакцией вождя народов. Легитимизировать обновленную академическую дисциплину ссылками на этот официоз в оттепельные годы было невозможно, поэтому востоковеды неожиданно для себя оказались одними из важнейших движущих сил по пересозданию марксистско-ленинского канона.
Важнейшим возвращенным в оборот первоисточником стал «Империализм» Ленина, из которого можно было вытащить и идею мирового (сейчас бы сказали – глобального) капиталистического рынка, и неравномерности развития формаций. Обе идеи были важны, разумеется, не только академически, но и политически. Теперь можно было открыто критиковать прежний курс за фетишизацию рабочих движений Западной Европы и игнорирование вопросов развития Третьего мира. Введение в оборот труда Ленина взяли на себя выжившие «меньшевики» и «троцкисты», реабилитированные по инициативе Микояна и собранные его зятем в ИМЭМО. Среди них большую роль играл Ростислав Ульяновский, специалист по деколонизации Индии, прошедший Воркуту.
Другим важным событием стало дополненное издание собраний Маркса и Энгельса, в которое вошли многие работы, ранее вообще не переведенные на русский язык. Отдельным хитом среди них были экономические рукописи Маркса 1857–1859 гг., также известные как Grundrisse. Основной вклад в знакомство советского читателя с взглядами классиков на общества Востока проделал Михаил Виткин, который раньше других прочитал «Рукописи» по-немецки и прокомментировал в своей ставшей довольно популярной брошюре.
Карьеры Ульяновского и Виткина, среди прочего, показательны тем, по каким траекториям теоретическое востоковедение развивалось после наступления Застоя. Ульяновский дорос до референта Международного отдела ЦК, забронзовел и стал сам цензурировать новое поколение своих собственных коллег-имэмошников. Скромный же научный сотрудник ИФ Виткин практически не имел возможности защитить свои идеи. Его книга была изъята из продажи. Поскитавшись по разным секторам и институтам АН, в конце 1970-х гг. он эмигрировал в Канаду, где стал профессором социологии (!) Манитобского университета.
👍43👏4👌2👎1🤝1
Рыба вне аквариума
Спустя почти три месяца учебы у нас с женой стали проявляться последствия накопленной усталости. Нагрузка не возросла, но все домашние задания и обсуждения в классе стали даваться с огромным трудом. Башка просто перестает соображать после двух-трех часов работы в день. Ведь день проводишь в ужасной сонливости. Единственное, что нас греет и чего мы ждем – это маленький перерыв в парах на ASEEES и День благодарения. Правда, у меня этого перерыва толком не будет, потому что подойдут ключевые дедлайны для подачи заявок в аспирантуру.
Часть учебы, которая, пожалуй, сжирает больше всего психологических сил и сейчас стала особенно играть против меня, – это необходимость все делать на английском. Вроде язык у меня стал объективно лучше, чем был до переезда. Но так как я впервые в жизни нахожусь в среде носителей, этот прогресс субъективно приносит очень маленькое чувство удовлетворения. Постоянно сравниваешь себя с людьми вокруг, которые выражают свои мысли куда лучше, но тратят на это времени и сил куда меньше.
Немного завидую людям, которые впервые имели возможность учиться на английском куда в более юном возрасте, чем это получилось у меня. Может, если бы я пострадал тогда, сейчас такого языкового шока у меня бы не случилось. Так что я могу только пожать руки тем, кто начинает учить язык новой для себя страны с нуля. Например, немецкий. Вот это меня бы вообще быстро сломало. Помните, что вы – настоящие герои! И, кстати, с днем социолога всех!
Спустя почти три месяца учебы у нас с женой стали проявляться последствия накопленной усталости. Нагрузка не возросла, но все домашние задания и обсуждения в классе стали даваться с огромным трудом. Башка просто перестает соображать после двух-трех часов работы в день. Ведь день проводишь в ужасной сонливости. Единственное, что нас греет и чего мы ждем – это маленький перерыв в парах на ASEEES и День благодарения. Правда, у меня этого перерыва толком не будет, потому что подойдут ключевые дедлайны для подачи заявок в аспирантуру.
Часть учебы, которая, пожалуй, сжирает больше всего психологических сил и сейчас стала особенно играть против меня, – это необходимость все делать на английском. Вроде язык у меня стал объективно лучше, чем был до переезда. Но так как я впервые в жизни нахожусь в среде носителей, этот прогресс субъективно приносит очень маленькое чувство удовлетворения. Постоянно сравниваешь себя с людьми вокруг, которые выражают свои мысли куда лучше, но тратят на это времени и сил куда меньше.
Немного завидую людям, которые впервые имели возможность учиться на английском куда в более юном возрасте, чем это получилось у меня. Может, если бы я пострадал тогда, сейчас такого языкового шока у меня бы не случилось. Так что я могу только пожать руки тем, кто начинает учить язык новой для себя страны с нуля. Например, немецкий. Вот это меня бы вообще быстро сломало. Помните, что вы – настоящие герои! И, кстати, с днем социолога всех!
👍89🙏35👏8🤝6
Воооооу! Благодаря этой подборке «Структура» перевалила за 7000! Красиво отметили профессиональный праздник! Подписываюсь под рекомендациями Дмитрия, но лично от себя хочу добавить еще несколько топовых каналов, без которых социологическая Телега была бы куда скучнее.
🧩 Nodes and Links - все о сетевом анализе
🧩 Жить как люди – о благосостоянии и неравенстве по странам и континентам
🧩 Выше квартилей – о поле науки в цифрах и фактах
🧩 Abdulhalikoff – о правовых практиках на Кавказе, в Санкт-Петербурге, в мире
🧩 Политический ученый – о рациональном выборе под влиянием политических структур
🧩 Russian Field – о том, что думают россияне, с точки зрения количественных методов
🧩 Лаборатория публичной социологии – о том, что думают россияне, с точки зрения качественных методов
🧩 ТЕЛОС – молодое поколение, которому не стыдно передать флаг соцтеории
🧩 Эффект Матфея – хотелось бы, чтобы посты об устройстве академии от дорогих коллег выходили почаще
🧩 Социология воды – ну это просто классика, надо знать такие каналы
🧩 AnthropoLOGS – коллега Верховцев – настоящий социолог в душе, мы-то знаем!
🧩 Nodes and Links - все о сетевом анализе
🧩 Жить как люди – о благосостоянии и неравенстве по странам и континентам
🧩 Выше квартилей – о поле науки в цифрах и фактах
🧩 Abdulhalikoff – о правовых практиках на Кавказе, в Санкт-Петербурге, в мире
🧩 Политический ученый – о рациональном выборе под влиянием политических структур
🧩 Russian Field – о том, что думают россияне, с точки зрения количественных методов
🧩 Лаборатория публичной социологии – о том, что думают россияне, с точки зрения качественных методов
🧩 ТЕЛОС – молодое поколение, которому не стыдно передать флаг соцтеории
🧩 Эффект Матфея – хотелось бы, чтобы посты об устройстве академии от дорогих коллег выходили почаще
🧩 Социология воды – ну это просто классика, надо знать такие каналы
🧩 AnthropoLOGS – коллега Верховцев – настоящий социолог в душе, мы-то знаем!
👍39💅4👏2👌1
Forwarded from Деньги и песец
14 ноября – День Социолога (и наша подборка каналов о социологии)
@Sbelan_52 – канал социолога Сергея Белановского. Для меня социология началась с его интервью с работниками московских предприятий – еще в 1980 е
@fond_khamovniki - Новости Фонда поддержки социальных исследований "Хамовники" (и, да Симон Кордонский – председатель его экспертного совета)
@RussianWays – канал журнала социальных и этнографических исследований «Пути России», издаваемого Шанинкой и ИнтерЦентром с 2023 года
@structurestrikesback – «Структура наносит ответный удар» содержание еще интереснее названия
@nizgoraev2 - Аналитика, гипотезы, суждения о социальной политике.
@valuesandorder «Лукошко ценностей» - об устройстве ценностей и норм в обществе
@fame_fatale – чрезвычайно увлекательный взгляд на социологию
@politicanimalis - Академическая политология и другие смежные науки (и социология, разумеется)
@Sbelan_52 – канал социолога Сергея Белановского. Для меня социология началась с его интервью с работниками московских предприятий – еще в 1980 е
@fond_khamovniki - Новости Фонда поддержки социальных исследований "Хамовники" (и, да Симон Кордонский – председатель его экспертного совета)
@RussianWays – канал журнала социальных и этнографических исследований «Пути России», издаваемого Шанинкой и ИнтерЦентром с 2023 года
@structurestrikesback – «Структура наносит ответный удар» содержание еще интереснее названия
@nizgoraev2 - Аналитика, гипотезы, суждения о социальной политике.
@valuesandorder «Лукошко ценностей» - об устройстве ценностей и норм в обществе
@fame_fatale – чрезвычайно увлекательный взгляд на социологию
@politicanimalis - Академическая политология и другие смежные науки (и социология, разумеется)
👍25👎1
Советская Африка
Хочу рассказать про документальный фильм «Наша Африка», который посмотрел по наводке коллеги Газимзянова. В документалке 2015 года собраны самые разные архивные кадры советско-африканских отношений 1960-х гг. Есть довольно скучный официоз с прибытием какой-нибудь делегации, но есть и куда более проникновенные интервью с простыми людьми. Например, с советским геологом средних лет, которой надоело жить в Москве, так что она поехала учить малийцев бурить водяные скважины. Или с обаятельным конголезским педиатром, который проходил в СССР медицинскую практику и в совершенстве выучил русский.
Режиссер Александр Марков в интервью говорит, что у фильма есть концепция – показать противоречия советской квазиколониальной системы. Честно говоря, мне не показалось, что для фильма эта концепция важна. Как и любая другая. Кроме нескольких минут в самом конце, где внезапно кадры из 1960-х гг. сменяются демонстрацией событий 1989–1991 гг., об этом ничего не говорит. При этом я не критикую режиссера за отсутствие какого-то месседжа. Совсем наоборот. Мне кажется, что он честно окунулся в видеоархивы, открыл сильный забытый визуальный ряд и смонтировал из этого фильм. Потом, конечно, на пресс-конференции для фестивальной публики надо сказать, что была концепция. Неприлично без нее.
У фильма есть два других минуса. Во-первых, в отдельных частях хроники, видимо, отсутствовал звук. Ее зачем-то решили озвучить при помощи актеров и еще добавить эффектов со звуками строек, автомобилей, просто пением птиц. Честно говоря, это звучит очень дешево и неестественно, иногда вообще мешая погрузиться в просмотр. Во-вторых, фильм очень короткий. Всего 45 минут. Понятно, что все богатства в фильм не вместишь, но от этого появляется чувство, что оборвали на самом важном.
Впрочем, второй минус наверняка исправлен в более длинном ремейке-сиквеле, снятом при куда больших бюджетах за счет португальского фонда и вышедшем уже в 2022 году. Называется «Красная Африка». Однако в свободном доступе его я найти не смог. Может, у вас есть идеи, где его можно купить? Вдруг кто на стримингах встречал или еще где?
Хочу рассказать про документальный фильм «Наша Африка», который посмотрел по наводке коллеги Газимзянова. В документалке 2015 года собраны самые разные архивные кадры советско-африканских отношений 1960-х гг. Есть довольно скучный официоз с прибытием какой-нибудь делегации, но есть и куда более проникновенные интервью с простыми людьми. Например, с советским геологом средних лет, которой надоело жить в Москве, так что она поехала учить малийцев бурить водяные скважины. Или с обаятельным конголезским педиатром, который проходил в СССР медицинскую практику и в совершенстве выучил русский.
Режиссер Александр Марков в интервью говорит, что у фильма есть концепция – показать противоречия советской квазиколониальной системы. Честно говоря, мне не показалось, что для фильма эта концепция важна. Как и любая другая. Кроме нескольких минут в самом конце, где внезапно кадры из 1960-х гг. сменяются демонстрацией событий 1989–1991 гг., об этом ничего не говорит. При этом я не критикую режиссера за отсутствие какого-то месседжа. Совсем наоборот. Мне кажется, что он честно окунулся в видеоархивы, открыл сильный забытый визуальный ряд и смонтировал из этого фильм. Потом, конечно, на пресс-конференции для фестивальной публики надо сказать, что была концепция. Неприлично без нее.
У фильма есть два других минуса. Во-первых, в отдельных частях хроники, видимо, отсутствовал звук. Ее зачем-то решили озвучить при помощи актеров и еще добавить эффектов со звуками строек, автомобилей, просто пением птиц. Честно говоря, это звучит очень дешево и неестественно, иногда вообще мешая погрузиться в просмотр. Во-вторых, фильм очень короткий. Всего 45 минут. Понятно, что все богатства в фильм не вместишь, но от этого появляется чувство, что оборвали на самом важном.
Впрочем, второй минус наверняка исправлен в более длинном ремейке-сиквеле, снятом при куда больших бюджетах за счет португальского фонда и вышедшем уже в 2022 году. Называется «Красная Африка». Однако в свободном доступе его я найти не смог. Может, у вас есть идеи, где его можно купить? Вдруг кто на стримингах встречал или еще где?
👍35👏4🖕1
Динамика ночного контента
1 час бессонницы: рецензия на «Провинциализируя Европу» Чакрабарти.
3 часа бессонницы: таблица стран по торговому обороту с СССР на 1964 год.
5 часов бессонницы: «Пять главных целей Слота на зимнее трансферное окно».
7 часов бессонницы: рилсы с пукающими собаками.
1 час бессонницы: рецензия на «Провинциализируя Европу» Чакрабарти.
3 часа бессонницы: таблица стран по торговому обороту с СССР на 1964 год.
5 часов бессонницы: «Пять главных целей Слота на зимнее трансферное окно».
7 часов бессонницы: рилсы с пукающими собаками.
👍79🙏16💅7👌4👎2🖕1
Now we're talking
Я не так давно ныл, что плохо справляюсь с английским, но в итоге зарешал TOEFL на целых 103 балла! Большущий прогресс с прошлого года, когда еле-еле вытянул семерочку на IELTS. Теперь можно подаваться на любую программу из моего списка, даже в Лигу плюща.
Часть успеха состоит в двухмесячном погружении в среду, но самая большая – это все-таки правильный репетитор. Замечательная @exsultans задавала мне много вопросов про группу Placebo, Джейми Каррагера и другие неожиданные вещи, а потом замеряла мои ответы с секундомером. В итоге, это сработало.
Сравнивая два экзамена между собой, я рекомендую всем, кто думает ехать в США, сдавать именно TOEFL. Во-первых, это экзамен по американскому английскому. Вы не перестраиваетесь на британскую лексику, которую вы вряд ли знаете (если только вы не фанат Гарри Поттера или Мэри Дуглас), и которая потом вам вряд ли где-то пригодится. Во-вторых, встречаются американские аспирантские программы, которые не принимают IELTS. Их немного, но они есть. К сожалению, такая есть и в моем списке. Во-третьих, TOEFL можно сдавать из дома по интернету, что, собственно, я и сделал. Огромная экономия денег на перелеты и жилье туда, где есть сертифицированный центр по IELTS.
Наконец, самое главное: cтруктура американского экзамена более формализирована. Это пугает поначалу. После первых трудностей при подготовке я даже думал забить и пересдать знакомую британскую версию. Но когда разобрался с Полиной, какой именно ответ от меня хотят услышать, наоборот, расслабился. Рамки, в которые должны укладываться речь и письмо, довольно простые, а продолжительность экзамена намного короче. ИМХО, это все облегчает стресс при прохождении. Короче, всем, кто еще не сдавал английский, но собирается сдавать в ближайшее время или в перспективе, желаю удачи!
Я не так давно ныл, что плохо справляюсь с английским, но в итоге зарешал TOEFL на целых 103 балла! Большущий прогресс с прошлого года, когда еле-еле вытянул семерочку на IELTS. Теперь можно подаваться на любую программу из моего списка, даже в Лигу плюща.
Часть успеха состоит в двухмесячном погружении в среду, но самая большая – это все-таки правильный репетитор. Замечательная @exsultans задавала мне много вопросов про группу Placebo, Джейми Каррагера и другие неожиданные вещи, а потом замеряла мои ответы с секундомером. В итоге, это сработало.
Сравнивая два экзамена между собой, я рекомендую всем, кто думает ехать в США, сдавать именно TOEFL. Во-первых, это экзамен по американскому английскому. Вы не перестраиваетесь на британскую лексику, которую вы вряд ли знаете (если только вы не фанат Гарри Поттера или Мэри Дуглас), и которая потом вам вряд ли где-то пригодится. Во-вторых, встречаются американские аспирантские программы, которые не принимают IELTS. Их немного, но они есть. К сожалению, такая есть и в моем списке. Во-третьих, TOEFL можно сдавать из дома по интернету, что, собственно, я и сделал. Огромная экономия денег на перелеты и жилье туда, где есть сертифицированный центр по IELTS.
Наконец, самое главное: cтруктура американского экзамена более формализирована. Это пугает поначалу. После первых трудностей при подготовке я даже думал забить и пересдать знакомую британскую версию. Но когда разобрался с Полиной, какой именно ответ от меня хотят услышать, наоборот, расслабился. Рамки, в которые должны укладываться речь и письмо, довольно простые, а продолжительность экзамена намного короче. ИМХО, это все облегчает стресс при прохождении. Короче, всем, кто еще не сдавал английский, но собирается сдавать в ближайшее время или в перспективе, желаю удачи!
👍102👌11👏9🤝1
Гудбай ASEEES, где я не был никогда
Вот и закончилась конвенция cлавистов, на которой я побывал в первый раз, так что впечатления от этого гигантского столпотворения академиков просто невероятные. На нее спонтанно наложилась встреча выпускников ЕУ моего и соседних выпусков. Так что кроме дневных деловых походов на панели были вечерние лирические встречи с однокашниками, многих из которых я не видел с самого начала войны. Теперь все обратно разъехались по миру, и стало очень грустно. Как после конца смены в пионерлагере. Примерно вот так. Здесь расскажу только про деловую часть, чтоб не всплакнуть ненароком.
Я постарался побывать на максимальном количестве панелей, которые затрагивали советские 1950–1960 гг. в международном контексте. В основном связанные с Холодной войной и ролью СССР в деколонизации Азии и Африки. Но на секции, связанные с исследованиями науки и экспертизы в целом, тоже заглянул. Прикольно было наблюдать, как доклады в духе олдскульной правой советологии чередовались с модными деколонизаторскими тейками. Хотелось поспорить и с теми, и с другими, но пока знаний о материале у меня не достаточно, так что просто слушал аргументы других дискуссантов и чуть-чуть задавал вопросы.
После панелей удалось нормально так посмоллточить с исследователями из Германии, Италии, Польши, Болгарии и других стран. Например, с крутым историком Наной Осеем-Опарой из Ганы, который сейчас пишет книгу про интеллектуальные взаимовлияния советских марксистов и ганских панафриканистов. Подумал, что с не американцами, пусть и говорящими на английском гораздо лучше меня, я стесняюсь разговаривать гораздо меньше.
Так же невероятно рад был наконец-то развиртуализироваться с моей землячкой Ксенией Татарченко – пожалуй, самым главным экспертом по истории новосибирского Академгородка. Ну и великой Еленой Гаповой – первопроходцем гендерных исследований на постсоветском пространстве. Когда-то я хотел взять у нее интервью для так и недописанной диссертации о независимых социологических центрах, но, увы, сделать это не успел. Зато сейчас она мне понасоветовала много важного про мой текущий проект. Список запомнившихся академических разговоров можно продолжать долго, но вряд ли все это влезет в формат канала. Надеюсь, другие коллеги, с которыми я общался в кулуарах и которые сейчас читают меня, не обидятся. Я ужасно благодарен всем, с кем удалось перекинуться хотя бы парой слов о моих востоковедах или о чем-то другом!
Сейчас думаю о том, чтобы поучаствовать в следующем году в ASEEES в какой-то более значимой роли, чем просто слушателя в зале. Прям руки зачесались сделать панель по социальному и гуманитарному знанию и с историками, и с социологами! Что-то в духе «Королевства кривых зеркал», которую я соорганизовывал в Шанинке. Короче, в планах на следующую осень сделать уже две конференции, потому что и «Зеркала» мы с коллегами хотим повторить. Что ж, буду копить силы.
Вот и закончилась конвенция cлавистов, на которой я побывал в первый раз, так что впечатления от этого гигантского столпотворения академиков просто невероятные. На нее спонтанно наложилась встреча выпускников ЕУ моего и соседних выпусков. Так что кроме дневных деловых походов на панели были вечерние лирические встречи с однокашниками, многих из которых я не видел с самого начала войны. Теперь все обратно разъехались по миру, и стало очень грустно. Как после конца смены в пионерлагере. Примерно вот так. Здесь расскажу только про деловую часть, чтоб не всплакнуть ненароком.
Я постарался побывать на максимальном количестве панелей, которые затрагивали советские 1950–1960 гг. в международном контексте. В основном связанные с Холодной войной и ролью СССР в деколонизации Азии и Африки. Но на секции, связанные с исследованиями науки и экспертизы в целом, тоже заглянул. Прикольно было наблюдать, как доклады в духе олдскульной правой советологии чередовались с модными деколонизаторскими тейками. Хотелось поспорить и с теми, и с другими, но пока знаний о материале у меня не достаточно, так что просто слушал аргументы других дискуссантов и чуть-чуть задавал вопросы.
После панелей удалось нормально так посмоллточить с исследователями из Германии, Италии, Польши, Болгарии и других стран. Например, с крутым историком Наной Осеем-Опарой из Ганы, который сейчас пишет книгу про интеллектуальные взаимовлияния советских марксистов и ганских панафриканистов. Подумал, что с не американцами, пусть и говорящими на английском гораздо лучше меня, я стесняюсь разговаривать гораздо меньше.
Так же невероятно рад был наконец-то развиртуализироваться с моей землячкой Ксенией Татарченко – пожалуй, самым главным экспертом по истории новосибирского Академгородка. Ну и великой Еленой Гаповой – первопроходцем гендерных исследований на постсоветском пространстве. Когда-то я хотел взять у нее интервью для так и недописанной диссертации о независимых социологических центрах, но, увы, сделать это не успел. Зато сейчас она мне понасоветовала много важного про мой текущий проект. Список запомнившихся академических разговоров можно продолжать долго, но вряд ли все это влезет в формат канала. Надеюсь, другие коллеги, с которыми я общался в кулуарах и которые сейчас читают меня, не обидятся. Я ужасно благодарен всем, с кем удалось перекинуться хотя бы парой слов о моих востоковедах или о чем-то другом!
Сейчас думаю о том, чтобы поучаствовать в следующем году в ASEEES в какой-то более значимой роли, чем просто слушателя в зале. Прям руки зачесались сделать панель по социальному и гуманитарному знанию и с историками, и с социологами! Что-то в духе «Королевства кривых зеркал», которую я соорганизовывал в Шанинке. Короче, в планах на следующую осень сделать уже две конференции, потому что и «Зеркала» мы с коллегами хотим повторить. Что ж, буду копить силы.
👍83👏7👌3🖕2💅1
Возможно, я просто нахожусь под впечатлением от курса Мэтта Ковака, но глобальная/транснациональная история кажется мне наибольшим интеллектуальным достижением гуманитарных наук полутора-двух последних десятилетий. В социологии чего-то такого же свежего и сильного за это время не появилось. Даже похожая попытка создать поле глобальной социологии не взлетела. Хотя отдельные первопроходцы типа Валлерстайна существовали там давно. Так что призываю всех брать пример с коллег-историков и интересоваться Глобальным Югом (дурацкий термин, но лучше пока не придумали)!
👍28✍3💅3
Forwarded from AnthropoLOGS
Кстати о глобальном юге, мир оттуда выглядит примерно вот так - как на детском образовательном плакате какого-то индийского издательства; дата увы неизвестна.
Да, они не отличают королей от президентов и борцов за свободу от кровожадных тиранов, потому что, подозреваю, европейская история для них настолько же актуальна, как для русских гимназистов 19 века ветхозаветные мифы о Рахили и Иакове. Однако, есть и плюсы:
1. Иван Грозный в киргизском народном костюме.
2. Сталин если бы он был полицейским в Уттар-Прадеш.
3. Всё остальное.
Отметим, что в этом индийском диктаторском бинго победила Россия, возможно поэтому программа "нефть в обмен на рупии" всё ещё действует.
(Взял у Кепкена)
Да, они не отличают королей от президентов и борцов за свободу от кровожадных тиранов, потому что, подозреваю, европейская история для них настолько же актуальна, как для русских гимназистов 19 века ветхозаветные мифы о Рахили и Иакове. Однако, есть и плюсы:
1. Иван Грозный в киргизском народном костюме.
2. Сталин если бы он был полицейским в Уттар-Прадеш.
3. Всё остальное.
Отметим, что в этом индийском диктаторском бинго победила Россия, возможно поэтому программа "нефть в обмен на рупии" всё ещё действует.
(Взял у Кепкена)
👍50👏3👌3
Конкурентная кооперация
Вышла очень крутая книга Маши Кирасировой «Восточный Интернационал». Термином из заголовка она обозначает индивидов и организации, которые были ответственны за медиацию отношений между СССР и Ближним Востоком. Часть про раннюю советскую власть и Коминтерн я, признаться, пролистал бегло, но вот про скоротечный роман советского коммунизма и арабского социализма начиная с 1950-х гг. хочется читать как можно медленнее. Это просто ценнейший кладезь наблюдений о том, как взаимодействовали бюрократия, патронажные сети, идеология и академические институты.
Пожалуй, главный герой этого времени для Кирасировой – Нуритдин Мухитдинов, первый узбек в составе Полютбюро, а потом посол в Сирии. Мухитдинов был одним из тех, кто покровительствовал советским востоковедам, считая что академические исследования Ближнего Востока – это важнейшая часть мягкой силы антиколониальной империи. Несмотря на похожие взгляды и пристрастия с другим знатным лоббистом востоковедов Бободжаном Гафуровым, эти двое не были близки и конкурировали за нишу главного связного между советской Средней Азией и Ближним Востоком. Вместе с тем, большое количество ресурсов под ИВ было выбито ими как раз при объединении усилий.
Еще одно интересное наблюдение Кирасировой касается выстраивания в ИМЭМО и ИВ, по существу, параллельных и дублирующих друг друга структур секторов и отделов. Произошло это потому, что ИМЭМО консультировал Министерство иностранных дел, а ИВ – Международный отдел ЦК. Каждый орган хотел получить независимую информацию, хоть и про одни и те же страны. Несмотря на частое перетекание кадров из одного института в другой, экспертные культуры в них различались. Первые больше любили экономику и статистику, а вторые были сильнее в языках и локальном знании.
Мне кажется, что во всех отношениях блестящей книге не хватает одного – хотя бы базового использования количественных методов. Главным образом, конечно, сетевого анализа. Вся проблематика Кирасировой вертится вокруг идеи медиации, но ее решение – это жанр традиционных биографий. Бывалый историк возразит мне, что для полноценного сетевого анализа в архивах нет необходимых данных. Но я отвечу, что главное – поставить задачу, а данные найдутся. Например, можно собрать протоколы партийных или профессиональных организаций, и посмотреть, кто на каких собраниях присутствовал и вместе с кем. Возможно, заходы про соперничество сетей Таджикской и Узбекской Республик или сетей МИД и МО ЦК обрели бы еще больший доказательный вес. Ну ладно, это я так фантазирую.
Вышла очень крутая книга Маши Кирасировой «Восточный Интернационал». Термином из заголовка она обозначает индивидов и организации, которые были ответственны за медиацию отношений между СССР и Ближним Востоком. Часть про раннюю советскую власть и Коминтерн я, признаться, пролистал бегло, но вот про скоротечный роман советского коммунизма и арабского социализма начиная с 1950-х гг. хочется читать как можно медленнее. Это просто ценнейший кладезь наблюдений о том, как взаимодействовали бюрократия, патронажные сети, идеология и академические институты.
Пожалуй, главный герой этого времени для Кирасировой – Нуритдин Мухитдинов, первый узбек в составе Полютбюро, а потом посол в Сирии. Мухитдинов был одним из тех, кто покровительствовал советским востоковедам, считая что академические исследования Ближнего Востока – это важнейшая часть мягкой силы антиколониальной империи. Несмотря на похожие взгляды и пристрастия с другим знатным лоббистом востоковедов Бободжаном Гафуровым, эти двое не были близки и конкурировали за нишу главного связного между советской Средней Азией и Ближним Востоком. Вместе с тем, большое количество ресурсов под ИВ было выбито ими как раз при объединении усилий.
Еще одно интересное наблюдение Кирасировой касается выстраивания в ИМЭМО и ИВ, по существу, параллельных и дублирующих друг друга структур секторов и отделов. Произошло это потому, что ИМЭМО консультировал Министерство иностранных дел, а ИВ – Международный отдел ЦК. Каждый орган хотел получить независимую информацию, хоть и про одни и те же страны. Несмотря на частое перетекание кадров из одного института в другой, экспертные культуры в них различались. Первые больше любили экономику и статистику, а вторые были сильнее в языках и локальном знании.
Мне кажется, что во всех отношениях блестящей книге не хватает одного – хотя бы базового использования количественных методов. Главным образом, конечно, сетевого анализа. Вся проблематика Кирасировой вертится вокруг идеи медиации, но ее решение – это жанр традиционных биографий. Бывалый историк возразит мне, что для полноценного сетевого анализа в архивах нет необходимых данных. Но я отвечу, что главное – поставить задачу, а данные найдутся. Например, можно собрать протоколы партийных или профессиональных организаций, и посмотреть, кто на каких собраниях присутствовал и вместе с кем. Возможно, заходы про соперничество сетей Таджикской и Узбекской Республик или сетей МИД и МО ЦК обрели бы еще больший доказательный вес. Ну ладно, это я так фантазирую.
👍52👏9🖕2
Во-первых, я сам когда-то бывал на школе еушных коллег-философов. Это был организованный хаос в лучшем смысле слова! Теперь есть что вспомнить! Во-вторых, на предстоящем мероприятии будет рулить легендарный Сюткин, а значит вам обеспечены обстоятельные и задушевные беседы о Канте, Адорно, Зиммеле и /впишите имя сами/. В-третьих, ладно эту философию – с Антоном и Йоэлем можно будет обсудить причины спада Де Брюйне, Мбаппе, Соболева и /снова впишите имя/. В общем, хватит раздумывать! Надо подаваться!
👍19
Forwarded from ethostasis
OPEN-CALL: студенческая зимняя школа центра практической философии- - - ethostasis -
23-25 января 2025, Европейский Университет
к්රинсидентុлогия ди@лектඒка ආеномеНОлоґия психоAнаLиз теолог-(и)-(я) постෆоdерниලтский субъеkт (anti)платонизm аka-деර්мическංе пїсьмо соvременные прරбле៊мь| фи្лосоආИИ двឯжeние×танеឋ×жесt аඈඇект ☾о—бbIтие ₦єфило©офия тео®ия докyментමльностឯ иួួанентно[е!] нев់змឹжнុំе снятїе эпо×е осциllяция тревога` искушение эммм...анация лមкមнделЁз¿ хайдеggер¿ ₽егев¿ бланយо¿ деб់р¿ бадью¡ la-Tour ‘ агаааааааааааааааааааамбен្
👀 что происходит?
Привет! мы, студент:ки и аспирант:ки центра практической философии «Стасис» приглашаем абитуриент:ок и всех, кому интересна философия,
говорить-думать-писать-спорить-учиться-общаться-дружить.
+ на три дня погрузиться в свободное пространство высказывания с семинарами, лекциями, дискуссиями и лабораториями. в первую очередь в сферу нашего внимания попадут темы и направления, которыми прямо сейчас занимаются преподаватель:ницы и студент:ки Центра, что позволит участни:цам школы понять, каково это — учиться в «Стасисе», и насколько широкие, уникальные возможности для исследования есть у поступающих к нам.
👥 основными спикерами и ведущими школы будем мы, студенты Центра, в коллаборации с Ниной Савченковой, Йоэлем Регевым, Антоном Сюткиным и другими преподаватель:ницами.
📍 когда и где?
23-25 января, очно, Европейский Университет в Санкт-Петербурге
👽 как попасть на школу?
участвовать в школе могут актуальные студент:ки и выпускни:цы бакалавриата любой специальности. участие бесплатное, на конкурсной основе.
всего мест: 40. пятерым участни:цам из других городов предоставляется материальная компенсация в размере до 10000 рублей.
open-call продлится до 14 декабря 23.59. для участия необходимо ответить на вопросы формы и прикрепить мотивационное письмо (2000-4000 знаков с пробелами). результаты конкурса будут объявлены 19 декабря 2024 года.
+ по всем вопросам: [email protected]
++ подписывайтесь на канал школы в телеграм!
23-25 января 2025, Европейский Университет
Привет! мы, студент:ки и аспирант:ки центра практической философии «Стасис» приглашаем абитуриент:ок и всех, кому интересна философия,
говорить-думать-писать-спорить-учиться-общаться-дружить.
+ на три дня погрузиться в свободное пространство высказывания с семинарами, лекциями, дискуссиями и лабораториями. в первую очередь в сферу нашего внимания попадут темы и направления, которыми прямо сейчас занимаются преподаватель:ницы и студент:ки Центра, что позволит участни:цам школы понять, каково это — учиться в «Стасисе», и насколько широкие, уникальные возможности для исследования есть у поступающих к нам.
23-25 января, очно, Европейский Университет в Санкт-Петербурге
участвовать в школе могут актуальные студент:ки и выпускни:цы бакалавриата любой специальности. участие бесплатное, на конкурсной основе.
всего мест: 40. пятерым участни:цам из других городов предоставляется материальная компенсация в размере до 10000 рублей.
open-call продлится до 14 декабря 23.59. для участия необходимо ответить на вопросы формы и прикрепить мотивационное письмо (2000-4000 знаков с пробелами). результаты конкурса будут объявлены 19 декабря 2024 года.
+ по всем вопросам: [email protected]
++ подписывайтесь на канал школы в телеграм!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15👎2🙏1💅1
Рейз или фолд
Итак, я загрузил все одинадцать заявок в американские аспирантуры, которые хотел. Получилось почти полное доминирование исторических программ над социологическими: 9 против 2. Что даже для меня в какой-то степени сюрприз. Главная причина такого перекоса в том, что проект про экспертизу в СССР ожидаемо не нашел гигантского отклика среди профессоров-социологов, с которыми я пытался общаться. Историки же в среднем были куда более отзывчивыми и даже позитивно реагировали, когда я делился идеей собирать статистику о работниках ИВ, ИМЭМО, ИА и др. Так что я доверился историкам и решил поставить большинство моих фишек на них.
Кроме того, я рискнул послать заявки исключительно в топовые или околотоповые университеты. Здесь я тоже представил себе это все как ставку. В том числе денег. Сейчас я понимаю, что продолжать свой путь в академии я готов только на программе с нормальным финансированием, сильным подбором преподавателей и широкими оргресурсами. Вот как у моей легендарной жены. В прошлом году я долго держался в листе ожидания в Аризоне, где главное условие – это преподавание уже с первого курса, при этом за стипендию ниже американского прожиточного минимума. Nah, bro. Теперь я совсем не жалею, что туда не попал. Для такого дерьма я слишком старый.
Сказать, что я устал – это ничего не сказать. Сказать, что я чувствую экзистенциальную тревогу – пожалуй, слишком, но доля правды в этом есть. Я вложил в заявку еще больше сил, чем в прошлом году. Надеюсь, что кто-то ее оценит. Если нет, то это будет, пожалуй, последний сигнал о необходимости окончательно возвращаться в среднее образование или пробовать силы в коммерческом. Академию я люблю, но, кажется, что очень давно безответно.
Итак, я загрузил все одинадцать заявок в американские аспирантуры, которые хотел. Получилось почти полное доминирование исторических программ над социологическими: 9 против 2. Что даже для меня в какой-то степени сюрприз. Главная причина такого перекоса в том, что проект про экспертизу в СССР ожидаемо не нашел гигантского отклика среди профессоров-социологов, с которыми я пытался общаться. Историки же в среднем были куда более отзывчивыми и даже позитивно реагировали, когда я делился идеей собирать статистику о работниках ИВ, ИМЭМО, ИА и др. Так что я доверился историкам и решил поставить большинство моих фишек на них.
Кроме того, я рискнул послать заявки исключительно в топовые или околотоповые университеты. Здесь я тоже представил себе это все как ставку. В том числе денег. Сейчас я понимаю, что продолжать свой путь в академии я готов только на программе с нормальным финансированием, сильным подбором преподавателей и широкими оргресурсами. Вот как у моей легендарной жены. В прошлом году я долго держался в листе ожидания в Аризоне, где главное условие – это преподавание уже с первого курса, при этом за стипендию ниже американского прожиточного минимума. Nah, bro. Теперь я совсем не жалею, что туда не попал. Для такого дерьма я слишком старый.
Сказать, что я устал – это ничего не сказать. Сказать, что я чувствую экзистенциальную тревогу – пожалуй, слишком, но доля правды в этом есть. Я вложил в заявку еще больше сил, чем в прошлом году. Надеюсь, что кто-то ее оценит. Если нет, то это будет, пожалуй, последний сигнал о необходимости окончательно возвращаться в среднее образование или пробовать силы в коммерческом. Академию я люблю, но, кажется, что очень давно безответно.
👍84🙏61🤝8👏2👌2