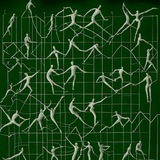Опознающие себя звери
Как вы знаете, я люблю всякие штуки про рефлексивность в соцгум науках, далеко не только в одной социологии. Новая книга Кати Гюнтер The Mirror and the Mind про историю экспериментов по узнаванию своего лица в зеркале – как раз одна из таких офигенных штук, поражающих социологическое воображение. Хотя про социологию в ней и ничего нет.
Работа написана в жанре классической интеллектуальной истории. Каждая глава раскрывает отдельный кейс взаимоотношения ученых и зеркал за последние 200 лет. Здесь и гуру психоанализа Жак Лакан с его теорией формирование эго; и антрополог Эдмунд Карпентер, наблюдавший, как в зеркало смотрятся жители Новой Гвинеи; и даже Чарльз Дарвин, много времени посвятившему дневниковым записям за играми своего сына. Как оказалось, даже довольно распиаренный концепт «зеркальных нейронов», которым оперируют, в частности, нейроученые, изучающие аутический спектр, тоже неслучайно так называется.
Один из главных лейтмотивов книжки – это попытки сделать из узнавания собственного отражения основной и достаточный критерий настоящей субъективности, т. е. европейской, буржуазной, индивидуалистической. Достичь этого не получилось, так как такой способностью обладают и шимпанзе, и дети, и жители колоний, и нейронетипичные люди. Возможно, негативный результат как раз позитивный и замечательный, так как наглядно демонстрирует, что между всеми нами гораздо больше общего, чем обычно подразумевается.
Как вы знаете, я люблю всякие штуки про рефлексивность в соцгум науках, далеко не только в одной социологии. Новая книга Кати Гюнтер The Mirror and the Mind про историю экспериментов по узнаванию своего лица в зеркале – как раз одна из таких офигенных штук, поражающих социологическое воображение. Хотя про социологию в ней и ничего нет.
Работа написана в жанре классической интеллектуальной истории. Каждая глава раскрывает отдельный кейс взаимоотношения ученых и зеркал за последние 200 лет. Здесь и гуру психоанализа Жак Лакан с его теорией формирование эго; и антрополог Эдмунд Карпентер, наблюдавший, как в зеркало смотрятся жители Новой Гвинеи; и даже Чарльз Дарвин, много времени посвятившему дневниковым записям за играми своего сына. Как оказалось, даже довольно распиаренный концепт «зеркальных нейронов», которым оперируют, в частности, нейроученые, изучающие аутический спектр, тоже неслучайно так называется.
Один из главных лейтмотивов книжки – это попытки сделать из узнавания собственного отражения основной и достаточный критерий настоящей субъективности, т. е. европейской, буржуазной, индивидуалистической. Достичь этого не получилось, так как такой способностью обладают и шимпанзе, и дети, и жители колоний, и нейронетипичные люди. Возможно, негативный результат как раз позитивный и замечательный, так как наглядно демонстрирует, что между всеми нами гораздо больше общего, чем обычно подразумевается.
👍60👏3
Внутренний подсолнух
Легендарный Сюткин на фоне размораживания все новых и новых очагов убийств задумывается: есть ли выход за рамки сегодняшнего противостояния элитистских военно-политических блоков, сдобренных расовой или религиозной мишурой? При большом духовном сходстве наших мыслей я вряд ли согласен с каждой буквой в посте Антона. Вот, пожалуй, два главных расхождения между нами.
Во-первых, как я уже недавно писал, для меня сегодня вряд ли особо своевременной является вечная ностальгия по молодому Ленину и тому универсальному измерению, портал в которое он якобы открыл, да никто за ним не отважился последовать. Оторвать ту коммунистическую идею от коррумпировавшей ее со временем партийной и имперской конъюнктуры, я думаю, вполне возможно, как ни утверждали бы консервативные историки, отстаивающие черную легенду об СССР.
Однако вряд ли то же самое разделение можно проделать между идеей и ее социально-демографической базой, коей было крестьянство. Современному прекарию не продать идею мира, потому что он не сидит в окопе. За него это делают полу- или полностью профессиональные военные. По этой же причине невозможно превратить империалистическую войну в гражданскую. Короче, чем содержательно сегодня может быть Циммервальд, я себе представить себе не могу. Общественные структуры слишком сильно изменились за прошедший век.
Во-вторых, ждать коллапса современных институтов на диване – штука удобная и даже в каком-то извращенном смысле красивая, но по меньшей мере очень опасная. Какая универсалистская политика там будет возможна на пепелище? На мой взгляд, общая платформа для левой политики существует уже сегодня – это платформа экологическая. Вряд ли она является универсалистской в каком-то возвышенном философском ключе, в котором мыслит Антон, но зато про нее можно сказать так в более приземленном социально-географическом значении.
Проблема разрушительных изменений климата по-настоящему касается всего мирового общества и требует решений за пределами эгоизма и нарциссизма отдельных цивилизаций и альянсов. Без какой-то федерации планетарного масштаба, которая не будет буквально повторять дизайн nation-state, но перехватит у него важнейшие функции, здесь не обойтись. Да, сегодняшние прогрессивные движения и организации вряд ли забросят свои интернет-срачи и начнут наконец объединяться до подтопления какого-нибудь западного мегаполиса, но я надеюсь, что это начнет происходить до этого самого окончательного коллапса.
Легендарный Сюткин на фоне размораживания все новых и новых очагов убийств задумывается: есть ли выход за рамки сегодняшнего противостояния элитистских военно-политических блоков, сдобренных расовой или религиозной мишурой? При большом духовном сходстве наших мыслей я вряд ли согласен с каждой буквой в посте Антона. Вот, пожалуй, два главных расхождения между нами.
Во-первых, как я уже недавно писал, для меня сегодня вряд ли особо своевременной является вечная ностальгия по молодому Ленину и тому универсальному измерению, портал в которое он якобы открыл, да никто за ним не отважился последовать. Оторвать ту коммунистическую идею от коррумпировавшей ее со временем партийной и имперской конъюнктуры, я думаю, вполне возможно, как ни утверждали бы консервативные историки, отстаивающие черную легенду об СССР.
Однако вряд ли то же самое разделение можно проделать между идеей и ее социально-демографической базой, коей было крестьянство. Современному прекарию не продать идею мира, потому что он не сидит в окопе. За него это делают полу- или полностью профессиональные военные. По этой же причине невозможно превратить империалистическую войну в гражданскую. Короче, чем содержательно сегодня может быть Циммервальд, я себе представить себе не могу. Общественные структуры слишком сильно изменились за прошедший век.
Во-вторых, ждать коллапса современных институтов на диване – штука удобная и даже в каком-то извращенном смысле красивая, но по меньшей мере очень опасная. Какая универсалистская политика там будет возможна на пепелище? На мой взгляд, общая платформа для левой политики существует уже сегодня – это платформа экологическая. Вряд ли она является универсалистской в каком-то возвышенном философском ключе, в котором мыслит Антон, но зато про нее можно сказать так в более приземленном социально-географическом значении.
Проблема разрушительных изменений климата по-настоящему касается всего мирового общества и требует решений за пределами эгоизма и нарциссизма отдельных цивилизаций и альянсов. Без какой-то федерации планетарного масштаба, которая не будет буквально повторять дизайн nation-state, но перехватит у него важнейшие функции, здесь не обойтись. Да, сегодняшние прогрессивные движения и организации вряд ли забросят свои интернет-срачи и начнут наконец объединяться до подтопления какого-нибудь западного мегаполиса, но я надеюсь, что это начнет происходить до этого самого окончательного коллапса.
👍45👏8🙏4👎3
Большие надежды
Мне пришли результаты IELTS, которые, честно говоря, разочаровали. Я был довольно уверен в своих слушании и говорении, однако мне поставили за них только по 6.5. Не знаю даже, где так много умудрился накосячить. В аудитории все задания казались достаточно простыми. Вместе с тем, меня спасла целая девятка по чтению, хотя вот здесь я был уверен, что наделал несколько ошибок. Короче говоря, какой-то мир случайных величин.
В принципе, минимальный нужный результат в 7 overall достигнут. Однако это означает, что я формально не могу подаваться на две интересующие меня аспирантские программы, в которых требуется 7 each. Знаю от поступивших, что английский не самый важный компонент заявки, и его могут простить в индивидуальном порядке, но это все в воле комиссии, которая еще куда более рандомна, чем результаты экзамена.
Еще хочу поделиться, что готовиться и сдавать экзамен было неожиданно приятно. Во многом из-за ламповых топиков, которые вынырнули как будто прямиком из 1990-х с их ожиданиями конца истории: мультикультурализм, защита дикой природы, финансовая грамотность, забота о ментальном здоровье. Понимаю, что сегодня это может показаться идеологией глобализации, поданной под видом на первый взгляд нейтральной процедуры получения сертификата. Тем не менее, меня посетила дикая ностальгия по тому времени, когда эти идеи казались непререкаемыми. Как будто я читаю переводную энциклопедию «Росмэн», которую мне мама подарила на Новый год.
Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide
Мне пришли результаты IELTS, которые, честно говоря, разочаровали. Я был довольно уверен в своих слушании и говорении, однако мне поставили за них только по 6.5. Не знаю даже, где так много умудрился накосячить. В аудитории все задания казались достаточно простыми. Вместе с тем, меня спасла целая девятка по чтению, хотя вот здесь я был уверен, что наделал несколько ошибок. Короче говоря, какой-то мир случайных величин.
В принципе, минимальный нужный результат в 7 overall достигнут. Однако это означает, что я формально не могу подаваться на две интересующие меня аспирантские программы, в которых требуется 7 each. Знаю от поступивших, что английский не самый важный компонент заявки, и его могут простить в индивидуальном порядке, но это все в воле комиссии, которая еще куда более рандомна, чем результаты экзамена.
Еще хочу поделиться, что готовиться и сдавать экзамен было неожиданно приятно. Во многом из-за ламповых топиков, которые вынырнули как будто прямиком из 1990-х с их ожиданиями конца истории: мультикультурализм, защита дикой природы, финансовая грамотность, забота о ментальном здоровье. Понимаю, что сегодня это может показаться идеологией глобализации, поданной под видом на первый взгляд нейтральной процедуры получения сертификата. Тем не менее, меня посетила дикая ностальгия по тому времени, когда эти идеи казались непререкаемыми. Как будто я читаю переводную энциклопедию «Росмэн», которую мне мама подарила на Новый год.
Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide
👍126🙏35🖕2🤝2
Скажи мне, кто твой стейкхолдер
Русскоязычный либеральный Фейсбук продолжает отжигать. Теперь там всерьез предлагают инициировать забастовку меценатов во всех американских университетах, где нашлись студенты или преподаватели, которые критикуют израильское правительство. Я не буду всерьез пускаться в дебаты о свободе слова в университете. Думаю, моя позиция понятна. Хочу только развеять миф о том, что наука и образование в США живут за счет щедрости брюсов уэйнов или скруджей макдаков.
Во-первых, пропорция дарений в бюджете американских университетах редко превышает несколько процентов. Основные доли доходов складываются, грубо говоря, из четырех частей: платы за обучение, исследовательских грантов, доходов эндаумента и оказания услуг. В эту графу включаются любые транзакции от юридического консалтинга до билетов на матчи университетских команд. Она особо солидна, если при университете есть больница, в которой исследования сочетаются с дорогостоящим лечением онкологических, аутоиммунных и прочих заболеваний. К примеру, в Университете Чикаго медицина – это буквально половина бюджета.
Во-вторых, если когда-то давно университетские эндаументы были связаны с деньгами наиболее солидных дарителей, то этой связи давно нет. Сегодняшний университетский эндаумент – это, по сути, небольшой инвестиционный фонд, который самостоятельно поддерживает себя на плаву, вкладываясь во что угодно от недвижимости до технологических стартапов. Зачастую мощным эндаументом владеют и государственные университеты. Скажем, размер его в Университете Техаса (42 млрд. долларов) примерно сопоставим с бюджетом РФ на высшее образование.
Короче говоря, современные университеты перестали быть зависимы от доброты баронов-разбойников. Никто всерьез не может заставить замолчать какое-то движение, просто перестав выписывать чеки своей alma mater. В этом хорошая новость. Но эта же новость плохая. Университеты сами стали огромными капиталистическими корпорациями, а культура молодежного бунта неплохо вписывается в их бренды. Так что уравнивать академические свободы и любые студенческие инициативы я бы тоже не стал.
Русскоязычный либеральный Фейсбук продолжает отжигать. Теперь там всерьез предлагают инициировать забастовку меценатов во всех американских университетах, где нашлись студенты или преподаватели, которые критикуют израильское правительство. Я не буду всерьез пускаться в дебаты о свободе слова в университете. Думаю, моя позиция понятна. Хочу только развеять миф о том, что наука и образование в США живут за счет щедрости брюсов уэйнов или скруджей макдаков.
Во-первых, пропорция дарений в бюджете американских университетах редко превышает несколько процентов. Основные доли доходов складываются, грубо говоря, из четырех частей: платы за обучение, исследовательских грантов, доходов эндаумента и оказания услуг. В эту графу включаются любые транзакции от юридического консалтинга до билетов на матчи университетских команд. Она особо солидна, если при университете есть больница, в которой исследования сочетаются с дорогостоящим лечением онкологических, аутоиммунных и прочих заболеваний. К примеру, в Университете Чикаго медицина – это буквально половина бюджета.
Во-вторых, если когда-то давно университетские эндаументы были связаны с деньгами наиболее солидных дарителей, то этой связи давно нет. Сегодняшний университетский эндаумент – это, по сути, небольшой инвестиционный фонд, который самостоятельно поддерживает себя на плаву, вкладываясь во что угодно от недвижимости до технологических стартапов. Зачастую мощным эндаументом владеют и государственные университеты. Скажем, размер его в Университете Техаса (42 млрд. долларов) примерно сопоставим с бюджетом РФ на высшее образование.
Короче говоря, современные университеты перестали быть зависимы от доброты баронов-разбойников. Никто всерьез не может заставить замолчать какое-то движение, просто перестав выписывать чеки своей alma mater. В этом хорошая новость. Но эта же новость плохая. Университеты сами стали огромными капиталистическими корпорациями, а культура молодежного бунта неплохо вписывается в их бренды. Так что уравнивать академические свободы и любые студенческие инициативы я бы тоже не стал.
👍84👌10✍1
Дисциплина в цифрах
Читатель прислал в редакцию канала лекцию Себастьяна Коля по истории социологии в США. Что делает ее особенно классной на фоне остальных – это акцент не на персоналиях и датах, а на временных рядах самого разного толка: социально-демографическом составе, членстве в тематических секциях ASA, наиболее упоминаемых и цитируемых авторов и т. п. Коль – специалист по тематическому моделированию, но в своей лекции в основном использует простые открытые данные со ссылками. Можете покопаться в них сами, если интересно.
Меня особенно увлек сюжет сравнения социальных наук по числу студентов. Раньше почему-то казалось, что по этому параметру экономика должна существенно доминировать над социологией. Ну хотя бы раза в два или три. Оказалось, что почти двукратный разрыв действительно наблюдался в 1980-х гг., но с тех пор был отыгран. (Кстати, захотелось почитать больше про вот этот провал социологии по степеням в период между сверхуспешными 1960–1970-ми и последующим восстановлением.)
На рубеже 2000–2010-х гг. экономистов все еще выпускалось почти в полтора раза больше на уровне магистратуры и аспирантуры, но на уровне бакалавриата социологи даже чуть-чуть даже вырвались вперед. С политологией примерно такая же ситуация. Она вообще самая популярная среди всех социальных наук на уровне баков и магистров, но чуть позади от экономистов в PhD-шниках. Единственная дисциплина, которая на протяжении долгого времени тягается с экономикой почти ноздря в ноздрю – это история.
Самая банальная интерпретация, которая вытекает из этих данных, заключается в том, что американские социологи сумели неплохо освоить рынок первичного высшего образования, но проигрывают соседям, когда дело касается более серьезной академической специализации. Коль добавляет к этому, что по сравнению с конкурентами социология далеко не так успешна в создании ниши прикладной экспертизы за пределами академии. В общем, много молодых ребят поступают на социологические факультеты, но потом уходят куда-то в другие области. Мне кажется, что в России при всей разнице образовательных институтов картина в чем-то похожая.
Читатель прислал в редакцию канала лекцию Себастьяна Коля по истории социологии в США. Что делает ее особенно классной на фоне остальных – это акцент не на персоналиях и датах, а на временных рядах самого разного толка: социально-демографическом составе, членстве в тематических секциях ASA, наиболее упоминаемых и цитируемых авторов и т. п. Коль – специалист по тематическому моделированию, но в своей лекции в основном использует простые открытые данные со ссылками. Можете покопаться в них сами, если интересно.
Меня особенно увлек сюжет сравнения социальных наук по числу студентов. Раньше почему-то казалось, что по этому параметру экономика должна существенно доминировать над социологией. Ну хотя бы раза в два или три. Оказалось, что почти двукратный разрыв действительно наблюдался в 1980-х гг., но с тех пор был отыгран. (Кстати, захотелось почитать больше про вот этот провал социологии по степеням в период между сверхуспешными 1960–1970-ми и последующим восстановлением.)
На рубеже 2000–2010-х гг. экономистов все еще выпускалось почти в полтора раза больше на уровне магистратуры и аспирантуры, но на уровне бакалавриата социологи даже чуть-чуть даже вырвались вперед. С политологией примерно такая же ситуация. Она вообще самая популярная среди всех социальных наук на уровне баков и магистров, но чуть позади от экономистов в PhD-шниках. Единственная дисциплина, которая на протяжении долгого времени тягается с экономикой почти ноздря в ноздрю – это история.
Самая банальная интерпретация, которая вытекает из этих данных, заключается в том, что американские социологи сумели неплохо освоить рынок первичного высшего образования, но проигрывают соседям, когда дело касается более серьезной академической специализации. Коль добавляет к этому, что по сравнению с конкурентами социология далеко не так успешна в создании ниши прикладной экспертизы за пределами академии. В общем, много молодых ребят поступают на социологические факультеты, но потом уходят куда-то в другие области. Мне кажется, что в России при всей разнице образовательных институтов картина в чем-то похожая.
👍46
Элизабет Попп Берман – один из ведущих исследователей социального знания с фокусом на политическом бессознательном, которое скрывается за любыми рациональными моделями общества и человека. Я уж было порадовался, что книгу, подводящей итог ее многолетнего интереса к стилям мышления среди экономистов, перевели на русский. Оказалось, что коллега Жихаревич пока только про оригинал. Что ж, тоже неплохо.
👍24👌1
Forwarded from Горький
О политических взглядах и этике можно спорить, но есть вещи, которые не заболтаешь: например, экономическая эффективность — по-настоящему рациональный критерий, которые помогает принимать верные решения в любой ситуации. Книга Элизабет Попп Берман объясняет, почему это кредо технократов само по себе спорно и балансирует на грани болтовни. О поучительном для всех нас исследовании американского социолога обстоятельно рассказывает Дмитрий Жихаревич.
https://gorky.media/reviews/ya-i-sam-svoego-roda-ekonomist/
https://gorky.media/reviews/ya-i-sam-svoego-roda-ekonomist/
gorky.media
Я и сам своего рода экономист
О книге «Думать как экономисты. Как эффективность заменила равенство в государственной политике США»
👍31👌1
Праздник к нам приходит
По моему опыту, День социолога празднуют в основном коллеги из Санкт-Петербурга. Кажется, что традиция, зародившаяся в постсоветском СПбГУ, распространилась на СИ РАН, ЕУСПб и питерское отделение Вышки, а в других городах и регионах не особенно прижилась. Очень жаль, ведь если профессия есть, то и день для нее тоже нужен.
Кстати, напоминаю, что формальный повод для празднования – открытие Русской Высшей школы общественных наук. Но не в Санкт-Петербурге, а в Париже. Открыли ее эмигранты, бежавшие от царистских порядков. Сегодня я понимаю этот контекст совсем по-другому, чем на первом курсе магистратуры.
В общем, поздравляю всех коллег независимо от вашей нынешней геолокации! Желаю сговорчивых интервьюеров, чистых данных и концептуально вдохновляющих текстов! Социология – наука не только прошлого и настоящего, но и будущего!
По моему опыту, День социолога празднуют в основном коллеги из Санкт-Петербурга. Кажется, что традиция, зародившаяся в постсоветском СПбГУ, распространилась на СИ РАН, ЕУСПб и питерское отделение Вышки, а в других городах и регионах не особенно прижилась. Очень жаль, ведь если профессия есть, то и день для нее тоже нужен.
Кстати, напоминаю, что формальный повод для празднования – открытие Русской Высшей школы общественных наук. Но не в Санкт-Петербурге, а в Париже. Открыли ее эмигранты, бежавшие от царистских порядков. Сегодня я понимаю этот контекст совсем по-другому, чем на первом курсе магистратуры.
В общем, поздравляю всех коллег независимо от вашей нынешней геолокации! Желаю сговорчивых интервьюеров, чистых данных и концептуально вдохновляющих текстов! Социология – наука не только прошлого и настоящего, но и будущего!
👏78🙏7🤝5👍3
Сегодня создавать политическое медиа без ботоферм и сливов из гэбухи невероятно сложно, но можно! «Это базис» – как раз такой пример честности и независимости. Призываю вас поддержать их любой доступной вам валютой. Я вот пока могу только рублем.
👍36👎3
Forwarded from Это базис
Запускаем кампанию по сбору на наш новый, оперативный формат выпусков!
Мы уже просили вас поддержать сборы и благодаря вам ввели оплату работы редакции подкаста и смогли арендовать дорогостоящую технику. Теперь вновь просим о помощи! Чтобы регулярно записывать «Базис-повестку», нам нужно собрать 147 долларов регулярных пожертвований в месяц.
Читайте карточки, чтобы подробнее узнать о наших планах и подписывайтесь на patreon!
💸 Подписаться на patreon
Мы уже просили вас поддержать сборы и благодаря вам ввели оплату работы редакции подкаста и смогли арендовать дорогостоящую технику. Теперь вновь просим о помощи! Чтобы регулярно записывать «Базис-повестку», нам нужно собрать 147 долларов регулярных пожертвований в месяц.
Читайте карточки, чтобы подробнее узнать о наших планах и подписывайтесь на patreon!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21👎3👏2🤝2
Потлач антропологов
Леви-Стросс утверждал, что обмен невестами позволяет племенам воздерживаться от кровесмесительных отношений. Что-то подобное утверждают о себе на словах современные университеты, обменивающиеся выпускниками во избежание академического инбридинга. Группа исследователей под руководством Николаса Кавы в American Anthropologist проанализировала данные о том, как американские антропологические факультеты связаны между собой через сети мобильности обладателей степеней.
Главная эмпирическая находка статьи заключается в том, что никакой генерализированной реципроктности в антропологии как дисциплине не существует. Напротив, несколько центральных факультетов заваливают остальных своими выпускниками, мало кого принимая в ответ. Чикаго, Гарвард, Мичиган, Беркли и Аризона суммарно ответственны за подготовку почти трети профессоров антропологии в США. При этом Чикаго – бигмен даже среди бигменов. Выпускники этого факультета чаще всего находят работу в остальных членах большой пятерки.
А что же выпускники департаментов попроще? Кава и его соавторы с сожалением сообщают, что им приходится искать работу на менее престижных программах типа area studies или вообще уходить из академии. К этому нужно добавить, что чем меньше обладатели степеней находят престижную работу, тем меньше новых позиций для аспирантов там оплачивается университетским начальством. Вот такой замкнутый круг межуниверситетского неравенства.
В заключении статьи предприняты некоторые интересные суждения о том, как это положение вещей можно исправить. Команда Кавы признает, что наиболее престижные факультеты со временем собрали у себя, возможно, действительно самых тренированных специалистов. Механический найм выходцев с периферии вряд ли поможет переломить тенденцию с воспроизводством кадров в целом. Так что нужно довольно серьезно менять многие процедуры обучения и аттестации. Политической воли на такое, конечно, ни у кого нет.
Леви-Стросс утверждал, что обмен невестами позволяет племенам воздерживаться от кровесмесительных отношений. Что-то подобное утверждают о себе на словах современные университеты, обменивающиеся выпускниками во избежание академического инбридинга. Группа исследователей под руководством Николаса Кавы в American Anthropologist проанализировала данные о том, как американские антропологические факультеты связаны между собой через сети мобильности обладателей степеней.
Главная эмпирическая находка статьи заключается в том, что никакой генерализированной реципроктности в антропологии как дисциплине не существует. Напротив, несколько центральных факультетов заваливают остальных своими выпускниками, мало кого принимая в ответ. Чикаго, Гарвард, Мичиган, Беркли и Аризона суммарно ответственны за подготовку почти трети профессоров антропологии в США. При этом Чикаго – бигмен даже среди бигменов. Выпускники этого факультета чаще всего находят работу в остальных членах большой пятерки.
А что же выпускники департаментов попроще? Кава и его соавторы с сожалением сообщают, что им приходится искать работу на менее престижных программах типа area studies или вообще уходить из академии. К этому нужно добавить, что чем меньше обладатели степеней находят престижную работу, тем меньше новых позиций для аспирантов там оплачивается университетским начальством. Вот такой замкнутый круг межуниверситетского неравенства.
В заключении статьи предприняты некоторые интересные суждения о том, как это положение вещей можно исправить. Команда Кавы признает, что наиболее престижные факультеты со временем собрали у себя, возможно, действительно самых тренированных специалистов. Механический найм выходцев с периферии вряд ли поможет переломить тенденцию с воспроизводством кадров в целом. Так что нужно довольно серьезно менять многие процедуры обучения и аттестации. Политической воли на такое, конечно, ни у кого нет.
👍57👌3👎2
Логика поля
Я как-то упоминал, что в старших классах школы у меня была кратковременная мечта стать спортивным обозревателем. Мечта давно прошла, но до сих пор люблю кайфовать от хороших аналитических текстов. Вот Вадим Лукомский написал свой очередной гиковский шедевр про то, как за последние пару десятилетий в футболе пропала роль классической десятки, которую заменили многофункциональные работяги. Я, как всегда, не мог оторваться, погружался в каждый аргумент.
Пока читал Вадима, в голову пришло что-то типа осознания, как мир футбольной и баскетбольной аналитики подготовил мой интерес к социологии структур. Задолго до поступления в магистратуру я всерьез принял мысль, что самое главное и интересное в игре – это тактические рисунки. Типа если для нубов командные виды спорта – это только нарезки с финтами звезд, то настоящий обозреватель всегда видит игровую ситуацию/матч/даже сезон целиком. Отсюда не так далеко до идеи, что и в любом социальном поле есть своя логика, которую можно изучить рационально.
Понятно, что этот взгляд на социологическое исследование не может быть единственно возможным. Если продолжать аналогии из спортивной журналистики, то даже мне скучновато бывает потреблять исключительно сухую аналитику. Лукомский ярче всего выступает в тандеме с Игорем Порошиным. Так и любому структуралисту нужна полемика с условным феноменологом, чтобы совсем не отрываться от жизненного мира.
Тем не менее, я остро чувствую дефицит структуралистского взгляда в современной социологической теории, да и в социологии в принципе. Даже приняв во внимание все слепые пятна такого подхода, я утверждаю, что без него наша наука не может состояться в полной мере. Хочется надеяться, что за неполных три года существования этого канала я хотя бы кого-то в этом убедил. Так что берегите себя. Играйте в футбол. Читайте Бурдье.
Я как-то упоминал, что в старших классах школы у меня была кратковременная мечта стать спортивным обозревателем. Мечта давно прошла, но до сих пор люблю кайфовать от хороших аналитических текстов. Вот Вадим Лукомский написал свой очередной гиковский шедевр про то, как за последние пару десятилетий в футболе пропала роль классической десятки, которую заменили многофункциональные работяги. Я, как всегда, не мог оторваться, погружался в каждый аргумент.
Пока читал Вадима, в голову пришло что-то типа осознания, как мир футбольной и баскетбольной аналитики подготовил мой интерес к социологии структур. Задолго до поступления в магистратуру я всерьез принял мысль, что самое главное и интересное в игре – это тактические рисунки. Типа если для нубов командные виды спорта – это только нарезки с финтами звезд, то настоящий обозреватель всегда видит игровую ситуацию/матч/даже сезон целиком. Отсюда не так далеко до идеи, что и в любом социальном поле есть своя логика, которую можно изучить рационально.
Понятно, что этот взгляд на социологическое исследование не может быть единственно возможным. Если продолжать аналогии из спортивной журналистики, то даже мне скучновато бывает потреблять исключительно сухую аналитику. Лукомский ярче всего выступает в тандеме с Игорем Порошиным. Так и любому структуралисту нужна полемика с условным феноменологом, чтобы совсем не отрываться от жизненного мира.
Тем не менее, я остро чувствую дефицит структуралистского взгляда в современной социологической теории, да и в социологии в принципе. Даже приняв во внимание все слепые пятна такого подхода, я утверждаю, что без него наша наука не может состояться в полной мере. Хочется надеяться, что за неполных три года существования этого канала я хотя бы кого-то в этом убедил. Так что берегите себя. Играйте в футбол. Читайте Бурдье.
👍51👌21👏5👎2
С большим опозданием посмотрел большой сборный стрим «Рабкора» о текущей политической ситуации. Многие участники подчеркивали, что никаким оптимизмом они поделиться не могут, но я просто порадовался возможности послушать достойных людей. Костю Корягина особенно приятно не только слушать, но видеть. Безукоризненно стильный лук.
👍33
Forwarded from Рабкор
Мы начинаем. Присоединяйтесь!
YouTube
Как победить диктатуру? ВЫБОРЫ ПУТИНА. Война с абортами в России // Будрайтскис, Лобанов, Замятин
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИХАИЛОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ЛОБАНОВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ЛОБАНОВА.
На стриме вместе с представителями левых движений…
На стриме вместе с представителями левых движений…
👍24👎1🤝1