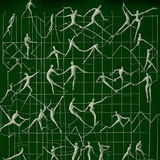Неуживчивый народец антропологов
Прошла уже неделя с занятий по исследованиям антропологов не как субъектов, а как объектов наблюдения, а я до сих нахожусь под впечатлением исследования Дэвидом Миллзом своих собственных британских коллег. Мы со слушателями также пробежались по советскому, французскому и американскому вариантам истории дисциплины, но именно Difficult Folk меня захватила больше всего. Спасибо коллеге Москвиной за то, что обратила наше внимание на монографию! Попробую очертить ее сильные стороны.
Во-первых, автор признает, что антропология была связана мириадами нитей с британским колониальным порядком. Однако Миллз далек от защиты примитивного тезиса о том, что социальная наука является лишь инструментом надзора и наказания. Отношения между академической сферой и сферой имперской администрации у него полны парадоксов и неожиданностей. Скажем, финансирование антропологов колониальными стейкхолдерами активно началось только на излете империи, а наиболее активными организаторами сообщества были анархисты и лейбористы, которые не скрывали своей оппозиции империи как таковой.
Во-вторых, в отличие от стандартных нарративов про героических отцов-основателей, Миллз в основном изучает целые учреждения и институции (организационный базис дисциплины, как сказал бы Рэндалл Коллинз). В их числе не только университеты и комитеты, но и частные фонды, профессиональные ассоциации и неформальные сети. Что, кстати, не отменяет важности вклада отдельных фигур. Миллз доказывает, что любые планы Малиновского по внедрению полевой работы были бы невозможны в отрыве от готового на эксперименты руководства LSE, а инициативы Макса Глакмана по нестандартному для его коллег изучению индустриализации не выгорели бы без попыток государственного аппарата создать лояльные метрополии местные органы власти.
В-третьих, концептуальные акценты у Миллза сочетаются с высококлассным эмпиризмом. Исследователь утилизирует письма, документы общественных и государственных органов, интервью. Все это создает очень плотное и насыщенное повествование, полное кучи имен и названий. Миллз не упускает из виду даже значения второстепенных персонажей вроде сотрудников фонда Рокфеллера или чиновников от образования среднего звена. Одна из главных задач такого рода историй – это создание максимально полной дисциплинарной памяти. Думаю, что она выполнена успешно.
Прошла уже неделя с занятий по исследованиям антропологов не как субъектов, а как объектов наблюдения, а я до сих нахожусь под впечатлением исследования Дэвидом Миллзом своих собственных британских коллег. Мы со слушателями также пробежались по советскому, французскому и американскому вариантам истории дисциплины, но именно Difficult Folk меня захватила больше всего. Спасибо коллеге Москвиной за то, что обратила наше внимание на монографию! Попробую очертить ее сильные стороны.
Во-первых, автор признает, что антропология была связана мириадами нитей с британским колониальным порядком. Однако Миллз далек от защиты примитивного тезиса о том, что социальная наука является лишь инструментом надзора и наказания. Отношения между академической сферой и сферой имперской администрации у него полны парадоксов и неожиданностей. Скажем, финансирование антропологов колониальными стейкхолдерами активно началось только на излете империи, а наиболее активными организаторами сообщества были анархисты и лейбористы, которые не скрывали своей оппозиции империи как таковой.
Во-вторых, в отличие от стандартных нарративов про героических отцов-основателей, Миллз в основном изучает целые учреждения и институции (организационный базис дисциплины, как сказал бы Рэндалл Коллинз). В их числе не только университеты и комитеты, но и частные фонды, профессиональные ассоциации и неформальные сети. Что, кстати, не отменяет важности вклада отдельных фигур. Миллз доказывает, что любые планы Малиновского по внедрению полевой работы были бы невозможны в отрыве от готового на эксперименты руководства LSE, а инициативы Макса Глакмана по нестандартному для его коллег изучению индустриализации не выгорели бы без попыток государственного аппарата создать лояльные метрополии местные органы власти.
В-третьих, концептуальные акценты у Миллза сочетаются с высококлассным эмпиризмом. Исследователь утилизирует письма, документы общественных и государственных органов, интервью. Все это создает очень плотное и насыщенное повествование, полное кучи имен и названий. Миллз не упускает из виду даже значения второстепенных персонажей вроде сотрудников фонда Рокфеллера или чиновников от образования среднего звена. Одна из главных задач такого рода историй – это создание максимально полной дисциплинарной памяти. Думаю, что она выполнена успешно.
👍45
Обратите внимание на грядущую междисциплинарную секцию, посвященную исследованиям вампир-сообщества серых зон в функционировании хозяйства. Организаторы просят передать, что дедлайн продлен до 9 апреля включительно! Ну и если нет своих тезисов, то обязательно приходите на дискуссию!
👍20
Forwarded from Russian Field | Социология
Друзья, наша коллега Екатерина Нойкина в рамках ежегодной Шанинской конференции «Векторы-2023» организовывает секцию «Чем мы заняты в тени: исследования теневых экономических систем».
Обычно такие исследования предполагают закрытое поле, сложный рекрутинг, отсутствие точных статистических данных, практики умолчания, необходимость корректировки старых и придумывания новых методов работы с агентами рынка и множество других вызовов.
В рамках работы секции организаторы предлагают обменяться опытом по решению теоретических, этических и методологических вопросов. Коллеги ждут на площадке не только социологов: разговор с позиции различных социально-гуманитарных дисциплин поможет лучше понять проблемы, возникающие на пути.
Подать заявки на выступление с докладом можно на почту:
[email protected]
или [email protected]
до 29 марта.
Тема письма: «Векторы-23_04».
Зарегистрироваться слушателем можно по ссылке.
В секции уже подтвердили участие Александр Чепуренко, доктор экономических наук, специалист в области экономической социологии, заслуженный профессор ВШЭ, Светлана Барсукова, доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии ВШЭ, Елена Белявская (Бердышева), старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований и другие.
Конференция молодых ученых «Векторы-2023» пройдёт с 21 по 23 апреля в Шанинке.
Обычно такие исследования предполагают закрытое поле, сложный рекрутинг, отсутствие точных статистических данных, практики умолчания, необходимость корректировки старых и придумывания новых методов работы с агентами рынка и множество других вызовов.
В рамках работы секции организаторы предлагают обменяться опытом по решению теоретических, этических и методологических вопросов. Коллеги ждут на площадке не только социологов: разговор с позиции различных социально-гуманитарных дисциплин поможет лучше понять проблемы, возникающие на пути.
Подать заявки на выступление с докладом можно на почту:
[email protected]
или [email protected]
до 29 марта.
Тема письма: «Векторы-23_04».
Зарегистрироваться слушателем можно по ссылке.
В секции уже подтвердили участие Александр Чепуренко, доктор экономических наук, специалист в области экономической социологии, заслуженный профессор ВШЭ, Светлана Барсукова, доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии ВШЭ, Елена Белявская (Бердышева), старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований и другие.
Конференция молодых ученых «Векторы-2023» пройдёт с 21 по 23 апреля в Шанинке.
www.msses.ru
“Чем мы заняты в тени”: исследования теневых экономических систем. Секция конференции «Векторы–2023»
👍22
Месть ситхов
Бывают такие фильмы, по сюжету которых знаешь, что темные силы победят, но продолжаешь болеть за главных героев. Пока готовился к лекции по исследованиям экономического знания, прочитал целых две интереснейшие исторические статьи, которые оставляют примерно такое ощущение. Конечно, догадываешься, что все в итоге обернется триумфом рыночного фундаментализма, но читаешь до конца в напряжении и надеешься, что кто-то все-таки сможет дать отпор. Напрасно.
В History of Political Economy Филип Мировски и Уэйд Хэндс исследуют дебаты 1950–1970-х гг. в США вокруг неоклассического синтеза: теории, которая логично и непротиворечиво связала бы положения вальрасовской микроэкономики и кейсианской макроэкономики. На решение вопроса претендовали группы экономистов из трех престижных организаций: Комиссии Коулза, экономфака Чикаго и экономфака MIT. Их всех объединяло недоверие к институционалистам и марксистам, однако их интеллектуальные устремления были различными.
Группа Комиссии Коулза, самыми известными представителями которой были будущие нобелевские лауреаты Кеннет Эрроу и Жерар Дебре, интересовалась в основном решением проблемы достижения равновесия одновременно на всех рынках. Экономисты MIT под руководством Пола Самуэльсона большее значение придавали неотвратимости фиаско на отдельных их них. Обе школы держали себя в руках и представляли себе рынок имеющим границы, а право и бюрократию как экзогенные факторы. Чикагцы, сконцентрированные вокруг Мильтона Фридмана, нарушили это табу. Они стали рисовать регулятор как такой же набор эгоистичных акторов. Это решение, которое полностью нивелировало кейнсианскую сторону проблемы, привело не только к интеллектуальному поражению остальных искателей синтеза, но и обеспечило успех дальнейших интервенций Чикагской школы в право, социологию и политическую науку. Начало экономическому империализму было положено авторитаризмом внутри самой дисциплины.
В Studies in History and Philosophy of Science Part A Иван Болдырев и Олеся Кирчик интересуются примерно этим же периодом, но уже в СССР. Исследователи показывают, что советская экономическая наука обладала почти всеми чертами сложившейся автономной дисциплины. Недоставало только одной важной детали – своей теории. За пальму первенства боролись две неформальных школы. С одной стороны, плановые кибернетики из московского ЦЭМИ и новосибирского ИЭОПП. С другой стороны, латентные неоклассики, крепостью которых были в основном институты и факультеты прикладной математики по всей стране. Впрочем, обеим группам фактически запрещалось развивать концептуальный аппарат хоть сколько-нибудь полно и развернуто из-за монополии партийных структур на знания о народном хозяйстве.
Теоретическая невинность советских экономистов обернулась их самоуверенностью в достаточности математических методов. После того, как плановая экономика стала трещать по швам, а из-за занавеса стала проникать модная американская литература, концептуальная жажда привела многих из них к некритическому восприятию импортированных идей. Латентные неоклассики стали явными. Чикагскому мейнстриму удалось покорить университетскую среду соперничающей сверхдержавы. Под аплодисменты, как сказала бы сенатор Амидала.
Бывают такие фильмы, по сюжету которых знаешь, что темные силы победят, но продолжаешь болеть за главных героев. Пока готовился к лекции по исследованиям экономического знания, прочитал целых две интереснейшие исторические статьи, которые оставляют примерно такое ощущение. Конечно, догадываешься, что все в итоге обернется триумфом рыночного фундаментализма, но читаешь до конца в напряжении и надеешься, что кто-то все-таки сможет дать отпор. Напрасно.
В History of Political Economy Филип Мировски и Уэйд Хэндс исследуют дебаты 1950–1970-х гг. в США вокруг неоклассического синтеза: теории, которая логично и непротиворечиво связала бы положения вальрасовской микроэкономики и кейсианской макроэкономики. На решение вопроса претендовали группы экономистов из трех престижных организаций: Комиссии Коулза, экономфака Чикаго и экономфака MIT. Их всех объединяло недоверие к институционалистам и марксистам, однако их интеллектуальные устремления были различными.
Группа Комиссии Коулза, самыми известными представителями которой были будущие нобелевские лауреаты Кеннет Эрроу и Жерар Дебре, интересовалась в основном решением проблемы достижения равновесия одновременно на всех рынках. Экономисты MIT под руководством Пола Самуэльсона большее значение придавали неотвратимости фиаско на отдельных их них. Обе школы держали себя в руках и представляли себе рынок имеющим границы, а право и бюрократию как экзогенные факторы. Чикагцы, сконцентрированные вокруг Мильтона Фридмана, нарушили это табу. Они стали рисовать регулятор как такой же набор эгоистичных акторов. Это решение, которое полностью нивелировало кейнсианскую сторону проблемы, привело не только к интеллектуальному поражению остальных искателей синтеза, но и обеспечило успех дальнейших интервенций Чикагской школы в право, социологию и политическую науку. Начало экономическому империализму было положено авторитаризмом внутри самой дисциплины.
В Studies in History and Philosophy of Science Part A Иван Болдырев и Олеся Кирчик интересуются примерно этим же периодом, но уже в СССР. Исследователи показывают, что советская экономическая наука обладала почти всеми чертами сложившейся автономной дисциплины. Недоставало только одной важной детали – своей теории. За пальму первенства боролись две неформальных школы. С одной стороны, плановые кибернетики из московского ЦЭМИ и новосибирского ИЭОПП. С другой стороны, латентные неоклассики, крепостью которых были в основном институты и факультеты прикладной математики по всей стране. Впрочем, обеим группам фактически запрещалось развивать концептуальный аппарат хоть сколько-нибудь полно и развернуто из-за монополии партийных структур на знания о народном хозяйстве.
Теоретическая невинность советских экономистов обернулась их самоуверенностью в достаточности математических методов. После того, как плановая экономика стала трещать по швам, а из-за занавеса стала проникать модная американская литература, концептуальная жажда привела многих из них к некритическому восприятию импортированных идей. Латентные неоклассики стали явными. Чикагскому мейнстриму удалось покорить университетскую среду соперничающей сверхдержавы. Под аплодисменты, как сказала бы сенатор Амидала.
👍50
Про когда-то поразительно мощную социологическую службу «Камаза» повествуют в своей статье Константин Галкин и Елена Рассолова, а коллеги с канала «Антрополог на районе» пересказывают. Королевство с собственными HR-отделом при заводе и факультетом в университете, скрытое от посторонних глаз в глубине Татарстана. Прямо социологическая Ваканда какая-то. Даже неловко, что раньше ничего не знал про такой объемный кейс одновременно и интеллектуальной, и социальной истории СССР. Исправляюсь.
👍35👏6
Forwarded from Антрополог на районе
Социологическая служба КАМАЗа. Центр обработки данных социологических исследований на ЕС ЭВМ.
Фото из фондов Музея КАМАЗа.
Фото из фондов Музея КАМАЗа.
👍39👏5
Безумие в методе
Науки о человеке эпохи Холодной войны подарили нам два дискурса, которые по-прежнему с нами: теоретико-игровой и кибернетический. Оба были созданы в ходе поиска ключей к контролю за процессами и обмену информацией, но имели огромное влияние за пределами прикладных исследований. Например, на популярную культуру. Для описания миров, видимых из каждого дискурса, а также их ограничений, удобно использовать различение, придуманное когда-то по другому поводу Виктором Вахштайном.
Мир игрового теоретика состоит из атомизированных индивидов, а, значит, потенциально параноидален. Каждому индивиду кажется, что другие испускают ложные сигналы о своих будущих ходах, но при этом насквозь просчитывают его собственную стратегию. Пытаясь абсолютизировать эту своеобразную рациональность, игрок может прийти к полной иррациональности. В кинематографе той эпохи эту параноидальную установку превосходно иллюстрирует генерал Риппер из кубриковского «Доктора Стрейнджлава», который нажимает на ядерную кнопку исходя из реальности всепроникающего коммунистического заговора.
Кибнетик, напротив, воспринимает все вокруг исключительно холистично, а, следовательно, может обернуться шизоидом. Каждый в его мире – элемент системы, связанный с другими такими же элементами петлями обратной связи. Кибернетику недоступна никакая другая реальность, кроме той, которую программирует система. В том же, что и фильм Кубрика, 1964 году в свет вышел роман Давида Галуйе «Симулакрон-3», чуть позже экранизированный Райнером Вернером Фассбиндером. По сюжету персонажи пребывают в огромной компьютерной симуляции, созданной для замены опросов общественного мнения. По мере повествования выясняется, что (внимание, спойлеры!)эта симуляция является лишь частью еще более масштабной симуляции.
Все сказанное, конечно, не означает, что построения гениальных умов от фон Ноймана и Винера до Саймона и Бейтсона изначально граничат с психопатологией. Скорее я имею в виду то, что отвязанные от контекста первоначальной задумки своих создателей идеи начинают жить собственной жизнью и влиять на поведение людей. В том числе облеченных властью. Условных патрушевых. Так что с идеями нужно обращаться рефлексивно.
Науки о человеке эпохи Холодной войны подарили нам два дискурса, которые по-прежнему с нами: теоретико-игровой и кибернетический. Оба были созданы в ходе поиска ключей к контролю за процессами и обмену информацией, но имели огромное влияние за пределами прикладных исследований. Например, на популярную культуру. Для описания миров, видимых из каждого дискурса, а также их ограничений, удобно использовать различение, придуманное когда-то по другому поводу Виктором Вахштайном.
Мир игрового теоретика состоит из атомизированных индивидов, а, значит, потенциально параноидален. Каждому индивиду кажется, что другие испускают ложные сигналы о своих будущих ходах, но при этом насквозь просчитывают его собственную стратегию. Пытаясь абсолютизировать эту своеобразную рациональность, игрок может прийти к полной иррациональности. В кинематографе той эпохи эту параноидальную установку превосходно иллюстрирует генерал Риппер из кубриковского «Доктора Стрейнджлава», который нажимает на ядерную кнопку исходя из реальности всепроникающего коммунистического заговора.
Кибнетик, напротив, воспринимает все вокруг исключительно холистично, а, следовательно, может обернуться шизоидом. Каждый в его мире – элемент системы, связанный с другими такими же элементами петлями обратной связи. Кибернетику недоступна никакая другая реальность, кроме той, которую программирует система. В том же, что и фильм Кубрика, 1964 году в свет вышел роман Давида Галуйе «Симулакрон-3», чуть позже экранизированный Райнером Вернером Фассбиндером. По сюжету персонажи пребывают в огромной компьютерной симуляции, созданной для замены опросов общественного мнения. По мере повествования выясняется, что (внимание, спойлеры!)
👍36👏1
Вот это модный коллаб! Впору делать отдельную конференцию академических телеграм-канальщиков!
👍33
Forwarded from Земляки и земляне
Когда на конфе встретились три антропологических тг-канала - Иней на цветущей ежевике, Земляки и земляне и AnthropoLOGS
👏27👍5🤝2
Университет без профессоров – 2023
Друзья, с 16 по 18 июня аспиранты и молодые преподаватели факультета социологии ЕУСПб снова мутят летнюю школу для абитуриентов. Кроме лекций, мастер-классов и многого другого в фокусе будут коллективные обсуждения исследовательских проектов вашей мечты, с которыми вы могли бы поступить к нам на факультет, а потом и успешно защитить на основании их диссертации.
Традиционно среди наиболее актуальных и поощряемых тем – гендер, медицина, право, наука и технологии. Однако если у вас есть что-то свое интересненькое, не стесняйтесь и подавайтесь тоже. Если же у вас пока не сложилось четкого понимания, чем и как вы хотите заниматься, мы постараемся помочь с этим и направить на определенную стезю. Школа пройдет оффлайн в Санкт-Петербурге. Авторы лучших заявок получат тревел-гранты на проживание и проезд.
Все требования к потенциальным участникам можно найти на странице университета. Саму заявку загружать необходимо сюда. Если у вас есть вопросы по участию и поступлению, которые вы не смогли найти в открытых источниках, то можете писать мне в личку (она в шапке канала), а также моим коллегам Марии Глуховой и Екатерине Токаловой на электронную почту (адреса на странице школы). С нетерпением ждем вашего участия!
Друзья, с 16 по 18 июня аспиранты и молодые преподаватели факультета социологии ЕУСПб снова мутят летнюю школу для абитуриентов. Кроме лекций, мастер-классов и многого другого в фокусе будут коллективные обсуждения исследовательских проектов вашей мечты, с которыми вы могли бы поступить к нам на факультет, а потом и успешно защитить на основании их диссертации.
Традиционно среди наиболее актуальных и поощряемых тем – гендер, медицина, право, наука и технологии. Однако если у вас есть что-то свое интересненькое, не стесняйтесь и подавайтесь тоже. Если же у вас пока не сложилось четкого понимания, чем и как вы хотите заниматься, мы постараемся помочь с этим и направить на определенную стезю. Школа пройдет оффлайн в Санкт-Петербурге. Авторы лучших заявок получат тревел-гранты на проживание и проезд.
Все требования к потенциальным участникам можно найти на странице университета. Саму заявку загружать необходимо сюда. Если у вас есть вопросы по участию и поступлению, которые вы не смогли найти в открытых источниках, то можете писать мне в личку (она в шапке канала), а также моим коллегам Марии Глуховой и Екатерине Токаловой на электронную почту (адреса на странице школы). С нетерпением ждем вашего участия!
👍42👏2🖕1
Свобода лучше, чем несвобода
Тем, у кого нет времени и сил на изучение дебатов о перформативности или об истории институций социальных наук Холодной войны, я горячо рекомендую документальный мини-сериал Адама Кертиса «Западня». (О Кертисе вы, возможно, слышали в связи с его недавним фильмом про Россию лихих девяностых Trauma Zone. Да и вообще автор он плодовитый.)
Фильм построен вокруг идей главных британских интеллектуалов второй половины XX века, публичных и не очень, придумавших современный дискурс о свободе. Типа Джона Нэша, Исайи Берлина или Ричарда Докинза. Поинт Кертиса заключается в том, что последовательное осуществление всех этих идей завело британское общество совсем в противоположное направление: царство дикого экономического неравенства и бюрократизированных государственных служб.
Как и многие другие левые публицисты 1990–2000-х гг., Кертис в своем повествовании очень часто сваливается в такой gloom & doom анархизм. Типа, все давно потрачено и безнадежно. Из ловушки несвободы выхода нет. Давайте просто упиваться этим положением, ведь мы как человечество это заслужили. Эту эмоцию я вообще не покупаю. Но ее можно перетерпеть ради всего остального интересного, что заложено в сериале.
Тем, у кого нет времени и сил на изучение дебатов о перформативности или об истории институций социальных наук Холодной войны, я горячо рекомендую документальный мини-сериал Адама Кертиса «Западня». (О Кертисе вы, возможно, слышали в связи с его недавним фильмом про Россию лихих девяностых Trauma Zone. Да и вообще автор он плодовитый.)
Фильм построен вокруг идей главных британских интеллектуалов второй половины XX века, публичных и не очень, придумавших современный дискурс о свободе. Типа Джона Нэша, Исайи Берлина или Ричарда Докинза. Поинт Кертиса заключается в том, что последовательное осуществление всех этих идей завело британское общество совсем в противоположное направление: царство дикого экономического неравенства и бюрократизированных государственных служб.
Как и многие другие левые публицисты 1990–2000-х гг., Кертис в своем повествовании очень часто сваливается в такой gloom & doom анархизм. Типа, все давно потрачено и безнадежно. Из ловушки несвободы выхода нет. Давайте просто упиваться этим положением, ведь мы как человечество это заслужили. Эту эмоцию я вообще не покупаю. Но ее можно перетерпеть ради всего остального интересного, что заложено в сериале.
👍48👏3
Неожиданно для себя попал в подборку каналов с левой повесткой! Почетно! Академические прекарии всех стран – соединяйтесь! Да и чего тут мелочиться? Вообще все прекарии!
👍34👌1
Forwarded from левый движ 🥥
🌈 Мы всегда рады порекомендовать наших товарищ_ек, составили свою прогрессивно левую сеточку:
☀️ @zizekdaily — здесь вы найдёте то, что вас тревожит
☀️ @molokonews — терроризм, наркотики и насилие языком фактов
☀️ @moloko_plus – канал альманаха moloko plus. новости проекта и книжный магазин
☀️ @ru_sjw — левая политика, книгоиздание, социальная справедливость
☀️ @hatingleft — самые последовательные ленинисты
☀️ @podcastbasis — подкаст о политическом воображении и поиске смыслов в новой реальности
☀️ @directio_libera — маленькое левое издательство
☀️ @moviesbyTimur — фильмы, аниме, мультфильмы и сериалы, которые не оставят вас равнодушными
☀️ @structurestrikesback — критическая социологическая теория и критическая история социальных наук
☀️ @vatnikstan — познавательный проект о русскоязычном пространстве
Если вы делаете что-то классное и хотите попасть в нашу подборку, пишите, скоро опубликуем список организаций: @Hatingleft_bot
☀️ @zizekdaily — здесь вы найдёте то, что вас тревожит
☀️ @molokonews — терроризм, наркотики и насилие языком фактов
☀️ @moloko_plus – канал альманаха moloko plus. новости проекта и книжный магазин
☀️ @ru_sjw — левая политика, книгоиздание, социальная справедливость
☀️ @hatingleft — самые последовательные ленинисты
☀️ @podcastbasis — подкаст о политическом воображении и поиске смыслов в новой реальности
☀️ @directio_libera — маленькое левое издательство
☀️ @moviesbyTimur — фильмы, аниме, мультфильмы и сериалы, которые не оставят вас равнодушными
☀️ @structurestrikesback — критическая социологическая теория и критическая история социальных наук
☀️ @vatnikstan — познавательный проект о русскоязычном пространстве
Если вы делаете что-то классное и хотите попасть в нашу подборку, пишите, скоро опубликуем список организаций: @Hatingleft_bot
👌10👍9
Осторожно, фанбойство!
Подготовка к курсу принесла мне огромное количество интеллектуальных открытий, но даже на этом фоне выделяются труды Ивана Болдырева. Да-да, все эти годы я жил в танке, и Иван пролетел под моими радарами. Хотя он есть у меня во френдах в ФБ и даже любезно анонсировал там наш курс! За публикациями не менее крутой Олеси Кирчик, которая много с ним написала в соавторстве, я давно слежу. Да и подборку «Постнауки» можно было бы посмотреть наконец. Снова стыдно. Видимо, на канале появляется постоянная рубрика, где я каюсь о собственном незнании.
Статьи Ивана про историю экономической мысли в СССР читать просто дичайше увлекательно. Это классический немецкий подход к истории, где внимательность к деталям сочетается с концептуальными обобщениями, а содержательный разбор идей – с реконструкцией политического и социального контекста. Очарование материалом советской науки в моем случае тоже играет огромную роль. Когда долгое время учишься, а потом и работаешь на улице Ляпунова в Академгородке, и даже не задумываешься, кто это вообще такой, а спустя годы читаешь про него исследование в жанре SSSH, то сразу такой: «Блиииииииинн! Вотаноштооооо!»
Ну и для того, чтоб я точно стал законченным фанатом Ивана, он написал еще и статью о взглядах Никласа Лумана про подсистему экономики. Чтооооо? Ахаххахаха! Почему я не знал о ней до сих пор?! Ладно, оставлю вас и пойду угорать от всего этого дальше.
Подготовка к курсу принесла мне огромное количество интеллектуальных открытий, но даже на этом фоне выделяются труды Ивана Болдырева. Да-да, все эти годы я жил в танке, и Иван пролетел под моими радарами. Хотя он есть у меня во френдах в ФБ и даже любезно анонсировал там наш курс! За публикациями не менее крутой Олеси Кирчик, которая много с ним написала в соавторстве, я давно слежу. Да и подборку «Постнауки» можно было бы посмотреть наконец. Снова стыдно. Видимо, на канале появляется постоянная рубрика, где я каюсь о собственном незнании.
Статьи Ивана про историю экономической мысли в СССР читать просто дичайше увлекательно. Это классический немецкий подход к истории, где внимательность к деталям сочетается с концептуальными обобщениями, а содержательный разбор идей – с реконструкцией политического и социального контекста. Очарование материалом советской науки в моем случае тоже играет огромную роль. Когда долгое время учишься, а потом и работаешь на улице Ляпунова в Академгородке, и даже не задумываешься, кто это вообще такой, а спустя годы читаешь про него исследование в жанре SSSH, то сразу такой: «Блиииииииинн! Вотаноштооооо!»
Ну и для того, чтоб я точно стал законченным фанатом Ивана, он написал еще и статью о взглядах Никласа Лумана про подсистему экономики. Чтооооо? Ахаххахаха! Почему я не знал о ней до сих пор?! Ладно, оставлю вас и пойду угорать от всего этого дальше.
👍59👏8🙏1
Человек, миф, легенда
Сегодня день рождение у легендарного Сюткина, примерного семьянина, болельщика «Спартака», любителя пост-рока и единственного в мире честного (левого) диалектического материалиста, досрочно закрывшего ипотеку.
Перечитал историю нашего с ним случайного знакомства на паре у замечательной Лады Шиповаловой и в очередной раз посмеялся. С тех пор Антон сыграл в моей жизни совершенно особенную роль, забайтив на чтение Спинозы, Квентина Мейясу и, конечно, Хабермаса. Во-многом благодаря еготроллингу чуткому руководству я перестал стесняться своего интереса к социологической теории да и в целом стал куда более открытым к философским приключениям.
В наши неспокойные времена хочется пожелать ему, чтобы побыстрее настали времена, когда можно было бы снова прогуливаться со всеми друзьями по берегу Карповки и спорить о политике и онтологии. Поздравляю от всей души! И в очередной раз призываю всех подписываться на его канал!
Сегодня день рождение у легендарного Сюткина, примерного семьянина, болельщика «Спартака», любителя пост-рока и единственного в мире честного (левого) диалектического материалиста, досрочно закрывшего ипотеку.
Перечитал историю нашего с ним случайного знакомства на паре у замечательной Лады Шиповаловой и в очередной раз посмеялся. С тех пор Антон сыграл в моей жизни совершенно особенную роль, забайтив на чтение Спинозы, Квентина Мейясу и, конечно, Хабермаса. Во-многом благодаря его
В наши неспокойные времена хочется пожелать ему, чтобы побыстрее настали времена, когда можно было бы снова прогуливаться со всеми друзьями по берегу Карповки и спорить о политике и онтологии. Поздравляю от всей души! И в очередной раз призываю всех подписываться на его канал!
👌33👏11👍9🤝2
Прошел небольшой анонимный опрос коллег из РАНХиГС о динамике образовательных практик и институтов. Пока проходил, в очередной раз осознал, что мы все в полнейшей жопе. Простите за мой французский. Теперь жду результатов, чтоб понять, насколько остальные преподаватели тоже настроено тревожно. Вдруг это я просто нагнетаю.
🙏16👌5👍3
Forwarded from низгораев
Запускаем* шестую (даже не верится, если честно) волну нашего мониторинга профессорско-преподавательского состава вузов. Вопросы посвящены текущей ситуации, практикам преподавания и представлениям о будущем.
Опрос анонимный и предполагает выявление и анализ общих тенденций и закономерностей. Все данные будут анализироваться в обобщенном виде.
Если Вы преподаете в вузе, независимо от формы занятости (на полную ставку или по совместительству и прочее), для участия в опросе прошу перейти на сайт анкетирования 👇по ссылке.
Буду признателен за распространение ссылки
* Опрос проводится РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по поручению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ot.vet
ОТВЕТ - Социальные исследования
👍19
Социология как разговор
Кто-то, как Коретыч, только собирается читать новый курс, а мы с коллегой Машуковым постепенно подходим к концу нашего текущего амбициозного проекта по введению в SSSH. Остался только семинар по библиографическим базам. Предпоследний аккорд должен был быть шумным, поэтому решили обсудить со слушателями «Провинциальную и туземную науку» Михаила Соколова и Кирилла Титаева, которой в этом году целых 10 лет.
Несмотря на то, что название статьи давно стало мемным, рискну предположить, что сам текст внимательно никто не читает. В массовом восприятии его просто убрали на дальнюю полочку к многочисленным описаниям разных итераций спора западников и славянофилов. Между тем, для меня самый важный и яркий поинт статьи совсем не в очередной критике особого российского пути, а в понимании любой науки как разговора. Вообще-то хабермасианский по духу тейк. Хотя Михаил и Кирилл, скорее, отталкиваются от наблюдений за лекциями, выступлениями на радио и другими формами разговоров у Гоффмана.
Итак, серьезная академическая дискуссия в отличие от случайной беседы с таксистом или соседом по купе всегда должна быть тщательно подготовлена и упорядочена. Происходит это за счет возведения разнообразных коммуникативных барьеров, среди которых авторы выделяют демографические, инфраструктурные и тематические. Многие из них необходимы, чтобы разговор вообще был осмыслен и не свелся к обсуждению одновременно всего и ничего. К сожалению, со временем эти же барьеры могут превратиться в путы и кандалы, напротив, блокируя генерацию какого бы то ни было смысла.
Вот это раскачивание из крайности в крайность, где существует опасность, с одной стороны, превращения дискуссии в базар обывателей, а с другой, замыкания от реальных людей с их насущными проблемами в воображаемой Касталии, и мешает наукам о человеке состояться. Провинциальный и туземный режимы по-своему могут стабилизировать эту волатильность, но не особо успешно. В самом конце авторы неожиданно делают еще одно близкое к Хабермасу предложение заниматься публичной социологией, но, увы, не раскрывают его слишком конкретно. Думаю, с этого места разговор необходимо продолжить уже нам, благодарным читателям.
Кто-то, как Коретыч, только собирается читать новый курс, а мы с коллегой Машуковым постепенно подходим к концу нашего текущего амбициозного проекта по введению в SSSH. Остался только семинар по библиографическим базам. Предпоследний аккорд должен был быть шумным, поэтому решили обсудить со слушателями «Провинциальную и туземную науку» Михаила Соколова и Кирилла Титаева, которой в этом году целых 10 лет.
Несмотря на то, что название статьи давно стало мемным, рискну предположить, что сам текст внимательно никто не читает. В массовом восприятии его просто убрали на дальнюю полочку к многочисленным описаниям разных итераций спора западников и славянофилов. Между тем, для меня самый важный и яркий поинт статьи совсем не в очередной критике особого российского пути, а в понимании любой науки как разговора. Вообще-то хабермасианский по духу тейк. Хотя Михаил и Кирилл, скорее, отталкиваются от наблюдений за лекциями, выступлениями на радио и другими формами разговоров у Гоффмана.
Итак, серьезная академическая дискуссия в отличие от случайной беседы с таксистом или соседом по купе всегда должна быть тщательно подготовлена и упорядочена. Происходит это за счет возведения разнообразных коммуникативных барьеров, среди которых авторы выделяют демографические, инфраструктурные и тематические. Многие из них необходимы, чтобы разговор вообще был осмыслен и не свелся к обсуждению одновременно всего и ничего. К сожалению, со временем эти же барьеры могут превратиться в путы и кандалы, напротив, блокируя генерацию какого бы то ни было смысла.
Вот это раскачивание из крайности в крайность, где существует опасность, с одной стороны, превращения дискуссии в базар обывателей, а с другой, замыкания от реальных людей с их насущными проблемами в воображаемой Касталии, и мешает наукам о человеке состояться. Провинциальный и туземный режимы по-своему могут стабилизировать эту волатильность, но не особо успешно. В самом конце авторы неожиданно делают еще одно близкое к Хабермасу предложение заниматься публичной социологией, но, увы, не раскрывают его слишком конкретно. Думаю, с этого места разговор необходимо продолжить уже нам, благодарным читателям.
👍40👏4
Номос земли и номос моря
Сетевые аналитики так и не смогли создать единой социологической гранд-теории. Зато с завидной регулярностью поставляют нам концепции среднего уровня, позволяющие интерпретировать реляционные данные из самых разных областей. Так, возможно, два самых ярких сетевых социолога социальных наук в последние годы пришли к аналогиям между пространством географическим и пространством социальным. Сложно сказать, можно ли это назвать полноценной теорией или перед нами только остроумные ad hoc метафоры, но все равно интересно следовать за инсайтами коллег.
Джеймс Муди предлагает концепцию научного ландшафта, рельеф которого изрезан пиками, то есть областями высокой концентрации взаимных ссылок, и каньонами – структурными полостями в коммуникации между различными учеными, которые никогда не упоминают работы друг друга. Социология в ряду своих соседей получалась этаким нагорьем, которое расположилось между более выразительными вершинами экономики, психологии и политической науки.
Дэниел Макфарленд оппонирует коллеге, утверждая, что концепция ландшафта того слишком статична и не схватывает постоянные изменения академических трендов. Он предлагает называть элементарное диадическое или триадическое отношение между учеными потоком знаний. Множество таких потоков, устремленных в единую сторону, Макфарленд называет течениями. Течения относительно стабильны в океане ссылок, однако время от времени меняют направление или вовсе исчезают, уступая место другим. Такой словарь хорошо ложится на идею креативного разрушения научных ссылок – другой удачной концептуализации Макфарленда, про которую я уже как-то рассказывал.
Конечно, привлечение каких-то образов из наук о земле для описания общества невероятно старо. Можно хотя бы вспомнить Маркса или каждого второго его французского толкователя. Альтюссер так вообще про континенты в науке писал. Тем не менее, если раньше мы имели дело в основном с чисто теоретическими построениями, то теперь в руках тех же Муди и Макфарленда куча действительно мощных количественных инструментов анализа вплоть до всяких модных NLP и всего остального. Таким навигаторам по науке доверяешь чуть больше и на суше, и на море! Lash my hands onto the helm!
Сетевые аналитики так и не смогли создать единой социологической гранд-теории. Зато с завидной регулярностью поставляют нам концепции среднего уровня, позволяющие интерпретировать реляционные данные из самых разных областей. Так, возможно, два самых ярких сетевых социолога социальных наук в последние годы пришли к аналогиям между пространством географическим и пространством социальным. Сложно сказать, можно ли это назвать полноценной теорией или перед нами только остроумные ad hoc метафоры, но все равно интересно следовать за инсайтами коллег.
Джеймс Муди предлагает концепцию научного ландшафта, рельеф которого изрезан пиками, то есть областями высокой концентрации взаимных ссылок, и каньонами – структурными полостями в коммуникации между различными учеными, которые никогда не упоминают работы друг друга. Социология в ряду своих соседей получалась этаким нагорьем, которое расположилось между более выразительными вершинами экономики, психологии и политической науки.
Дэниел Макфарленд оппонирует коллеге, утверждая, что концепция ландшафта того слишком статична и не схватывает постоянные изменения академических трендов. Он предлагает называть элементарное диадическое или триадическое отношение между учеными потоком знаний. Множество таких потоков, устремленных в единую сторону, Макфарленд называет течениями. Течения относительно стабильны в океане ссылок, однако время от времени меняют направление или вовсе исчезают, уступая место другим. Такой словарь хорошо ложится на идею креативного разрушения научных ссылок – другой удачной концептуализации Макфарленда, про которую я уже как-то рассказывал.
Конечно, привлечение каких-то образов из наук о земле для описания общества невероятно старо. Можно хотя бы вспомнить Маркса или каждого второго его французского толкователя. Альтюссер так вообще про континенты в науке писал. Тем не менее, если раньше мы имели дело в основном с чисто теоретическими построениями, то теперь в руках тех же Муди и Макфарленда куча действительно мощных количественных инструментов анализа вплоть до всяких модных NLP и всего остального. Таким навигаторам по науке доверяешь чуть больше и на суше, и на море! Lash my hands onto the helm!
👍33👏2