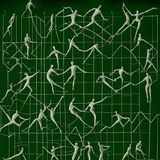Не трогай моих чертежей
Последние дни субъективно ощущаются мной как еще более плохо снятый ремейк конца февраля. К чтению новостных лент теперь добавилось изучение юридических тонкостей мобилизационных мероприятий и маршрутов выезда за границы РФ. В отличие от многих друзей, коллег, родственников и знакомых я не так остро ощущаю на себе риски, но все равно и страшно, и злобно, и тоскливо. (Ну и может, я просто непроходимо туп, если эти самые не риски не ощущаю.)
Ключевое отличие, которое и делает разницу, заключается в том, что сейчас у меня намного больше преподавательской нагрузки. Подготовка к семинарам и лекциям позволяет прямо реально отдыхать душой. Немного, но отдыхать. Не говоря уже об их проведении. Вот вчера в рамках онлайн-курса мы пробирались через тернии «Познания и интереса» Хабермаса, которым в середине 60-х гг. тогда еще совсем не старик закрыл для себя Positivismusstreit c Поппером, феноменологами и все тем же Адорно. А потом был краткий ликбез по поводу трансфера все тех же немецких концептуальных проблем через Атлантику к берегам исторической социологии мир-систем и сетей.
Хочется еще поблагодарить всех и за респонсы, и за работу на занятиях. В самом начале я воспринимал появление двух групп, скорее, как дополнительную нагрузку, а сейчас все ровно наоборот. «Не трогай моих чертежей!» – это, пожалуй, все, на что я вообще сейчас способен. Что останется после меня. Что возьму я с собой.
Последние дни субъективно ощущаются мной как еще более плохо снятый ремейк конца февраля. К чтению новостных лент теперь добавилось изучение юридических тонкостей мобилизационных мероприятий и маршрутов выезда за границы РФ. В отличие от многих друзей, коллег, родственников и знакомых я не так остро ощущаю на себе риски, но все равно и страшно, и злобно, и тоскливо. (Ну и может, я просто непроходимо туп, если эти самые не риски не ощущаю.)
Ключевое отличие, которое и делает разницу, заключается в том, что сейчас у меня намного больше преподавательской нагрузки. Подготовка к семинарам и лекциям позволяет прямо реально отдыхать душой. Немного, но отдыхать. Не говоря уже об их проведении. Вот вчера в рамках онлайн-курса мы пробирались через тернии «Познания и интереса» Хабермаса, которым в середине 60-х гг. тогда еще совсем не старик закрыл для себя Positivismusstreit c Поппером, феноменологами и все тем же Адорно. А потом был краткий ликбез по поводу трансфера все тех же немецких концептуальных проблем через Атлантику к берегам исторической социологии мир-систем и сетей.
Хочется еще поблагодарить всех и за респонсы, и за работу на занятиях. В самом начале я воспринимал появление двух групп, скорее, как дополнительную нагрузку, а сейчас все ровно наоборот. «Не трогай моих чертежей!» – это, пожалуй, все, на что я вообще сейчас способен. Что останется после меня. Что возьму я с собой.
👍92👎1
Когда и где заканчиваются границы
На фоне новостей о полной жести в региональных военкоматах в оппозиционных медиа начали осторожно припоминать роль Среднеазиатского восстания в качестве спускового крючка падения империи Романовых. Начал это, как я понимаю, Аббас Галлямов, а потом подхватили люди, предельно далекие от постколониального дискурса. Мне кажется, это маленький, но уверенный шаг не только в признании прогрессивной роли этнических меньшинств в нашей политической истории, но и в более позитивном прочтении эпохи больших революций как таковой.
Однако мне хочется обсудить тут более отвлеченный академический сюжет. Насколько я понимаю, самой значительной работой, которая отсчитывает начало гражданских войн в империи именно с бунтов против мобилизации и реквизиции в среднеазиатских колониях, является работа Джонатана Смила. Вот сейчас читаю ее и понимаю, что это, возможно, один из лучших примеров теоретической работы у историков, о которой мне известно. Речь идет не о построении навороченных метаконцепций, которые приняты у социологов, а именно о тончайшей нюансировке времени и пространства.
На первый взгляд, Смил повествует о всех тех же событиях, которые мы знаем со школы, а кто-то и из университета, но очень изящно меняет фокус с Петрограда, Москвы или там Крымского перешейка на огромный спектр восстаний, бунтов, сражений. С 1916 по 1926 гг. От Средней Азии до Дальнего Востока. Сам британский специалист и многие его коллеги, наверное, скажут, что нет в этом никакой особой теории. Надо просто следовать за различными документами и свидетельствами. Да, но нет. На самом деле сдвиги в понимании пространственно-временных рамок любого социального феномена – это куда более мощный и потенциально более абстрактный ход, чем кажется. Именно он ведет за собой переосмысление и понятия империи, и войны, и революции, и всего остального.
Подытоживая: в каждой социальной и гуманитарной дисциплине есть разные способы работы с языком. Социологам надо понимать, каковы эти способы, не ограничиваясь только своими собственными. Не только чтобы учиться у соседей, бла-бла-бла. Но и для того, чтобы популяризировать собственные работы среди них, переводя их на тамошний язык. Дисциплинарным холодным войнам предпочитать теплоту дипломатии и мягкой силы.
На фоне новостей о полной жести в региональных военкоматах в оппозиционных медиа начали осторожно припоминать роль Среднеазиатского восстания в качестве спускового крючка падения империи Романовых. Начал это, как я понимаю, Аббас Галлямов, а потом подхватили люди, предельно далекие от постколониального дискурса. Мне кажется, это маленький, но уверенный шаг не только в признании прогрессивной роли этнических меньшинств в нашей политической истории, но и в более позитивном прочтении эпохи больших революций как таковой.
Однако мне хочется обсудить тут более отвлеченный академический сюжет. Насколько я понимаю, самой значительной работой, которая отсчитывает начало гражданских войн в империи именно с бунтов против мобилизации и реквизиции в среднеазиатских колониях, является работа Джонатана Смила. Вот сейчас читаю ее и понимаю, что это, возможно, один из лучших примеров теоретической работы у историков, о которой мне известно. Речь идет не о построении навороченных метаконцепций, которые приняты у социологов, а именно о тончайшей нюансировке времени и пространства.
На первый взгляд, Смил повествует о всех тех же событиях, которые мы знаем со школы, а кто-то и из университета, но очень изящно меняет фокус с Петрограда, Москвы или там Крымского перешейка на огромный спектр восстаний, бунтов, сражений. С 1916 по 1926 гг. От Средней Азии до Дальнего Востока. Сам британский специалист и многие его коллеги, наверное, скажут, что нет в этом никакой особой теории. Надо просто следовать за различными документами и свидетельствами. Да, но нет. На самом деле сдвиги в понимании пространственно-временных рамок любого социального феномена – это куда более мощный и потенциально более абстрактный ход, чем кажется. Именно он ведет за собой переосмысление и понятия империи, и войны, и революции, и всего остального.
Подытоживая: в каждой социальной и гуманитарной дисциплине есть разные способы работы с языком. Социологам надо понимать, каковы эти способы, не ограничиваясь только своими собственными. Не только чтобы учиться у соседей, бла-бла-бла. Но и для того, чтобы популяризировать собственные работы среди них, переводя их на тамошний язык. Дисциплинарным холодным войнам предпочитать теплоту дипломатии и мягкой силы.
👍75👎2
Запахло важным
Вчера при посредничестве легендарной Лихининой провел в одной питерской школе «Разговоры о важном» с одиннадцатыми классами. Идеи у учителей по темам таких разговоров давно кончились. К тому же им за это особо не доплачивают. Так что спасаются приглашенными гостями. Лихинина вот уже устала рассказывать им про социальную историю искусства времен военного коммунизма (кстати, подписывайтесь на ее канал об этом). Теперь пришла моя очередь осуществлять гражданский долг.
Ну а что для меня самое важное? Конечно, наука социология! Вот и поговорили про нее. Школьники, конечно, больше интересовались, сколько баллов по общаге нужно набрать, если они захотят поступать на социологов. А еще – где работать и сколько можно получать. Я постарался им про все это ответить, но в нагрузку накинул еще несколько телег про Огюста Конта, Пьера Бурдье и разные школы сетевого анализа. Был рад, что последними заинтересовались даже некоторые скучающие на задних партах.
Пока бродил из кабинета в кабинет, заметил, как упоительны школьные запахи. Булки в столовой, мел у доски, деревянные полы в коридорах, даже свежевымытый хлоркой линолеум. Если позовут поговорить о самом важном еще, то обязательно приду!
Вчера при посредничестве легендарной Лихининой провел в одной питерской школе «Разговоры о важном» с одиннадцатыми классами. Идеи у учителей по темам таких разговоров давно кончились. К тому же им за это особо не доплачивают. Так что спасаются приглашенными гостями. Лихинина вот уже устала рассказывать им про социальную историю искусства времен военного коммунизма (кстати, подписывайтесь на ее канал об этом). Теперь пришла моя очередь осуществлять гражданский долг.
Ну а что для меня самое важное? Конечно, наука социология! Вот и поговорили про нее. Школьники, конечно, больше интересовались, сколько баллов по общаге нужно набрать, если они захотят поступать на социологов. А еще – где работать и сколько можно получать. Я постарался им про все это ответить, но в нагрузку накинул еще несколько телег про Огюста Конта, Пьера Бурдье и разные школы сетевого анализа. Был рад, что последними заинтересовались даже некоторые скучающие на задних партах.
Пока бродил из кабинета в кабинет, заметил, как упоительны школьные запахи. Булки в столовой, мел у доски, деревянные полы в коридорах, даже свежевымытый хлоркой линолеум. Если позовут поговорить о самом важном еще, то обязательно приду!
👍108👎2
Что скрывает рациональность
Коллега Шерстобитов обсуждает у себя на канале политическое поведение типового российского гражданина. Для этого он традиционно использует классический outillage mental из теории рационального выбора. Гражданин взвешивает огромные издержки и незначительные выгоды от участия в протесте и в итоге выбирает не коллективное действие, а индивидуальное бегство. Пока звучит логично. Правда, для того, чтобы контекстуализировать свои рассуждения и придать им убедительности, коллега внезапно достает из мешка deus ex machina – неравномерное распределение информации между различными группами населения РФ. В итоге оказывается, что информация как надиндивидуальный фактор детерминирует выбор отдельных граждан. На мой взгляд, это отличная иллюстрация главной проблемы с ТРВ.
Конечно, я не считаю, что объяснения в категориях инструментальной рациональности совсем не имеют смысла. В целом, никто не будет отрицать, что люди так или иначе преследуют определенные блага и пытаются выбирать между альтернативами. Скорее, мой поинт состоит в том, что такие объяснения хронически недостаточны. Сторонники рацчойса всегда вынуждены подпирать свои рассуждения костылями: уже названной информационной ассиметрией, институтами как правилами игры, обязательствами, доверием, способностью регуляторов применять санкции и т. д. и т. п. В противном случае абстракция отдельных индивидов всегда бы оставалась сухой абстракцией и мало что сообщала по сути. Словом, в каждой реалистичной модели на каком-то этапе появляется социальная реальность sui generis, без которой модель толком вообще не применима. Хотя это далеко не всегда открыто признается.
Что я предлагаю коллегам, которые в той или иной форме придерживаются ТРВ – так это перестать стесняться и совершить структуралистский каминг-аут. Пытаетесь ли вы объяснить поведение подлежащих к мобилизации граждан, самоубийственные решения автократа или предположить, в чьих интересах может быть подрыв трубопроводов – вам нужна идея социальной структуры. Хорошо, называйте ее институтами, сетями или как-то иначе. Попытки же идти радикальным путем и, словами Бурдье, взгромоздить голову мыслителя на туловище рядового социального агента будут приводить в лучшем случае к исследовательским банальностям, а в худшем – к сомнительным неолиберальным policy, круг за кругом усугубляющим степень атомизации общества.
Коллега Шерстобитов обсуждает у себя на канале политическое поведение типового российского гражданина. Для этого он традиционно использует классический outillage mental из теории рационального выбора. Гражданин взвешивает огромные издержки и незначительные выгоды от участия в протесте и в итоге выбирает не коллективное действие, а индивидуальное бегство. Пока звучит логично. Правда, для того, чтобы контекстуализировать свои рассуждения и придать им убедительности, коллега внезапно достает из мешка deus ex machina – неравномерное распределение информации между различными группами населения РФ. В итоге оказывается, что информация как надиндивидуальный фактор детерминирует выбор отдельных граждан. На мой взгляд, это отличная иллюстрация главной проблемы с ТРВ.
Конечно, я не считаю, что объяснения в категориях инструментальной рациональности совсем не имеют смысла. В целом, никто не будет отрицать, что люди так или иначе преследуют определенные блага и пытаются выбирать между альтернативами. Скорее, мой поинт состоит в том, что такие объяснения хронически недостаточны. Сторонники рацчойса всегда вынуждены подпирать свои рассуждения костылями: уже названной информационной ассиметрией, институтами как правилами игры, обязательствами, доверием, способностью регуляторов применять санкции и т. д. и т. п. В противном случае абстракция отдельных индивидов всегда бы оставалась сухой абстракцией и мало что сообщала по сути. Словом, в каждой реалистичной модели на каком-то этапе появляется социальная реальность sui generis, без которой модель толком вообще не применима. Хотя это далеко не всегда открыто признается.
Что я предлагаю коллегам, которые в той или иной форме придерживаются ТРВ – так это перестать стесняться и совершить структуралистский каминг-аут. Пытаетесь ли вы объяснить поведение подлежащих к мобилизации граждан, самоубийственные решения автократа или предположить, в чьих интересах может быть подрыв трубопроводов – вам нужна идея социальной структуры. Хорошо, называйте ее институтами, сетями или как-то иначе. Попытки же идти радикальным путем и, словами Бурдье, взгромоздить голову мыслителя на туловище рядового социального агента будут приводить в лучшем случае к исследовательским банальностям, а в худшем – к сомнительным неолиберальным policy, круг за кругом усугубляющим степень атомизации общества.
👍54👎2
Социологический котик
У легендарного Коретыча есть, на мой взгляд, блестящая концепция котика – субъекта, абсолютно индифферентного к окружающей реальности, но парадоксальным образом заставляющего эту реальность крутиться вокруг себя. Собственно, домашние кошки далеко не всегда обозначают свою привязанность к хозяевам, однако получают от людей не только кров и корм, но и огромное количество сторис и рилсов, заполонивших интернет. Коретыч идет дальше и пытается раскрыть применимость концепции, например, к абьюзивным отношениям политика-популиста и избирателя.
Во время сегодняшнего занятия по курсу я подумал, что есть один социолог, который идеально описывается как понятый таким образом котик. Это Эрвин Гоффман. Гоффман был совершенно не заинтересован в построении единой социологической теории. Однако все континентальные мастодонты от Лумана до Бурдье посвятили ему множество своих текстов. Гоффман не хотел создать собственную школу. Однако между его учениками и последователями десятки лет ведутся споры о том, кто лучше всего понял своего наставника. Гоффман не пытался претендовать на экспертизу в одной из отраслевых социологий. Однако специалисты по социологии медицины, социологии культуры, социологии права, etc. щедро ссылаются на его труды, находя там наблюдения о медицине, культуре, праву, etc.
Поразительным образом Гоффман постоянно дистанцировался от всех коллег, но при этом заставляет читать и перечитывать свои тексты, использовать придуманные им многочисленные метафоры социального, и, наконец, просто ссылаться в статьях, уже посмертно обретя себе огромный Хирш. Kinda brilliant, right? Вероятно, это котиковость Гоффмана объясняет, почему мне и многим другим он все-таки не настолько понятен и интересен. На мой вкус, собаки – таксы, самоеды, чау-чау и многие другие – намного привлекательнее котиков. С ними можно побегать, поваляться, тискануть и чесануть их хорошенько. Вот и в социологической теории мне хотелось бы от авторов чего-нибудь аналогичного.
У легендарного Коретыча есть, на мой взгляд, блестящая концепция котика – субъекта, абсолютно индифферентного к окружающей реальности, но парадоксальным образом заставляющего эту реальность крутиться вокруг себя. Собственно, домашние кошки далеко не всегда обозначают свою привязанность к хозяевам, однако получают от людей не только кров и корм, но и огромное количество сторис и рилсов, заполонивших интернет. Коретыч идет дальше и пытается раскрыть применимость концепции, например, к абьюзивным отношениям политика-популиста и избирателя.
Во время сегодняшнего занятия по курсу я подумал, что есть один социолог, который идеально описывается как понятый таким образом котик. Это Эрвин Гоффман. Гоффман был совершенно не заинтересован в построении единой социологической теории. Однако все континентальные мастодонты от Лумана до Бурдье посвятили ему множество своих текстов. Гоффман не хотел создать собственную школу. Однако между его учениками и последователями десятки лет ведутся споры о том, кто лучше всего понял своего наставника. Гоффман не пытался претендовать на экспертизу в одной из отраслевых социологий. Однако специалисты по социологии медицины, социологии культуры, социологии права, etc. щедро ссылаются на его труды, находя там наблюдения о медицине, культуре, праву, etc.
Поразительным образом Гоффман постоянно дистанцировался от всех коллег, но при этом заставляет читать и перечитывать свои тексты, использовать придуманные им многочисленные метафоры социального, и, наконец, просто ссылаться в статьях, уже посмертно обретя себе огромный Хирш. Kinda brilliant, right? Вероятно, это котиковость Гоффмана объясняет, почему мне и многим другим он все-таки не настолько понятен и интересен. На мой вкус, собаки – таксы, самоеды, чау-чау и многие другие – намного привлекательнее котиков. С ними можно побегать, поваляться, тискануть и чесануть их хорошенько. Вот и в социологической теории мне хотелось бы от авторов чего-нибудь аналогичного.
👍54👎3
Друзья, если в вашей семье есть школьники средних и старших классов, то обратите внимание на онлайн-курс коллеги Кондрашева в Лицее 2 Мюнхена. Саня не пересказывает официозные учебники, а умеет заинтересовать предметом и объяснить, зачем историю необходимо знать каждому сознательному человеку и гражданину. В курсе будут использованы как актуальные подходы из глобальной и экологической истории, так и проверенные советские анекдоты и постсоветские мемы.
👍23👎2
Forwarded from Гранатовый сок
Новости подкаста одной строкой: идей подкаст-проектов у меня много, есть пару начинаний, но нового контента пока для вас нет. Зато есть две другие новости: во-первых, всем привет из солнечного Казахстана!
Во-вторых, из-за последних событий я задержал анонс своего курса "Россия и Европа - ретроспективный взгляд на историю и культуру" на базе Лицея - прекрасного образовательного проекта в Мюнхене. Курс будет удалённый, так что подключаться можно откуда угодно. Ориентировочный возраст с 12 лет. Планируемое время занятий вторник 19.00 по берлинскому времени (но если вы хотите ходить, но время не подходит - напишите). Стартуем мы на следующей неделе, но можно присоединиться и немного позднее.
Вопросы можно задать в комментариях или личных сообщениях, а также по почте [email protected]
Мест пока что много!
Прошу репоста и распространить по всем заинтересованным людям.
Ссылка на страничку курса с красивыми картинками - https://lyzeum-muenchen.de/history
Во-вторых, из-за последних событий я задержал анонс своего курса "Россия и Европа - ретроспективный взгляд на историю и культуру" на базе Лицея - прекрасного образовательного проекта в Мюнхене. Курс будет удалённый, так что подключаться можно откуда угодно. Ориентировочный возраст с 12 лет. Планируемое время занятий вторник 19.00 по берлинскому времени (но если вы хотите ходить, но время не подходит - напишите). Стартуем мы на следующей неделе, но можно присоединиться и немного позднее.
Вопросы можно задать в комментариях или личных сообщениях, а также по почте [email protected]
Мест пока что много!
Прошу репоста и распространить по всем заинтересованным людям.
Ссылка на страничку курса с красивыми картинками - https://lyzeum-muenchen.de/history
Lyzeum 2
Европа и Россия — ретроспективный взгляд на историю и культуру
Идея курса — познакомить русскоязычных школьников из Европы и России с тем, как возник тот мир, в котором мы живём сейчас. Мы будем использовать ретроспективный подход, то есть смотреть в прошлое исходя из настоящего, отслеживая в обратном порядке, шаг за…
👍20👎2
Доброй ночи и удачи
Мои друзья и коллеги по ЕУ несколько месяцев назад начали необычный исследовательский проект «Наука сна». Они собирают сны военного времени. Когда проект только стартовал, мы обсуждали с ними возможные способы интерпретации всех собранных анкет. Сперва я подумал, что вообще не могу назвать ни одного текста по социологии сна. Как будто сон – это целиком и полностью вотчина психологов. Однако мне все же удалось вспомнить одно замечательное эссе, которым я тогда и поделился с коллегами, а теперь хочу про него написать здесь.
«Сон: социологическая интерпретация» было опубликовано еще в 1959 году в Acta Sociologica. Одним из авторов был Хариссон Уайт – будущий архитектор сетевого анализа, а тогда только молодой PhD in physics без четких карьерных перспектив. Другим соавтором был тоже крайне необычный персонаж Вильхельм Уберт – один из создателей норвежской социологии как дисциплины, а также активный член антинацистского сопротивления в прошлом и яркий публицист Рабочей партии на тот момент. Видимо, для обоих крепкий сон был чем-то недосягаемым. Но это уже я додумываю.
Эссе довольно длинное, пространное и разбито на целых две части в разных номерах журнала. Остановлюсь только на одном мотиве, который мне кажется наиболее привлекательным. Авторы предлагают вполне дюркгеймианскую концепцию экологии сна. Согласно ей, сон является вполне себе и социальным, а не только психологическим феноменом. Обстоятельства и условия, в которых человек может уснуть, тесно связаны с его ролью в обществе. Уберт и Уайт делают несколько наблюдений.
Первое из них о том, что время сна является одним из важных индикаторов социального неравенства. Матери спят намного меньше своих детей, прекарии – работников с лимитированным рабочим днем. Некоторые группы людей типа фельдшеров скорой помощи зарабатывают именно тем, что почти не спят. Ну а у кого-то вообще нет постоянного места, где можно было бы хотя бы вздремнуть. Второе наблюдение касается того, что совместный сон является важным способом конструирования групповых идентичностей. Вместе спят супруги в нуклеарной семье или вообще вся расширенная семья. Вместе спят школьники в интернате, пациенты в больнице.
Словом, если вы спите долго и не в одиночку, значит, ваш социальный статус довольно устойчив и высок. Можно вас поздравить. Если нет, то не стоит списывать все на индивидуальные проблемы, а лучше задуматься, справедливо ли устроена окружающая социальная реальность. Ну и в обоих случаях не повредит прислать свои сны социологам для исследования.
Мои друзья и коллеги по ЕУ несколько месяцев назад начали необычный исследовательский проект «Наука сна». Они собирают сны военного времени. Когда проект только стартовал, мы обсуждали с ними возможные способы интерпретации всех собранных анкет. Сперва я подумал, что вообще не могу назвать ни одного текста по социологии сна. Как будто сон – это целиком и полностью вотчина психологов. Однако мне все же удалось вспомнить одно замечательное эссе, которым я тогда и поделился с коллегами, а теперь хочу про него написать здесь.
«Сон: социологическая интерпретация» было опубликовано еще в 1959 году в Acta Sociologica. Одним из авторов был Хариссон Уайт – будущий архитектор сетевого анализа, а тогда только молодой PhD in physics без четких карьерных перспектив. Другим соавтором был тоже крайне необычный персонаж Вильхельм Уберт – один из создателей норвежской социологии как дисциплины, а также активный член антинацистского сопротивления в прошлом и яркий публицист Рабочей партии на тот момент. Видимо, для обоих крепкий сон был чем-то недосягаемым. Но это уже я додумываю.
Эссе довольно длинное, пространное и разбито на целых две части в разных номерах журнала. Остановлюсь только на одном мотиве, который мне кажется наиболее привлекательным. Авторы предлагают вполне дюркгеймианскую концепцию экологии сна. Согласно ей, сон является вполне себе и социальным, а не только психологическим феноменом. Обстоятельства и условия, в которых человек может уснуть, тесно связаны с его ролью в обществе. Уберт и Уайт делают несколько наблюдений.
Первое из них о том, что время сна является одним из важных индикаторов социального неравенства. Матери спят намного меньше своих детей, прекарии – работников с лимитированным рабочим днем. Некоторые группы людей типа фельдшеров скорой помощи зарабатывают именно тем, что почти не спят. Ну а у кого-то вообще нет постоянного места, где можно было бы хотя бы вздремнуть. Второе наблюдение касается того, что совместный сон является важным способом конструирования групповых идентичностей. Вместе спят супруги в нуклеарной семье или вообще вся расширенная семья. Вместе спят школьники в интернате, пациенты в больнице.
Словом, если вы спите долго и не в одиночку, значит, ваш социальный статус довольно устойчив и высок. Можно вас поздравить. Если нет, то не стоит списывать все на индивидуальные проблемы, а лучше задуматься, справедливо ли устроена окружающая социальная реальность. Ну и в обоих случаях не повредит прислать свои сны социологам для исследования.
👍72👎3
Доцент Круз
Решил отвлечься от геополитических новостей и академических обязанностей. Глянул новый Top Gun, собравший огромную кассу летом, но так и не показанный у нас. Быстро убедился, что отвлечься никак не удастся. Начнем с того, что Майлз Теллер на пляже – это просто… Рррр… Аф-аф-аф… Так, ладно… Давайте я возьму себя в руки и не наговорю еще на одну политическую статью.
У фильма есть две составляющих: макро и микро. Макро – это про то, что картина является одой американской гегемонии в мир-системе. По сюжету Теллер, Том Круз и все остальные пытаются разбомбить центр ядерной программы безымянного государства-изгоя, чьи обезличенные пилоты летают на Су-57. Уже такая завязка для меня проблематична. Если на Западе есть вопросы, почему у полупериферийных диктаторов столько ферштееров, то частичный ответ кроется, в том числе, в существовании вот таких фильмов.
Тем не менее я считаю, что при просмотре можно и даже желательно абстрагироваться от милитаризма и всерьез заценить микро-составляющую, которая и делает фильм симпатичным. По существу, он посвящен системе образования. Небольшое пространство авиационной учебки – это прекрасная метафора микрокосма школы, техникума или университета. Здесь есть все узнаваемые персонажи: токсичный мажор, сознательная отличница, клоун-раздолбай, научный руководитель с кризисом среднего возраста, душнейший декан, меценат из совета попечителей и мн. др.
Согласитесь, что мало бы кто посмотрел фильм про проблемы в коммуникации между учениками и их учителем, если бы он был снят про соцфак. Антураж же тотального института позволяет искусственно поднять ставки и показать, почему здоровые отношения в классе так важны для каждого человека, даже давно покинувшего свою альма-матер. Надеюсь, впрочем, что и про социологов такой же фильм когда-нибудь снимут. Например, про Гейдельбергский университет начала XX века. Я даже не против, если Макса Вебера там тоже сыграет Том Круз.
Решил отвлечься от геополитических новостей и академических обязанностей. Глянул новый Top Gun, собравший огромную кассу летом, но так и не показанный у нас. Быстро убедился, что отвлечься никак не удастся. Начнем с того, что Майлз Теллер на пляже – это просто… Рррр… Аф-аф-аф… Так, ладно… Давайте я возьму себя в руки и не наговорю еще на одну политическую статью.
У фильма есть две составляющих: макро и микро. Макро – это про то, что картина является одой американской гегемонии в мир-системе. По сюжету Теллер, Том Круз и все остальные пытаются разбомбить центр ядерной программы безымянного государства-изгоя, чьи обезличенные пилоты летают на Су-57. Уже такая завязка для меня проблематична. Если на Западе есть вопросы, почему у полупериферийных диктаторов столько ферштееров, то частичный ответ кроется, в том числе, в существовании вот таких фильмов.
Тем не менее я считаю, что при просмотре можно и даже желательно абстрагироваться от милитаризма и всерьез заценить микро-составляющую, которая и делает фильм симпатичным. По существу, он посвящен системе образования. Небольшое пространство авиационной учебки – это прекрасная метафора микрокосма школы, техникума или университета. Здесь есть все узнаваемые персонажи: токсичный мажор, сознательная отличница, клоун-раздолбай, научный руководитель с кризисом среднего возраста, душнейший декан, меценат из совета попечителей и мн. др.
Согласитесь, что мало бы кто посмотрел фильм про проблемы в коммуникации между учениками и их учителем, если бы он был снят про соцфак. Антураж же тотального института позволяет искусственно поднять ставки и показать, почему здоровые отношения в классе так важны для каждого человека, даже давно покинувшего свою альма-матер. Надеюсь, впрочем, что и про социологов такой же фильм когда-нибудь снимут. Например, про Гейдельбергский университет начала XX века. Я даже не против, если Макса Вебера там тоже сыграет Том Круз.
👍42👎3
Иметь хорошего врага лучше, чем плохого друга. Спасибо, что заставляли и еще долго будете заставлять с вами спорить по всем вопросам, месье.
👍31
Пиратам слава!
Хочу обратить ваше внимание на два важных свежих слива! Нет-нет, я говорю не о тех, которые о планах стратегического командования из Кремля, а лишь о тех, которые книжек на «Либген». Извините, если кого-то обнадежил.
Итак, первый слив – это «Структурное изменение публичной сферы» Юргена Хабермаса в русском переводе. Одно из немногих эмпирических исследований классика, и, возможно, именно оттого преодолевшее границы достаточно узкой тусовки теоретических социологов. Григорий Юдин пишет в своей рецензии, что перевести могли и более качественно. Но это лучше, чем совсем ничего.
Второй – это сборник статей, написанных вокруг и после дебатов Люка Болтански и Нэнси Фрейзер о значении социальной критики сегодня. Сами дебаты состоялись еще в 2014 году на французском, а вот эта коллекция переведена на английский год назад. Из других значимых участников присутствуют деколониальная феминистка Франсуаза Верже и автор популярного у нас учебника по соцтеории Филипп Коркюфф. Очень любопытно, как постбурдьевистские и постхабермасианские линии критической теории сталкиваются между собой, хотя сам пока прочитать не успел. Возможно, вы меня опередите.
Хочу обратить ваше внимание на два важных свежих слива! Нет-нет, я говорю не о тех, которые о планах стратегического командования из Кремля, а лишь о тех, которые книжек на «Либген». Извините, если кого-то обнадежил.
Итак, первый слив – это «Структурное изменение публичной сферы» Юргена Хабермаса в русском переводе. Одно из немногих эмпирических исследований классика, и, возможно, именно оттого преодолевшее границы достаточно узкой тусовки теоретических социологов. Григорий Юдин пишет в своей рецензии, что перевести могли и более качественно. Но это лучше, чем совсем ничего.
Второй – это сборник статей, написанных вокруг и после дебатов Люка Болтански и Нэнси Фрейзер о значении социальной критики сегодня. Сами дебаты состоялись еще в 2014 году на французском, а вот эта коллекция переведена на английский год назад. Из других значимых участников присутствуют деколониальная феминистка Франсуаза Верже и автор популярного у нас учебника по соцтеории Филипп Коркюфф. Очень любопытно, как постбурдьевистские и постхабермасианские линии критической теории сталкиваются между собой, хотя сам пока прочитать не успел. Возможно, вы меня опередите.
👍62👎1
Журналистский Петербург
Тем временем я продолжаю свой тур по учебным заведениям нашего города с разговорами на самые важные темы. На этот раз меня катапультировало аж в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, где я по приглашению профессора Светланы Бодруновой рассказал магистрам про альтернативные теории медиа в немецкой социологии. Чтобы не прослыть перед ними совсем безумным гиком, разговаривающим на птичьем языке, я активировал все имеющиеся у меня знания популярной культуры.
Во-первых, чтобы как-то уравнять гендерный баланс моих отсылок к спорту, я решил сравнить противостояние Хабермаса и Лумана с соперничеством Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Получается, что теоретик коммуникативного действия более артистичный, а создатель теории социальных систем – техничный. Ну и у каждого есть своя преданная армия болельщиков, которая готова идти со своим кумиром куда угодно. Дело же историков социологии вроде меня – это сначала зафиксировать нерв их противостояния, а только потом уже можно слегка и притопить за одну из сторон.
Во-вторых, разумеется, масс-медиа Лумана – это куда более пессимистичная концепция. Согласно ей, современные масс-медиа идеально представлены в «Не смотрите наверх». Там Кейт Бланшет, если помните, была верна системным кодам и программам даже перед лицом апокалипсиса. В пику этому Хабермас считал, что настоящие журналисты должны быть не хуже персонажей фильма «Вся президентская рать». Да, их число мало, но зато они действительно могут расширить пространство критического и прозрачного разговора.
В конце Светлана прокомментировала мое выступление темой из своей диссертации. Оказалось, что примерить два подхода к изучению медиа пытался Рихард Мюнх. Немецкий социолог в целом следовал теории Лумана, однако вместо оперативного закрытия масс-медиа акцентировал свое внимание на постоянное раздражение их другими подсистемами общества, которое как раз может обновлять общественную коммуникацию. Сюжет какого произведения получился в итоге у Мюнха? Возможно, «Бандитского Петербурга»? Грех не вспомнить про Обнорского, проходя по берегам Васьки, где расположена Школа. Правда, Обнорский закончил Восточный факультет. Но и то здание там недалеко.
Тем временем я продолжаю свой тур по учебным заведениям нашего города с разговорами на самые важные темы. На этот раз меня катапультировало аж в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, где я по приглашению профессора Светланы Бодруновой рассказал магистрам про альтернативные теории медиа в немецкой социологии. Чтобы не прослыть перед ними совсем безумным гиком, разговаривающим на птичьем языке, я активировал все имеющиеся у меня знания популярной культуры.
Во-первых, чтобы как-то уравнять гендерный баланс моих отсылок к спорту, я решил сравнить противостояние Хабермаса и Лумана с соперничеством Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Получается, что теоретик коммуникативного действия более артистичный, а создатель теории социальных систем – техничный. Ну и у каждого есть своя преданная армия болельщиков, которая готова идти со своим кумиром куда угодно. Дело же историков социологии вроде меня – это сначала зафиксировать нерв их противостояния, а только потом уже можно слегка и притопить за одну из сторон.
Во-вторых, разумеется, масс-медиа Лумана – это куда более пессимистичная концепция. Согласно ей, современные масс-медиа идеально представлены в «Не смотрите наверх». Там Кейт Бланшет, если помните, была верна системным кодам и программам даже перед лицом апокалипсиса. В пику этому Хабермас считал, что настоящие журналисты должны быть не хуже персонажей фильма «Вся президентская рать». Да, их число мало, но зато они действительно могут расширить пространство критического и прозрачного разговора.
В конце Светлана прокомментировала мое выступление темой из своей диссертации. Оказалось, что примерить два подхода к изучению медиа пытался Рихард Мюнх. Немецкий социолог в целом следовал теории Лумана, однако вместо оперативного закрытия масс-медиа акцентировал свое внимание на постоянное раздражение их другими подсистемами общества, которое как раз может обновлять общественную коммуникацию. Сюжет какого произведения получился в итоге у Мюнха? Возможно, «Бандитского Петербурга»? Грех не вспомнить про Обнорского, проходя по берегам Васьки, где расположена Школа. Правда, Обнорский закончил Восточный факультет. Но и то здание там недалеко.
👍37
«Медузка» снова радует подбором экспертов. На этот раз у них в студии Алексей Гилев – один из главных специалистов по неформальным кликам в российской политике. Алексей объясняет, почему любые группировки при текущей конъюнктуре не дотягивают по организации до полноценных партий. Пользуюсь случаем, кину тут ссылку на собранную им не так давно хрестоматию, в которой переведены классические исследования по теме с использованием сетевого анализа.
👍23👎2
«Партия войны» в России
Meduza
Кто представляет «партию войны» в российской элите? И как она влияет на конфликт с Украиной?
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Мобилизация в России, смена командующего российским наступлением в Украине и эскалация войны вообще — все это (и не только) связывают с давлением на Владимира Путина «партии войны».
Из кого сейчас состоит «партия войны»? И может ли она в действительности быть настолько авторитетной, чтобы влиять на решения Владимира Путина? В подкасте «Что случилось» говорим об этом с политическим журналистом Петром Козловым и политологом Алексеем Гилевым.
Вы можете послушать выпуск здесь, на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Мобилизация в России, смена командующего российским наступлением в Украине и эскалация войны вообще — все это (и не только) связывают с давлением на Владимира Путина «партии войны».
Из кого сейчас состоит «партия войны»? И может ли она в действительности быть настолько авторитетной, чтобы влиять на решения Владимира Путина? В подкасте «Что случилось» говорим об этом с политическим журналистом Петром Козловым и политологом Алексеем Гилевым.
Вы можете послушать выпуск здесь, на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
👍19👎1
И целого мира мало
Самое интересное в создании учебного курса – это, пожалуй, то, что сам невольно учишься и постоянно обновляешь свои знания. Так, мне довольно долго казалось, что социальное как особая реальность, превосходящая сумму тех, кто в нее вовлечен, обычно выражается у различных теоретиков тремя главными корневыми метафорами, или, как я говорю, фигурами: сетью, системой и полем. Пока я работал над программой, понял, что упускаю еще одну важную из них – мир (welt, world, monde, світ). Что немедленно отразилось в названии курса.
В отличие от сети, мир подразумевает культурную общность между агентами, а не их независимость в качестве действующих узлов. По сравнению с системой – требует изучать социальное целое не объективно, а на интерсубъективно; не от третьего лица, а от первого. По контрасту с полем, мир не подразумевает критику верований агентов, а, наоборот, безусловное доверие им. (Велик соблазн сразу же распихать каждую из этих корневых метафор по квадратикам, но про это в другой раз.)
История идеи уходит в глубины немецкой классической философии. Достижение же ею центрального статуса произошло в феноменологии. (Про это долгое путешествие мира в качестве фигуры мысли есть довольно симпатичная книга Шона Гастона.) Потом транзитом через Альфреда Шюца она попала в социологию. Например, Говард Беккер писал об искусствах как о коллективных мирах, создающихся взаимодействиями множества агентов: не только художниками, но и аудиторией, критиками, покровителями, чиновниками и даже билетерами на входе в галерею или концертный зал. Еще один крупный интеракционист Гэри Алан Файн описывал компоненты социальных миров игроков в настолки.
Понимание социального как мира имеет как очевидно сильные, так и отчетливо слабые стороны. Универсальной концептуальной отмычкой оно отнюдь не является. Правда, этот факт не должен увлекать нас в current mood нашей циническо-эклетической эпохи. Важные, хоть и ограниченные истины об обществе эта фигура (как и три остальных) все же сообщает. Это надо ценить и защищать.
Самое интересное в создании учебного курса – это, пожалуй, то, что сам невольно учишься и постоянно обновляешь свои знания. Так, мне довольно долго казалось, что социальное как особая реальность, превосходящая сумму тех, кто в нее вовлечен, обычно выражается у различных теоретиков тремя главными корневыми метафорами, или, как я говорю, фигурами: сетью, системой и полем. Пока я работал над программой, понял, что упускаю еще одну важную из них – мир (welt, world, monde, світ). Что немедленно отразилось в названии курса.
В отличие от сети, мир подразумевает культурную общность между агентами, а не их независимость в качестве действующих узлов. По сравнению с системой – требует изучать социальное целое не объективно, а на интерсубъективно; не от третьего лица, а от первого. По контрасту с полем, мир не подразумевает критику верований агентов, а, наоборот, безусловное доверие им. (Велик соблазн сразу же распихать каждую из этих корневых метафор по квадратикам, но про это в другой раз.)
История идеи уходит в глубины немецкой классической философии. Достижение же ею центрального статуса произошло в феноменологии. (Про это долгое путешествие мира в качестве фигуры мысли есть довольно симпатичная книга Шона Гастона.) Потом транзитом через Альфреда Шюца она попала в социологию. Например, Говард Беккер писал об искусствах как о коллективных мирах, создающихся взаимодействиями множества агентов: не только художниками, но и аудиторией, критиками, покровителями, чиновниками и даже билетерами на входе в галерею или концертный зал. Еще один крупный интеракционист Гэри Алан Файн описывал компоненты социальных миров игроков в настолки.
Понимание социального как мира имеет как очевидно сильные, так и отчетливо слабые стороны. Универсальной концептуальной отмычкой оно отнюдь не является. Правда, этот факт не должен увлекать нас в current mood нашей циническо-эклетической эпохи. Важные, хоть и ограниченные истины об обществе эта фигура (как и три остальных) все же сообщает. Это надо ценить и защищать.
👍49👎1
А вот и отличная возможность отбросить не только государственнические, но и либеральные предубеждения по отношению к бюрократии. В качестве первого шага организаторы конференции предлагают взглянуть на младших и средних чиновников как на живых людей со своей картиной мира. Ожидаю, что коллективное обсуждение коллективного Акакия Акакиевича удастся.
👍25👎1
Forwarded from Европейский. Просто о сложном
«На хвосте у Левиафана: антропология бюрократии в современной России» #дедлайн_ЕУ
Так называется семинар, который Факультет антропологии совместно с Институтом проблем правоприменения проведет в Европейском 16 и 17 декабря 2022.
Что такое бюрократия и кто такие бюрократы? Как проживается бюрократами их рабочая повседневность в разных учреждениях? Какие механизмы адаптации и тактики сопротивления предписанному рабочему порядку используют сотрудники на местах?
Как бюрократы воображают свои задачи и свою миссию? Как конструируют образ своих клиентов и как напротив – клиенты воображают бюрократов? Каким образом они готовятся к взаимодействиям с бюрократическими институтами, какие тактики используют в этих взаимодействиях?
Обо всем этом и многом другом в рамках заявленной темы предлагаем поговорить на нашем семинаре.
Мы приглашаем к участию исследователей из различных дисциплин: социологии, антропологии, истории, политологии, психологии, юриспруденции, лингвистики, истории культуры.
Формат – очный или дистанционный.
Дедлайн подачи заявок — 1 ноября 2022 года. Все подробности найдете на сайте проекта: https://bureaucracy2022.tilda.ws/
Так называется семинар, который Факультет антропологии совместно с Институтом проблем правоприменения проведет в Европейском 16 и 17 декабря 2022.
Что такое бюрократия и кто такие бюрократы? Как проживается бюрократами их рабочая повседневность в разных учреждениях? Какие механизмы адаптации и тактики сопротивления предписанному рабочему порядку используют сотрудники на местах?
Как бюрократы воображают свои задачи и свою миссию? Как конструируют образ своих клиентов и как напротив – клиенты воображают бюрократов? Каким образом они готовятся к взаимодействиям с бюрократическими институтами, какие тактики используют в этих взаимодействиях?
Обо всем этом и многом другом в рамках заявленной темы предлагаем поговорить на нашем семинаре.
Мы приглашаем к участию исследователей из различных дисциплин: социологии, антропологии, истории, политологии, психологии, юриспруденции, лингвистики, истории культуры.
Формат – очный или дистанционный.
Дедлайн подачи заявок — 1 ноября 2022 года. Все подробности найдете на сайте проекта: https://bureaucracy2022.tilda.ws/
👍23👎1
Аналитика по-сарапуловски
Давненько нам с легендарными Сюткиным и Неполиткоретко не удавалось собраться вживую и сообразить ситуацию на троих. Наконец-то этот момент наступил. Хотя в этот раз из-за невыносимых погодных условий встреча была перенесена со ставших уже классическими берегов Карповки в гостеприимные стены рюмочной «Сарапул». (Кстати, рекомендую!) Глубоких концептуальных обсуждений в этот раз у нас не получилось. Большую часть времени мы провели упражняясь в любительских политологических рассуждениях.
Сюткин с ходу расчехлил свой controversial take. По его мнению, сборы российской армии в Беларуси – это не блеф для Запада и даже не долгосрочный запас на весну (как думаю, например, я), а то, что будет применено в военных действиях уже совсем скоро. Единственная рациональность, которая осталась у партии войны – это ценностная рациональность пацанской маскулинности. Так что там наверху якобы снова решили взять Киев. Раз так, то если у кого-то из нас и были планы доработать тихо этот семестр, а потом уже куда-то перебираться за всеми остальными мигрировавшими коллегами, то они могут сорваться очередным этапом эскалации.
Собственно, остальная часть вечера была потрачена на обсуждение стратегий выживания академических прекариев. Пришли к выводу, что, возможно, вся нынешняя ситуация может обернуться для российских соцгум ученых только во благо. Одна часть мигрировавших завяжет новые связи в западных странах. Другая избавится от шовинизма и начнет больше ценить соседей с постсоветского пространства. Да и идеалы науки как сугубо тихой кабинетной деятельности, кажется, тоже не лишним будет перетряхнуть. Как ни странно, но закончили беседу на мажорной ноте. Спасибо коллегам философам, что разбавили питерское уныние солнечным сарапуловским настроением! Удмуртия, Парма и Сибирь будут свободными!
Давненько нам с легендарными Сюткиным и Неполиткоретко не удавалось собраться вживую и сообразить ситуацию на троих. Наконец-то этот момент наступил. Хотя в этот раз из-за невыносимых погодных условий встреча была перенесена со ставших уже классическими берегов Карповки в гостеприимные стены рюмочной «Сарапул». (Кстати, рекомендую!) Глубоких концептуальных обсуждений в этот раз у нас не получилось. Большую часть времени мы провели упражняясь в любительских политологических рассуждениях.
Сюткин с ходу расчехлил свой controversial take. По его мнению, сборы российской армии в Беларуси – это не блеф для Запада и даже не долгосрочный запас на весну (как думаю, например, я), а то, что будет применено в военных действиях уже совсем скоро. Единственная рациональность, которая осталась у партии войны – это ценностная рациональность пацанской маскулинности. Так что там наверху якобы снова решили взять Киев. Раз так, то если у кого-то из нас и были планы доработать тихо этот семестр, а потом уже куда-то перебираться за всеми остальными мигрировавшими коллегами, то они могут сорваться очередным этапом эскалации.
Собственно, остальная часть вечера была потрачена на обсуждение стратегий выживания академических прекариев. Пришли к выводу, что, возможно, вся нынешняя ситуация может обернуться для российских соцгум ученых только во благо. Одна часть мигрировавших завяжет новые связи в западных странах. Другая избавится от шовинизма и начнет больше ценить соседей с постсоветского пространства. Да и идеалы науки как сугубо тихой кабинетной деятельности, кажется, тоже не лишним будет перетряхнуть. Как ни странно, но закончили беседу на мажорной ноте. Спасибо коллегам философам, что разбавили питерское уныние солнечным сарапуловским настроением! Удмуртия, Парма и Сибирь будут свободными!
👍61👎1
Опять эти двое
Курсы в Европейском университете и в онлайне устроены по-разному. Однако по случайному совпадению следующие две недели и там, и там мы будем разбирать Фуко с Латуром. Постоянные читатели знают, какой интенсивный хейт/лав я испытываю к обоим. Так что не могу отказать себе в очередной раз порефлексировать над широким распространением их идей за пределы академических дискуссий на ступеньки хипстерских баров типа «Хроник» или даже иных сторис в Инсте.
Популярность обоих французов легко объяснима в российской социальной системе, устойчивость которой теперь гарантируется только батальонами заключенных и иранскими беспилотниками. Как будто тейки Фуко и Латура просто созданы для описания нашего района мир-системы. В этом, как я думаю, и заключается самая главная проблема со всеобщим признанием любимых всеми теоретиков. Такая радость узнавания социальной жизни вокруг за какой-то сложной мыслью в тексте – штука крайне проблематичная. Главным образом из-за того, что использование концептуального языка, близкого тому, который и так интуитивно уже используется в аномичном обществе, полностью лишает нас исследовательской дистанции. Это, в свою очередь, блокирует формулировку общественных и политических альтернатив. Мы как будто добровольно сдаемся и запираем себя в происходящем вокруг ужасе.
Вместе с тем, обратим внимание, что дисциплинарная власть у Фуко – это не просто голое принуждение и страх. Нет, такая техника в первую очередь основана на закреплении регулярного неявного знания на уровне тел. Именно эффективность знания делает эффективным исполнение власти. Хм, значит, голой власти все-таки не бывает? Значит, истинное знание все-таки является нередуцируемым остатком, которое может быть проанализированно само по себе? Так? Такой же трюк, в принципе, осуществим и с Латуром. Если ключевая операция для укрепления своей актор-сети – это поиск надежных союзников, возможно, мы можем представить себе отношения альянса и без внешних врагов? Значит, солидарность возможна и где-то вне контекста постоянного испытывания на прочность сил друг друга?
Короче говоря, уже у самих классиков можно встретить массу намеков на то, как разломать неоницшианские заборы в нашей голове, которые перформативно убеждают нас, что общества – это не более чем флуктуации конфликтной материи. Это в перспективе вообще может означать побег из курятника мейнстримной французской мысли. Надеюсь, что хотя бы социологи смогут в ближайшее время осуществить рывок туда, где по-прежнему можно провести различие между знанием и властью, между смыслом и силой. А там и остальные подтянутся.
Курсы в Европейском университете и в онлайне устроены по-разному. Однако по случайному совпадению следующие две недели и там, и там мы будем разбирать Фуко с Латуром. Постоянные читатели знают, какой интенсивный хейт/лав я испытываю к обоим. Так что не могу отказать себе в очередной раз порефлексировать над широким распространением их идей за пределы академических дискуссий на ступеньки хипстерских баров типа «Хроник» или даже иных сторис в Инсте.
Популярность обоих французов легко объяснима в российской социальной системе, устойчивость которой теперь гарантируется только батальонами заключенных и иранскими беспилотниками. Как будто тейки Фуко и Латура просто созданы для описания нашего района мир-системы. В этом, как я думаю, и заключается самая главная проблема со всеобщим признанием любимых всеми теоретиков. Такая радость узнавания социальной жизни вокруг за какой-то сложной мыслью в тексте – штука крайне проблематичная. Главным образом из-за того, что использование концептуального языка, близкого тому, который и так интуитивно уже используется в аномичном обществе, полностью лишает нас исследовательской дистанции. Это, в свою очередь, блокирует формулировку общественных и политических альтернатив. Мы как будто добровольно сдаемся и запираем себя в происходящем вокруг ужасе.
Вместе с тем, обратим внимание, что дисциплинарная власть у Фуко – это не просто голое принуждение и страх. Нет, такая техника в первую очередь основана на закреплении регулярного неявного знания на уровне тел. Именно эффективность знания делает эффективным исполнение власти. Хм, значит, голой власти все-таки не бывает? Значит, истинное знание все-таки является нередуцируемым остатком, которое может быть проанализированно само по себе? Так? Такой же трюк, в принципе, осуществим и с Латуром. Если ключевая операция для укрепления своей актор-сети – это поиск надежных союзников, возможно, мы можем представить себе отношения альянса и без внешних врагов? Значит, солидарность возможна и где-то вне контекста постоянного испытывания на прочность сил друг друга?
Короче говоря, уже у самих классиков можно встретить массу намеков на то, как разломать неоницшианские заборы в нашей голове, которые перформативно убеждают нас, что общества – это не более чем флуктуации конфликтной материи. Это в перспективе вообще может означать побег из курятника мейнстримной французской мысли. Надеюсь, что хотя бы социологи смогут в ближайшее время осуществить рывок туда, где по-прежнему можно провести различие между знанием и властью, между смыслом и силой. А там и остальные подтянутся.
👍54
Кстати говоря, наперекор плохим новостям один из слушателей нашего курса отсканировал и выложил русский перевод «Гендерного беспокойства» Батлер в открытый доступ, приурочив это как раз к моей сегодняшней лекции по теме. Горжусь!
👍42👎1