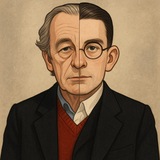Главное разделение общества, порождающее все остальные разделения, включая, несомненно, и разделение труда, – это новое вертикальное отношение между основой и верхушкой, политическая пропасть между наделёнными властью, будь она военной или религиозной, и теми, кто подчинён этой власти. Политические отношения власти предшествуют и предопределяют экономические отношения эксплуатации. Отчуждение является политическим и только потом становится экономическим; власть возникает раньше труда; экономика – это ответвление от политики; появление государства предопределяет возникновение классов.
Когда речь идёт о первобытных обществах, изменение на том уровне, который марксизм называет экономическим базисом, вовсе не обязательно приводит к изменениям в политической надстройке, потому что она, видимо, не зависит от материального базиса. Американский континент ясно иллюстрирует эту взаимную автономию экономики и общества. Группы охотников-собирателей рыболовов, кочевые или нет, демонстрируют те же социально политические особенности, что и их соседи, оседлые земледельцы: разные «базисы», идентичные «надстройки». Напротив, общества Мезоамерики – общества с империями, с государством – зависели от сельского хозяйства, которое, с точки зрения его технического уровня, было очень похожим на сельское хозяйство «диких» племён тропического леса: идентичные «базисы», разные «надстройки», потому что в одном случае речь идёт о безгосударственных обществах, в другом – о полноценных государствах.
Таким образом, решающим становится именно политический разрыв, а не экономические изменения. Настоящая революция в протоистории человечества – это не неолитическая революция, потому что она оставила прежнюю организацию общества в нетронутом состоянии, а политическая революция, загадочное, необратимое, смертельное для первобытных обществ явление, которое знакомо нам под именем государства. И если нам хочется сохранить марксистские термины базиса и надстройки, тогда, наверное, придётся признать, что базис – это политическая сфера, а надстройка – экономическая. Единственный глубинный структурный переворот, который способен был трансформировать первобытное общество, попутно его разрушая, – тот, что был вызван внутренними процессами или внешними силами, тот, чьё отсутствие само по себе определяет первобытное общество, – иерархическая власть, властные отношения, подчинение людей, короче говоря, государство. Напрасно было бы искать его происхождение в гипотетических модификациях производственных отношений в первобытном обществе, модификациях, которые, понемногу разделяя общество на бедных и богатых, угнетателей и угнетённых, автоматически привели бы к учреждению органа осуществления власти первых над вторыми, к появлению государства.
Пьер Кластр "Общество против государства".
Когда речь идёт о первобытных обществах, изменение на том уровне, который марксизм называет экономическим базисом, вовсе не обязательно приводит к изменениям в политической надстройке, потому что она, видимо, не зависит от материального базиса. Американский континент ясно иллюстрирует эту взаимную автономию экономики и общества. Группы охотников-собирателей рыболовов, кочевые или нет, демонстрируют те же социально политические особенности, что и их соседи, оседлые земледельцы: разные «базисы», идентичные «надстройки». Напротив, общества Мезоамерики – общества с империями, с государством – зависели от сельского хозяйства, которое, с точки зрения его технического уровня, было очень похожим на сельское хозяйство «диких» племён тропического леса: идентичные «базисы», разные «надстройки», потому что в одном случае речь идёт о безгосударственных обществах, в другом – о полноценных государствах.
Таким образом, решающим становится именно политический разрыв, а не экономические изменения. Настоящая революция в протоистории человечества – это не неолитическая революция, потому что она оставила прежнюю организацию общества в нетронутом состоянии, а политическая революция, загадочное, необратимое, смертельное для первобытных обществ явление, которое знакомо нам под именем государства. И если нам хочется сохранить марксистские термины базиса и надстройки, тогда, наверное, придётся признать, что базис – это политическая сфера, а надстройка – экономическая. Единственный глубинный структурный переворот, который способен был трансформировать первобытное общество, попутно его разрушая, – тот, что был вызван внутренними процессами или внешними силами, тот, чьё отсутствие само по себе определяет первобытное общество, – иерархическая власть, властные отношения, подчинение людей, короче говоря, государство. Напрасно было бы искать его происхождение в гипотетических модификациях производственных отношений в первобытном обществе, модификациях, которые, понемногу разделяя общество на бедных и богатых, угнетателей и угнетённых, автоматически привели бы к учреждению органа осуществления власти первых над вторыми, к появлению государства.
Пьер Кластр "Общество против государства".
👍7🤷♂2😱1🤬1🐳1
Политическая теология как междисциплинарная область знания хороша тем, что позволяет обнаруживать религиозные основания даже тех систем мысли, которые, как может показаться на первый взгляд, максимально далеки от какого-либо религиозного дискурса. Частично с этим и связан мой искренний интерес к ней. Политический реализм же я всегда рассматривал как часть своего собственного мировоззрения. От того я с удовольствием послушал шикарнейший доклад Евгения Учаева, посвящённый теме политико-теологических оснований подхода Ганса Моргентау. Его заглавная тема: "Человеческие массы под опустевшим небом, которые покинули боги". Настоятельно рекомендую вам его послушать!
YouTube
Е. И. Учаев - Политический реализм «под опустевшим небом»: Ганс Моргентау в поисках спасения
🔥15👍2
Критика/Расколдовывание политической экономии
Часто говорится про «критику политической экономии» как про некоторую особую «критику» положений теоретиков классической политической экономии о том, что капитализм и рынок являются вечным и всеобщим горизонтом существования человечества. Однако это не совсем верно, поскольку практически все критики политической экономии, включая самого Маркса, использовали в своих исследованиях почти все основные экономические категории критикуемых ими авторов. В частности, как указывает Пьер Розанваллон Маркс в своей критике не обращает внимание на философские истоки политической экономии, что фактически также приводит его к идее необходимости постепенного ликвидации самой по себе сферы политического как иллюзии буржуазного мира. Более того, Розанваллон отмечает, что уже в трудах британского экономиста Джеймса Денема–Стюарта содержались основополагающие принципы материалистического понимания истории, связанные с периодизацией конкретных форм развития средств производства (рабовладельческой, патриархальной, феодальной, демократической).
В противоположность традиции «критики политической экономии» Розанваллон обосновывает подход «расколдовывания политической экономии», в основании которого находится критическое рассмотрение возможностей экономической универсальности как таковой. Так, согласно Розанваллону, в противовес диктатуре абстракции, скрывающей реального конкретного человека под маскировкой homo economicus, тот же Гегель (как первый представитель данной традиции) обосновывал необходимость политического конструирования того общества, которое обещает рынок. Политика подчиняет себе экономику, а не наоборот: экономическая универсальность полностью отбрасывается, однако, на её место встаёт историческая.
Интересным образом к данной традиции также можно причислить ряд мыслителей, которые придерживались совершенно иных взглядов на критику экономической универсальности. В частности, Луи Альтюссер также высказывал схожие мысли. В обоих случаях главным объектом их критики (и Альтюссера, и Гегеля) ставилась экономическая универсальность, которая в случае последнего интерпретировалась как один из многих моментов «Хитрости разума», в то время как для Альтюссера она выступала, напротив, аналогом «Абсолютного духа», который должен быть полностью отброшен. Альтюссерианский подход отвергает саму возможность существования какого-либо универсального объяснительного принципа в контексте политики, истории и экономики. Для того чтобы сформировать подлинно материалистическое понимание истории, согласно Альтюссеру, необходимо избавиться от телеологического мышления, в рамках которого у истории есть не только непосредственная цель, но и общие правила развития, актуальные для всех эпох и периодов.
Логика этой попытки объясняет, почему Альтюссер также как и Гегель осуществляет возврат к политическому. Вопреки либеральному (и марксистскому) представлению об обществе как о рынке, обращённому в будущее, он не ожидает от экономики осуществления политического. Сфера экономического производства для него — лишь расщеплённое во множестве различных общественных формаций средство обострения классовых антагонизмов. Поэтому проблему капиталистического мира он понимает как проблему поиска универсальных категорий описания различных обществ, которые смогли бы объединить все разрозненные механизмы политизации в рамках сверхдетермированного противоречия. Ключевой вопрос, однако, заключается в том, что собой представляет сверхдетермированное противоречие (и вот здесь уже начинаются самые интересные дискуссии).
Часто говорится про «критику политической экономии» как про некоторую особую «критику» положений теоретиков классической политической экономии о том, что капитализм и рынок являются вечным и всеобщим горизонтом существования человечества. Однако это не совсем верно, поскольку практически все критики политической экономии, включая самого Маркса, использовали в своих исследованиях почти все основные экономические категории критикуемых ими авторов. В частности, как указывает Пьер Розанваллон Маркс в своей критике не обращает внимание на философские истоки политической экономии, что фактически также приводит его к идее необходимости постепенного ликвидации самой по себе сферы политического как иллюзии буржуазного мира. Более того, Розанваллон отмечает, что уже в трудах британского экономиста Джеймса Денема–Стюарта содержались основополагающие принципы материалистического понимания истории, связанные с периодизацией конкретных форм развития средств производства (рабовладельческой, патриархальной, феодальной, демократической).
В противоположность традиции «критики политической экономии» Розанваллон обосновывает подход «расколдовывания политической экономии», в основании которого находится критическое рассмотрение возможностей экономической универсальности как таковой. Так, согласно Розанваллону, в противовес диктатуре абстракции, скрывающей реального конкретного человека под маскировкой homo economicus, тот же Гегель (как первый представитель данной традиции) обосновывал необходимость политического конструирования того общества, которое обещает рынок. Политика подчиняет себе экономику, а не наоборот: экономическая универсальность полностью отбрасывается, однако, на её место встаёт историческая.
Интересным образом к данной традиции также можно причислить ряд мыслителей, которые придерживались совершенно иных взглядов на критику экономической универсальности. В частности, Луи Альтюссер также высказывал схожие мысли. В обоих случаях главным объектом их критики (и Альтюссера, и Гегеля) ставилась экономическая универсальность, которая в случае последнего интерпретировалась как один из многих моментов «Хитрости разума», в то время как для Альтюссера она выступала, напротив, аналогом «Абсолютного духа», который должен быть полностью отброшен. Альтюссерианский подход отвергает саму возможность существования какого-либо универсального объяснительного принципа в контексте политики, истории и экономики. Для того чтобы сформировать подлинно материалистическое понимание истории, согласно Альтюссеру, необходимо избавиться от телеологического мышления, в рамках которого у истории есть не только непосредственная цель, но и общие правила развития, актуальные для всех эпох и периодов.
Логика этой попытки объясняет, почему Альтюссер также как и Гегель осуществляет возврат к политическому. Вопреки либеральному (и марксистскому) представлению об обществе как о рынке, обращённому в будущее, он не ожидает от экономики осуществления политического. Сфера экономического производства для него — лишь расщеплённое во множестве различных общественных формаций средство обострения классовых антагонизмов. Поэтому проблему капиталистического мира он понимает как проблему поиска универсальных категорий описания различных обществ, которые смогли бы объединить все разрозненные механизмы политизации в рамках сверхдетермированного противоречия. Ключевой вопрос, однако, заключается в том, что собой представляет сверхдетермированное противоречие (и вот здесь уже начинаются самые интересные дискуссии).
👍13🤔2🥰1
Наши общие с Владимиром друзья и коллеги знают, что в концептуальном плане мы довольно редко соглашаемся (можете посмотреть наши дебаты об идеологии). Однако конкретно в данной ситуации я могу сказать, что меня самого посещают абсолютно те же самые мысли. Актуальная политическая аналитика, сопровождающаяся категоричными высказываниями в стиле "всё уже понятно", является одной из ключевых причин непопулярности политической науки в России. Когда политологи (или те, кто называют себя таковыми) занимаются чем-то подобным, выдавая собственную ангажированность за объективную истину мы получаем дискурс "неверующего Фомы", который будет всегда говорить одно и тоже в независимости от того, что вокруг происходит. Печальнее всего, когда чем-то таким начинают заниматься именитые учёные, которых вы сами до недавнего времени уважали. К сожалению, часто это полностью обесценивает содержание их письменных работ. Ведь в чём смысл читать их книги и статьи, если они могут выдавать настолько глупые и бессмысленные умозаключения, насколько это вообще возможно. Иначе говоря, отсылка к Сократу со стороны Владимира мне кажется в максимальной степени уместной. Я бы только добавил бы, что единственное кому можно доверять в контексте актуальной аналитики - это никому. По настоящему конъюнктурное мышление действительно свойственное крайне небольшому количеству людей. И большинство из них скорее всего не даёт пафосных интервью в стиле "Иран уже проиграл, и неизбежно будет разделён".
Telegram
Мирко Влади
Как политолог по диплому и как преподаватель вынужден констатировать, что в России почти нет публичной адекватной политологической дискуссии.
Чтобы не было беды, возьмём за пример недавнюю ситуацию между Ираном и Израилем.
Стоит зайти в антирнет... И вместо…
Чтобы не было беды, возьмём за пример недавнюю ситуацию между Ираном и Израилем.
Стоит зайти в антирнет... И вместо…
❤3👍3
По итогам вчерашней дискуссии о политическом субъекте между Борисом Капустиным и Ильёй Мавринским лично у меня возникло впечатление, что непосредственно самих дебатов не получилось (позиции участников были не противопоставлены друг другу). Скорее получилось так, что один говорил про зелёное, а другой про варёное. В то же самое время лично я бы отметил для себя несколько весьма интересных и нестандартных заключений, исходя из услышанного. Во-первых, мне показалось необычным то, что всю традицию критики классического субъекта в XX веке Мавринский связал с наследием Канта: новоевропейский субъект это субъект воли, а не разума, и в конечном итоге на место познаваемости субъекта приходит дискурс. То есть в этом смысле тот же Мишель Фуко оказывается кантианцем. На самом деле я не могу сказать, что сам знаю Канта настолько же хорошо, но конкретно данная мысль вызывает одновременно и вопросы, и большой интерес. Ведь если действительно мысль об ограничении познавательных способностей субъекта чем-то иным восходит к Канту, то конкретно и Альтюссер становится в некотором роде кантианцем. Учитывая, что о Канте он отзывался скорее негативно, это был бы максимально нестандартный ход. В отношении же выступления Бориса Гурьевича я так и не понял связь его тезисов с подходом Гегеля (как было сказано в анонсе). При этом одной из наиболее интересных мыслей, высказанных им, было то, что сам по себе субъект создаётся через мысль о его смерти (в теоретическом плане его до этого не было). Таким образом, теоретики, которые занимаются деконструкцией субъекта, знают, что он на самом деле есть. Мне думается, что эта мысль идеально подходит для осмысления последующих попыток возвращения к проблематике политической субъективности после 1968 года, которая, кстати говоря, охватила даже тех мыслителей, которые ранее как раз склонялись скорее к идее о "смерти субъекта". Короче говоря, рекомендую посмотреть запись дебатов, когда она будет выложена. Не пожалеете.
social.hse.ru
Дебаты о (политическом) субъекте сегодня: столкновение перспектив
👍5🤔2😐2
Эсхатология vs телеология
Заметил, что в ряде современных исследований наметилась интересная тенденция, связанная с поиском противоречий между эсхатологическим и телеологическим измерением исторического времени. Это весьма интересно, учитывая, что даже исходные греческие термины: ἔσχατος и τέλειος фактически означают примерно одно и тоже (заключительный, конечный). Конечно, можно было бы ограничиться тем суждением, что в одном случае речь идёт о христианской апокалиптике, в то время как телеология предполагает просто идею целевой причинности без привязки к религиозному дискурсу (телеология Аристотеля или Канта), однако, как мне кажется, здесь проблема несколько серьёзнее.
В общей сложности проблема эсхатологии предполагает саму мысль о конце всего сущего (Страшный суд). Телос же традиционно не рассматривался в пространственно-временном смысле (скорее имелся в виду конец как достижение цели). Конец как смысл или исполнение. C этой точки зрения сама история описывалась в терминах начала пути и его завершения. На контрасте с этим эсхатон же всегда описывался как завершение всего человеческого мироздания (здесь привязка к религии неизбежна). Интересно при этом, что в рамках современной философии телеология скорее полностью заменила собой эсхатологию. Ссылаясь на религиозное содержание последней, именно телеология становится мишенью для критики многих постклассических философских учений. В частности, та же альтюссерианская школа изначально возникла именно как антителеологическое направление мысли. Но как же чисто теоретически может разделять телеологию и эсхатологию?
Конкретно Этьен Балибар в одной из своих статей, ссылаясь на "Призраков Маркса" Деррида, предложил крайне необычную версию эсхатологии грядущего события, в основании которой лежит различие между телеологией (мыслью об историческом времени через идею «конца») и эсхатологией как мыслью о случайной природе вероятности невозможного. Обосновывания мысль о необходимости революционной эсхатологии Жак Деррида, согласно Балибару, пишет о ней как о практике вмешательства в настоящее с целью создания универсального сообщества. Сама реальность, таким образом, эсхатологически указывает на временность любой господствующей связности. В дополнение к точке зрения Балибара, Уоррен Монтаг также пишет о возможности эсхатологического мышления, освобождённого от религиозного дискурса (разговор о будущем как попытка вмешательства в настоящее).
Несмотря на ряд нестандартных сюжетов в данной постановке вопроса, на мой взгляд, непосредственной причиной подобных размышлений становится исключительно политическая позиция вышеуказанных авторов. Что Балибар, что Деррида или Монтаг - носители левых убеждений. Однажды мне уже приходилось говорить о том, что без телеологии (или эсхатологии, если угодно) обосновать коммунистическую модель общества становится крайне сложно. Альтернативой этому может быть только морально-нормативный дискурс, однако, данные теоретики, очевидно, не готовы к подобному переходу. Другими словами, лично мне различия между телеологией и эсхатологией кажутся весьма надуманными. Скорее речь должна идти о различных версиях одного и того же. Так, если эсхатология больше имеет абсолютный характер (конец сущего), то телеология является скорее более слабой версией эсхатологии ("слабой" не в смысле концептуальной проработанности). То есть критиковать одно и быть сторонником другого вряд ли возможно. Впрочем, пока что это лишь предварительные замечания по данному вопросу.
Заметил, что в ряде современных исследований наметилась интересная тенденция, связанная с поиском противоречий между эсхатологическим и телеологическим измерением исторического времени. Это весьма интересно, учитывая, что даже исходные греческие термины: ἔσχατος и τέλειος фактически означают примерно одно и тоже (заключительный, конечный). Конечно, можно было бы ограничиться тем суждением, что в одном случае речь идёт о христианской апокалиптике, в то время как телеология предполагает просто идею целевой причинности без привязки к религиозному дискурсу (телеология Аристотеля или Канта), однако, как мне кажется, здесь проблема несколько серьёзнее.
В общей сложности проблема эсхатологии предполагает саму мысль о конце всего сущего (Страшный суд). Телос же традиционно не рассматривался в пространственно-временном смысле (скорее имелся в виду конец как достижение цели). Конец как смысл или исполнение. C этой точки зрения сама история описывалась в терминах начала пути и его завершения. На контрасте с этим эсхатон же всегда описывался как завершение всего человеческого мироздания (здесь привязка к религии неизбежна). Интересно при этом, что в рамках современной философии телеология скорее полностью заменила собой эсхатологию. Ссылаясь на религиозное содержание последней, именно телеология становится мишенью для критики многих постклассических философских учений. В частности, та же альтюссерианская школа изначально возникла именно как антителеологическое направление мысли. Но как же чисто теоретически может разделять телеологию и эсхатологию?
Конкретно Этьен Балибар в одной из своих статей, ссылаясь на "Призраков Маркса" Деррида, предложил крайне необычную версию эсхатологии грядущего события, в основании которой лежит различие между телеологией (мыслью об историческом времени через идею «конца») и эсхатологией как мыслью о случайной природе вероятности невозможного. Обосновывания мысль о необходимости революционной эсхатологии Жак Деррида, согласно Балибару, пишет о ней как о практике вмешательства в настоящее с целью создания универсального сообщества. Сама реальность, таким образом, эсхатологически указывает на временность любой господствующей связности. В дополнение к точке зрения Балибара, Уоррен Монтаг также пишет о возможности эсхатологического мышления, освобождённого от религиозного дискурса (разговор о будущем как попытка вмешательства в настоящее).
Несмотря на ряд нестандартных сюжетов в данной постановке вопроса, на мой взгляд, непосредственной причиной подобных размышлений становится исключительно политическая позиция вышеуказанных авторов. Что Балибар, что Деррида или Монтаг - носители левых убеждений. Однажды мне уже приходилось говорить о том, что без телеологии (или эсхатологии, если угодно) обосновать коммунистическую модель общества становится крайне сложно. Альтернативой этому может быть только морально-нормативный дискурс, однако, данные теоретики, очевидно, не готовы к подобному переходу. Другими словами, лично мне различия между телеологией и эсхатологией кажутся весьма надуманными. Скорее речь должна идти о различных версиях одного и того же. Так, если эсхатология больше имеет абсолютный характер (конец сущего), то телеология является скорее более слабой версией эсхатологии ("слабой" не в смысле концептуальной проработанности). То есть критиковать одно и быть сторонником другого вряд ли возможно. Впрочем, пока что это лишь предварительные замечания по данному вопросу.
👍7❤🔥2❤1
Почему философам не стоит заниматься хайпожорством? Наверное потому, что спустя некоторое время его преданные читатели могут ощутить чувство "испанского стыда". Разумеется, полностью игнорировать актуальные события теоретик не должен (особенно если он претендует на статус политического мыслителя), однако, любая философская мысль требует длительной саморефлексии, что довольно трудно осуществить в сжатые сроки. Ситуация с нападением США на Иран в данном контексте является лишь одним из многих примеров так как некоторые авторы уже успели опубликовать книги, напечатать статьи или произнести пафосные речи о том, какой Дональд Трамп великий политический революционер. Трампизм как новая веха в мировой истории и так далее. Спешу напомнить, что пока что не прошло и года с момента избрания Трампа, исходя из чего, наверное, не стоит делать однозначных выводов о его внутренней и внешней политике. Но это логика простых смертных. Ещё кстати в эпоху COVID-19 мы наблюдали примерно ту же самую картину. Например, тот же Славой Жижек запилил книгу про коронавирус уже в апреле 2020 года (спустя буквально пару месяцев с момента официального старта пандемии). Впрочем, конкретно сейчас эту книгу уже никто не читает потому, что если попытаться, то ничего кроме стыда за чужое желание хайпануть на актуальной теме, увы, вы там не найдёте. Такие дела.
👍18🤔1💯1😎1
Forwarded from Философское кафе
Карл Шмитт в советских газетах
Известия, 1935, 168.
Автор Илья Павлович Трайнин.
Известия, 1935, 168.
Автор Илья Павлович Трайнин.
🔥10❤2
Случайность, телеология, волюнтаризм и детерминизм
В отношении философии истории уместно было бы сказать, что одним из её ключевых вопросов является тот, формулировку которого в своё время предложил Плеханов: "Роль личности в истории". Интересно при этот, что за пределами конкретно русскоязычного интеллектуального поля её довольно редко используют. Так или иначе, традиционно в отношении метаисторических вопросов философы разделялись на два больших лагеря: 1) Сторонники "железных законов"; 2) Теоретики свободы человеческого действия. Даже в бытовом общественном создании можно сказать, что данная типология прочно закрепилась при всём том, что, как это всегда бывает, ситуация складывалась несколько сложнее.
Неделю назад мне на глаза попалась интереснейшая диссертация Виктора Куприянова, посвящённая истории телеологии в классической и неклассической видах философии (рекомендую ознакомиться). С одной стороны, Куприянов на манер Плеханова проводит схожее разделение в тексте своей работы, противопоставляя телеологию механицизму (последний он оценивает скорее негативно), но, на что здесь можно обратить внимание? В первую очередь на то, что отрицание телеологии, отнюдь, не предполагает автономию человеческого действия. Тот же Спиноза, отрицая телеологичность развития, придерживался максимально детерминистской картины мира, которую многие его критики были склонны даже описывать как разновидность фатализма. В то же время первые французские материалисты, которые рассматривали телеологию лишь в контексте религиозно-мистического мракобесия, полностью отрицали идею случайности (согласно их позиции сам по себе мир есть механизм). Таким образом, телеология и детерминизм исторически чаще оказывались по разные стороны баррикад, что заставляет задуматься о том, что любые типологии в контексте истории философских учений всегда являются условными и весьма противоречивыми.
Как вы знаете, в XX веке телеология и детерминизм чаще интерпретировались как родственные понятия, что уже было связано с влиянием марксизма и гегельянства. При этом противоположная стратегия критики телеологии далеко не всегда соприкасалась именно со случайностью. Определённая традиция возвращения к Спинозе (который вообще-то саму случайность отрицал) способствовала тому, что телеология начала рассматриваться в единстве с разумной субстанцией, наделённой способностью к целеполаганию (Спиноза против Гегеля). Очевидно, что соединение критики данной мировоззренческой схемы осуществлялось в двух направлениях: 1) Телеология невозможна так как воля индивида хаотична; 2) Телеология невозможна так как у случайной природы пустоты нет никакого направления. В общей сложности тот же Альтюссер, очевидно, скорее склонялся ко второму варианту, однако, тем не менее критика телеологии довольно плохо оказывается совместимой со структуралистской версией детерминизма, которую сам он разделял в период 1960-х годов. В этом случае возвращение к проблеме субъекта, вынужденного маневрировать внутри случайной природы конкретных ситуаций кажется вполне себе очевидным выходом. Короче говоря, традиционные типологии довольно редко остаются с нами надолго. За примерами далеко ходить не надо.
В отношении философии истории уместно было бы сказать, что одним из её ключевых вопросов является тот, формулировку которого в своё время предложил Плеханов: "Роль личности в истории". Интересно при этот, что за пределами конкретно русскоязычного интеллектуального поля её довольно редко используют. Так или иначе, традиционно в отношении метаисторических вопросов философы разделялись на два больших лагеря: 1) Сторонники "железных законов"; 2) Теоретики свободы человеческого действия. Даже в бытовом общественном создании можно сказать, что данная типология прочно закрепилась при всём том, что, как это всегда бывает, ситуация складывалась несколько сложнее.
Неделю назад мне на глаза попалась интереснейшая диссертация Виктора Куприянова, посвящённая истории телеологии в классической и неклассической видах философии (рекомендую ознакомиться). С одной стороны, Куприянов на манер Плеханова проводит схожее разделение в тексте своей работы, противопоставляя телеологию механицизму (последний он оценивает скорее негативно), но, на что здесь можно обратить внимание? В первую очередь на то, что отрицание телеологии, отнюдь, не предполагает автономию человеческого действия. Тот же Спиноза, отрицая телеологичность развития, придерживался максимально детерминистской картины мира, которую многие его критики были склонны даже описывать как разновидность фатализма. В то же время первые французские материалисты, которые рассматривали телеологию лишь в контексте религиозно-мистического мракобесия, полностью отрицали идею случайности (согласно их позиции сам по себе мир есть механизм). Таким образом, телеология и детерминизм исторически чаще оказывались по разные стороны баррикад, что заставляет задуматься о том, что любые типологии в контексте истории философских учений всегда являются условными и весьма противоречивыми.
Как вы знаете, в XX веке телеология и детерминизм чаще интерпретировались как родственные понятия, что уже было связано с влиянием марксизма и гегельянства. При этом противоположная стратегия критики телеологии далеко не всегда соприкасалась именно со случайностью. Определённая традиция возвращения к Спинозе (который вообще-то саму случайность отрицал) способствовала тому, что телеология начала рассматриваться в единстве с разумной субстанцией, наделённой способностью к целеполаганию (Спиноза против Гегеля). Очевидно, что соединение критики данной мировоззренческой схемы осуществлялось в двух направлениях: 1) Телеология невозможна так как воля индивида хаотична; 2) Телеология невозможна так как у случайной природы пустоты нет никакого направления. В общей сложности тот же Альтюссер, очевидно, скорее склонялся ко второму варианту, однако, тем не менее критика телеологии довольно плохо оказывается совместимой со структуралистской версией детерминизма, которую сам он разделял в период 1960-х годов. В этом случае возвращение к проблеме субъекта, вынужденного маневрировать внутри случайной природы конкретных ситуаций кажется вполне себе очевидным выходом. Короче говоря, традиционные типологии довольно редко остаются с нами надолго. За примерами далеко ходить не надо.
👍5❤2⚡1
SocOboz_Зомбарт.pdf
2.6 MB
Ребров С.А. Вернер Зомбарт как критик концепций модернизации // Социологическое обозрение. 2025. T. 24. №2. C. 190-204
Изначально данная статья выросла из текста публичного выступления на конференции ЦФС ВШЭ в сентябре 2023 года. Впоследствии к нему добавились куски ещё двух докладов с конференции в СИ РАН и лекции на площадке БФУ имени Канта в Калининграде. С одной стороны, я действительно намеревался подвести некоторый итог собственных исследований социологии Зомбарта, однако, в конечном итоге данная цель совпала с желанием раскритиковать подход ряд отечественных теоретиков модернизации. В любом случае, получилось то, что получилось.
Изначально данная статья выросла из текста публичного выступления на конференции ЦФС ВШЭ в сентябре 2023 года. Впоследствии к нему добавились куски ещё двух докладов с конференции в СИ РАН и лекции на площадке БФУ имени Канта в Калининграде. С одной стороны, я действительно намеревался подвести некоторый итог собственных исследований социологии Зомбарта, однако, в конечном итоге данная цель совпала с желанием раскритиковать подход ряд отечественных теоретиков модернизации. В любом случае, получилось то, что получилось.
❤9👍3❤🔥2
Прочитав в начале этого года книгу "Ориентализм" Эдварда Саида, я лишний раз укрепился в своей точки зрения о том, что огромное количество понятий, которые мы постоянно используем в своём политическом языке как что-то самоочевидное на деле оказываются скорее пустышками: Восток, Запад, Европа, Евразия и так далее. Собственно сам Саид, очевидно, главным образом концентрировался на разоблачении мифа о Востоке как о какой-то устоявшейся социально-культурной общности, однако, у меня буквально сразу же возник вопрос о существовании обратного по отношению к ориентализму направления. Как я выяснил чуть позже, она называется "оксидентализмом" (Occidental - западный). Более того, в 2004 году вышла книга авторства голландского журналиста Яна Бурумы и израильского философа Авишая Маргалита "Оксидентализм: Запад глазами его врагов". C одной стороны, сравнения этой книги с работой Саида неизбежны, однако, уже исходя из того, что я успел прочитать (пока прочёл лишь половину), можно заметить одно фундаментальное различие: Если Саид в своей книге разоблачает сам по себе миф о Востоке как о чём-то едином (в обоих версиях: негативной и позитивной), то Бурума и Маргалит скорее концентрируются исключительно на негативной (на это намекает подзаголовок). В общей сложности, они доказывают, что практически все антизападные интеллектуальные течения в своей генеалогии имеют чисто западное происхождение. Русское славянофильство, маоизм, исламизм и так далее на деле оказываются переосмысленными версиями немецкого романтизма, марксизма и мессианского национализма. В то же самое время Бурума и Маргалит практически ничего не пишут про позитивный образ Запада, который, исходя из их же собственной методологии, тоже можно легко разоблачить как бессмысленный культурный фантом. Впрочем, может это просто я ещё не дошёл до этого места в их книге (оставлю файл в комментариях). Она кстати максимально небольшая в сравнении с работой Саида. Даже как-то странно ибо сама по себе тема просто космическая по своему охвату.
❤🔥12👍9❤2
Коллеги Семён Ларин и Дмитрий Жуков перевели весьма интересное выступление Альтюссера (ваш покорный слуга имел возможность ознакомиться с переводом ещё до публикации). Чем же примечателен конкретно данный текст? Во первых, здесь Альтюссер рассуждает о специфически восточной и западной ментальности в контексте реализации принципов социалистической идеи (в его текстах подобный тип рассуждений встречается крайне редко). И во-вторых, здесь он также серьёзным образом критикует марксистскую концепцию политики с учётом исторической роли Сталина и стран Варшавского договора. Более подробно он ещё будет об этом писать в работе "Маркс в своих границах". Так или иначе, Семён и Дмитрий сделали большое дело. Спасибо им!
❤13⚡3🐳3
Forwarded from Вести. Калининград
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥12🤯1🎉1
Должен сказать, что творчеством Юка Хуэя я ранее практически не интересовался, однако, c недавнего времени сам я полюбил жанр критики того, что можно назвать "культурными фантомами". Исходя из этого, тема "Пост-Европы" кажется мне весьма интересной. Сразу скажу, что саму книгу целиком я пока не прочёл (скорее всего она ещё даже не успела выйти), но из ряда фрагментов уже можно составить некоторое впечатление. Очевидно, что «Пост-Европа» — это провокационный манифест о необходимости радикального переосмысления Европы в эпоху её трансформации. Фактически Хуэй предлагает не цепляться за прошлое, а экспериментировать с новыми формами политики, технологий и так далее. Получается, такой эдакий «космо-технический федерализм», где локальные сообщества сохраняют автономию, но сотрудничают на основе общих технологических и экологических стандартов. В то же время лично мне подобная постановка вопроса кажется чрезмерно оксиденталистской, и вот почему: 1) Говоря о «европейской рациональности», «технологическом господстве» или «кризисе универсализма», он иногда неявно воспроизводит бинарность «Запад vs остальные», что вполне себе можно считать элементом оксидентализма; 2) Даже критикуя «Европу», Хуэй вынужден её определять, а значит — в каком-то смысле конструировать. Дело в том, что различные культурно-глобальные понятия (Европа или же Запад в целом), наверное, не должны зависеть от сиюминутных колебаний политической конъюнктуры. Здесь я имею в виду то, что в случае каких-либо реально радикальных трансформаций (скажем, возможного кризиса ЕС с его последующим распадом) скорее всего разговоры о Европе моментально уступят место старому доброму национализму. Всё это, отнюдь, не является фантастикой так как достаточно вспомнить, что писали Зомбарт и Дюркгейм о французах и немцах в эпоху Первой Мировой. Тогда ведь мало кого волновал дискурс о "Европе". Национальная идентичность может проснуться совершенно внезапно даже у тех, кто ранее об этом даже не помышлял (последние годы явно это подтверждают). Впрочем, возможно эти вопросы в своей книге Хуэй как-то осмысливает (нужно будет всё-таки прочитать всю книгу целиком).
👍7
Традиция конфликта
Крупные типологии различных политических и социальных учений в современной литературе можно встретить достаточно часто. При этом чаще всего они в неизбежном порядке страдают огромным количеством условностей и обобщений. C этим, увы, ничего сделать нельзя. В то же время они помогают объяснить связи отдельных фигур друг с другом, что способствует реактуализации подходов тех или иных авторов. К числу авторов подобных типологий относится и Рэндалл Коллинз. В своей книге "Четыре социологических традиции" он предложил разделить большинство социологических (и не только) учений на четыре типа в зависимости от взгляда на механизмы развития сферы социального. Пересказывать содержание всей книги я, разумеется, не собираюсь, но так как я заметил в ней ряд интереснейших моментов, попробую остановится на нескольких из них.
Во первых, то что сам Коллинз предложил назвать "традицией конфликта" - когда именно конфликт находится в центре измерения общественных образований, как по мне, крайне удачная задумка. В то же время немного вызывает вопросы то, что Коллинз предложил связать данную традицию, в первую очередь, с именем Маркса. Несомненно, что тема классовой борьбы напрямую связана с марксизмом, однако, сам же Коллинз в своей же книге упоминал, что первым автором данной традиции в своё время стал ещё Макиавелли (хоть в его случае речь тогда и не шла о социологии). Важно это по той причине, что конкретно Макиавелли считал, что конфликт внутри общества не только способствует развитию, но в общем и целом неустраним. Конкретно Маркс же, напротив, связывал классовый конфликт с периодом человеческой предыстроии, которая должна закончится путём ликвидации классов. Вообще должен сказать, что Коллинз обращается с Марксом крайне вольно (лично я ничего против не имею, но как-то это выглядит слишком далеко от оригинала). Фактически, обсуждая тот же "Капитал", он даже не связывает его с утилитаристской традицией, о которой он пишет в другой главе. Важно это по той причине, что практика экономического обмена как основа общественных взаимоотношений была одной из центральных тем позднего периода Маркса (за что его в своё время и критиковал Розанваллон). Короче говоря, взгляд Коллинза на Маркса выглядит уж совсем своеобразным (и это я ещё даже не описываю то, какое место он в своей работе уделяет Энгельсу).
Так или иначе, очевидно, что традицию конфликта в целом можно распространить далеко за пределы социологии (та же шмиттеанская традиция). Да и в целом, многие условные теоретики данной парадигмы могли и вовсе отрицать социологию как дисциплину (Лаклау и Муфф, например). Но в то же время именно традиция конфликта становится подлинной альтернативой утилитаристской традиции (конфликт/рациональный обмен). Кроме того, стоит заметить, что если мы попытается засунуть Альтюссера в терминологию Коллинза, то получится такой интересный переход от традиции ритуальной солидарности Дюркгейма (с которой, несомненно, был связан структурализм) к той самой традиции конфликта (уже правда скорее немарксистского толка). От французской традиции - к немецкой, так сказать. Но это уже совсем другая история.
Крупные типологии различных политических и социальных учений в современной литературе можно встретить достаточно часто. При этом чаще всего они в неизбежном порядке страдают огромным количеством условностей и обобщений. C этим, увы, ничего сделать нельзя. В то же время они помогают объяснить связи отдельных фигур друг с другом, что способствует реактуализации подходов тех или иных авторов. К числу авторов подобных типологий относится и Рэндалл Коллинз. В своей книге "Четыре социологических традиции" он предложил разделить большинство социологических (и не только) учений на четыре типа в зависимости от взгляда на механизмы развития сферы социального. Пересказывать содержание всей книги я, разумеется, не собираюсь, но так как я заметил в ней ряд интереснейших моментов, попробую остановится на нескольких из них.
Во первых, то что сам Коллинз предложил назвать "традицией конфликта" - когда именно конфликт находится в центре измерения общественных образований, как по мне, крайне удачная задумка. В то же время немного вызывает вопросы то, что Коллинз предложил связать данную традицию, в первую очередь, с именем Маркса. Несомненно, что тема классовой борьбы напрямую связана с марксизмом, однако, сам же Коллинз в своей же книге упоминал, что первым автором данной традиции в своё время стал ещё Макиавелли (хоть в его случае речь тогда и не шла о социологии). Важно это по той причине, что конкретно Макиавелли считал, что конфликт внутри общества не только способствует развитию, но в общем и целом неустраним. Конкретно Маркс же, напротив, связывал классовый конфликт с периодом человеческой предыстроии, которая должна закончится путём ликвидации классов. Вообще должен сказать, что Коллинз обращается с Марксом крайне вольно (лично я ничего против не имею, но как-то это выглядит слишком далеко от оригинала). Фактически, обсуждая тот же "Капитал", он даже не связывает его с утилитаристской традицией, о которой он пишет в другой главе. Важно это по той причине, что практика экономического обмена как основа общественных взаимоотношений была одной из центральных тем позднего периода Маркса (за что его в своё время и критиковал Розанваллон). Короче говоря, взгляд Коллинза на Маркса выглядит уж совсем своеобразным (и это я ещё даже не описываю то, какое место он в своей работе уделяет Энгельсу).
Так или иначе, очевидно, что традицию конфликта в целом можно распространить далеко за пределы социологии (та же шмиттеанская традиция). Да и в целом, многие условные теоретики данной парадигмы могли и вовсе отрицать социологию как дисциплину (Лаклау и Муфф, например). Но в то же время именно традиция конфликта становится подлинной альтернативой утилитаристской традиции (конфликт/рациональный обмен). Кроме того, стоит заметить, что если мы попытается засунуть Альтюссера в терминологию Коллинза, то получится такой интересный переход от традиции ритуальной солидарности Дюркгейма (с которой, несомненно, был связан структурализм) к той самой традиции конфликта (уже правда скорее немарксистского толка). От французской традиции - к немецкой, так сказать. Но это уже совсем другая история.
👍6🤷♂2❤1⚡1
Forwarded from Ларин
Долой политику? Диалог Мамардашвили и Альтюссера
Завтра читаю лекцию! Всех, кто сейчас в Казани, приглашаю в бар «Ща» на улице Щапова, 26Д к 21:00. Помимо прочего, расскажу про наш перевод мсьё Альтюссера. Анонс лекции:
В переписке с Альтюссером Мамардашвили пишет: «Для нас хорошая политика – это деполитизация философии». Если политическая деятельность практически запрещена, если невозможно открыто высказывать своё мнение, то – «долой политику».
Спустя десятилетие после этого высказывания Мамардашвили, в 1978 году, Альтюссер произнесёт доклад «Наконец-то кризис марксизма!», в котором выражает до определённой степени схожую мысль о туманном будущем марксисткой философии. Он сравнивает кризис марксизма с возрастными кризисами – например, подростковым кризисом. В этом случае мы можем говорить о развитии, рождении чего-то нового через преодоление. Именно в таком кризисе, по Альтюссеру, находится марксизм.
На лекции поговорим о том, как видеть будущее в ситуации социального кризиса и как нам может помочь чтение Маркса через Мамардашвили и Альтюссера.
Завтра читаю лекцию! Всех, кто сейчас в Казани, приглашаю в бар «Ща» на улице Щапова, 26Д к 21:00. Помимо прочего, расскажу про наш перевод мсьё Альтюссера. Анонс лекции:
В переписке с Альтюссером Мамардашвили пишет: «Для нас хорошая политика – это деполитизация философии». Если политическая деятельность практически запрещена, если невозможно открыто высказывать своё мнение, то – «долой политику».
Спустя десятилетие после этого высказывания Мамардашвили, в 1978 году, Альтюссер произнесёт доклад «Наконец-то кризис марксизма!», в котором выражает до определённой степени схожую мысль о туманном будущем марксисткой философии. Он сравнивает кризис марксизма с возрастными кризисами – например, подростковым кризисом. В этом случае мы можем говорить о развитии, рождении чего-то нового через преодоление. Именно в таком кризисе, по Альтюссеру, находится марксизм.
На лекции поговорим о том, как видеть будущее в ситуации социального кризиса и как нам может помочь чтение Маркса через Мамардашвили и Альтюссера.
⚡3🤔2❤🔥1
Несколько дней назад наконец дочитал книгу "Оксидентализм" Бурумы и Маргалита, о которой ранее уже писал. При первом прочтении мне показалось, что серьёзным недостатком книги является то, что Бурума и Маргалит пишут исключительно об агрессивном антизападничестве (на это как бы намекает подзаголовок). В общей сложности, они доказывают, что практически все антизападные интеллектуальные течения в своей генеалогии имеют чисто западное происхождение. В этом смысле (только сейчас подумал) знаменитый спор русских западников и славянофилов можно интерпретировать как спор двух видов западничества (так как славянофилы фактически выросли из идей немецких романтиков). Должен сказать, что, увы, предварительное впечатление оказалось правдой: о самом западничестве в классическом его понимании авторы не пишут вообще ничего. В целом, мне совершенно непонятно, почему оксидентализм стоит рассматривать исключительно с негативной стороны так как радикальное западничество с его идеей о едином Западе как оплоте всего самого великого вполне себе неплохо ложится на общую проблематику книги Бурумы и Маргалита. С этой точки зрения их работа, конечно, серьёзным образом уступает "Ориентализму" Саида так как последний писал и о положительном образе Востока (он рассматривал это тоже как форму ориентализма). Однако если всё-таки абстрагироваться от моих собственных хотелок, то одним из наиболее неожиданных выводов книги является то, каким образом можно избежать оксидентализма как мировоззренческой установки. И ответ на этот вопрос весьма неожиданный - безразличие. То есть, согласно Буруме и Маргалиту, настоящее антизападничество заключается именно в безразличии к Западу (именно таким был, например, традиционный ислам). Другой вопрос, как это возможно в рамках современного глобального мира? И на этот вопрос, увы, в самой книге ответа нет.
👍3❤🔥2