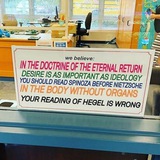Работа Лари сильно уступает предыдущей книжке, но некоторым образом ее дополняет в смысле временных периодов. Попытки написать социальную историю таких сложных процессов, как гражданская война, не прекращаются уже десятилетия. К сожалению, книгу Лари можно отнести к успешным попыткам лишь с большой натяжкой.
Начнем, как водится, со структуры книги. Тут нужно отдать Лари должное - книга обладает четкой и прозрачной структурой, позволяющей использовать ее как справочник. К сожалению, при непрерывном чтении всей работы начинает казаться, что уже где-то читал это - но вина ли Лари, что положение женщин, детей и семей военнослужащих в каждый из 5 периодов гражданской войны было паршивым? Помимо положения женщин и детей, Лари уделяет огромное внимание тематике разделения семьи (получилось отлично) и распада общественных институтов (получилось на уровне курсовой).
Книга начинается с крайне беглого обзора ситуации в Китае к августу 1945, затем освещает периоды борьбы в Маньчжурии, на севере, в центре и на юге страны. В каждой из глав дается краткая сводка по боевым действиям, рассматриваются волнующие автора вопросы и, самое ценное, дается пара-тройка одностраничных биографий, дополняющий макроисторическое исследование микроисторией. Именно последние оправдывают всю книгу целиком - читатели, знакомые с проблематикой стазиса, найдут множество удивительных мелких отличий в буднях китайских деятелей гражданской войны от биографий их визави из России или Испании, причем отличия эти сложно списать на некий менталитет или же особенности исторического развития Поднебесной.
Биографии в конце глав не единственная ценность книги, так Лари бережно перечисляет множество фильмов, книг и поэм, релевантных периоду. Что же может быть плохого в такой чудесной книжке? Даже если оставить автору право на явно протайваньскую позицию, остается несколько вопросов. Предлагаю вам самим задать эти вопросы на основе контент анализа пдфки о гражданской войне в 298 страниц (с учетом обложки и примечаний):
1) Слово собственность встречается в файле 30 раз
2) Слово деньги встречается 36 раз.
3) Слово разделение (любимая и педалируемая тема автора в контексте отношений внутри семьи) встречается 43 раза
4) ПТСР упоминается 3 раза.
Начнем, как водится, со структуры книги. Тут нужно отдать Лари должное - книга обладает четкой и прозрачной структурой, позволяющей использовать ее как справочник. К сожалению, при непрерывном чтении всей работы начинает казаться, что уже где-то читал это - но вина ли Лари, что положение женщин, детей и семей военнослужащих в каждый из 5 периодов гражданской войны было паршивым? Помимо положения женщин и детей, Лари уделяет огромное внимание тематике разделения семьи (получилось отлично) и распада общественных институтов (получилось на уровне курсовой).
Книга начинается с крайне беглого обзора ситуации в Китае к августу 1945, затем освещает периоды борьбы в Маньчжурии, на севере, в центре и на юге страны. В каждой из глав дается краткая сводка по боевым действиям, рассматриваются волнующие автора вопросы и, самое ценное, дается пара-тройка одностраничных биографий, дополняющий макроисторическое исследование микроисторией. Именно последние оправдывают всю книгу целиком - читатели, знакомые с проблематикой стазиса, найдут множество удивительных мелких отличий в буднях китайских деятелей гражданской войны от биографий их визави из России или Испании, причем отличия эти сложно списать на некий менталитет или же особенности исторического развития Поднебесной.
Биографии в конце глав не единственная ценность книги, так Лари бережно перечисляет множество фильмов, книг и поэм, релевантных периоду. Что же может быть плохого в такой чудесной книжке? Даже если оставить автору право на явно протайваньскую позицию, остается несколько вопросов. Предлагаю вам самим задать эти вопросы на основе контент анализа пдфки о гражданской войне в 298 страниц (с учетом обложки и примечаний):
1) Слово собственность встречается в файле 30 раз
2) Слово деньги встречается 36 раз.
3) Слово разделение (любимая и педалируемая тема автора в контексте отношений внутри семьи) встречается 43 раза
4) ПТСР упоминается 3 раза.
Захватывающая книга Фредерика Вейкмана рассказывает о краткой, но очень яркой истории гоминьдановского сопротивления японскому режиму в Шанхае. До вступления Японии в войну с США, в городе располагались международное поселение и французская концессия, где действовали другие законы. Сам же Шанхай расцветал на фоне непрерывного притока беженцев, пополнявших армию опиюшников, игроманов и мелких преступников. Эта армия служила не только мгновенному созданию состояний, но и средой для вербовки как про-, так и анти-китайских развед(банд)формирований.
На страницах книги ежедневно нарастает вакханалия политически и экономически мотивированных убийств, терактов, похищений, стремительных взлетов и падений мутных персонажей. Там будут и варлорды из числа древнейшей банды города, ведущей историю от 17 века, и команда контрразведки под руководством Двухтонного Тони, известного вышибалы, и австралийские авантюристы, и русские белогвардейцы-охранники. Многим это напоминает будни фон Заломона или его визави Павлова, но все же коренным отличием можно считать симметричность стратегии - обе стороны стремились использовать криминалитет и маргиналов для снижения издержек на установление гегемонии. Сама же география конфликта соответствует теории Даунса-Каливаса о зонах контроля и подробно подсвечивается в книге - так, контрразведка больше известна по адресу своего штаба в частной школе, нежели чем по официальному названию, а география блужданий политических солдат по казино и притонам между миссиями заставит покраснеть бывалого туриста - Шанхай оказался очень большим для всех, пока японцы не перекрыли кислород и не зачистили город окончательно (далеко не с первой попытки!).
На страницах книги ежедневно нарастает вакханалия политически и экономически мотивированных убийств, терактов, похищений, стремительных взлетов и падений мутных персонажей. Там будут и варлорды из числа древнейшей банды города, ведущей историю от 17 века, и команда контрразведки под руководством Двухтонного Тони, известного вышибалы, и австралийские авантюристы, и русские белогвардейцы-охранники. Многим это напоминает будни фон Заломона или его визави Павлова, но все же коренным отличием можно считать симметричность стратегии - обе стороны стремились использовать криминалитет и маргиналов для снижения издержек на установление гегемонии. Сама же география конфликта соответствует теории Даунса-Каливаса о зонах контроля и подробно подсвечивается в книге - так, контрразведка больше известна по адресу своего штаба в частной школе, нежели чем по официальному названию, а география блужданий политических солдат по казино и притонам между миссиями заставит покраснеть бывалого туриста - Шанхай оказался очень большим для всех, пока японцы не перекрыли кислород и не зачистили город окончательно (далеко не с первой попытки!).
Telegram
Kek's reading list
Как правильно (как всегда правильно!) сказал Эрнст Юнгер про книгу Эрнста Соломона: она "заслуживает прочтения хотя бы потому, что она «охватывала судьбу самогоценного слоя той молодежи, который вырос в Германии во время войны». Пока марии ремарки жаловались…
Пока я готовлю серию по книжкам о лиге наций, почитайте умничку плутона (а ещё лучше ЧИТАЙТЕ ДЕЛЕЗА)
Forwarded from Жизнь на Плутоне
Делёз вскользь назвал Улисса первым «человеком современного государства». Это стоит обдумать. Где пролегает линия разрыва со старым миром? Она пролегает через некоторый парадокс, ведь Улисс — апологет heimat-родины, малого мира, регионалист-«деревенщик», при этом не чурающийся недостойных для прочих ахеян техник, «подлых» ремесел и уловок. Но делает ли он это по своей воле? Нет. Улисса выбрасывают во внешний мир при помощи дьявольской уловки своего двойника — политехника Паламеда. Машина, образуемая Улиссом, его плугом и младенцем-сыном — плод дьявольского ухищрения, изгоняющего Улисса в агональный мир войны и странствий. Горький урок выучен, иллюстрацией чему служит «Одиссея» — серия новелл, на которые герой вынужден идти для реализации своей консервативной программы возвращения домой. В мир-кокон, в котором нет нужды в технэ. В золотой век.
Человек модерна, выходит, это инженер причудливых машин и их же невольный испытатель, рискующий всем, но единственное, что ему нужно — возвращение в исходную позицию, консервативная революция. (В этом смысле новый Улисс, Эней, вовсе не Улисс, а анти-Гектор, принуждаемый к участи Ахиллеса, царя войны, и Агамемнона, царя старого мира, опрокидываемых в будущее римского мировластья.).
При этом проект Улисса, конечно, утопичен и невозможен без метафизических костылей, предоставляемых старыми богами. Этими старыми богами, благоволящими человеку модерна, становятся, вероятно, государственные институты. Ведь сам «модерн» для французского народа-этатиста рождается с возникновением французского государства — это и есть начало «Нового времени» из учебников истории, хотя всегда маскируется под иные события.
Значит протеизм и злосчастные блуждания, на которые обречены современные улиссы, могут счастливо разрешиться. Есть такой слот на поле возможностей — барабане Фортуны.
Человек модерна, выходит, это инженер причудливых машин и их же невольный испытатель, рискующий всем, но единственное, что ему нужно — возвращение в исходную позицию, консервативная революция. (В этом смысле новый Улисс, Эней, вовсе не Улисс, а анти-Гектор, принуждаемый к участи Ахиллеса, царя войны, и Агамемнона, царя старого мира, опрокидываемых в будущее римского мировластья.).
При этом проект Улисса, конечно, утопичен и невозможен без метафизических костылей, предоставляемых старыми богами. Этими старыми богами, благоволящими человеку модерна, становятся, вероятно, государственные институты. Ведь сам «модерн» для французского народа-этатиста рождается с возникновением французского государства — это и есть начало «Нового времени» из учебников истории, хотя всегда маскируется под иные события.
Значит протеизм и злосчастные блуждания, на которые обречены современные улиссы, могут счастливо разрешиться. Есть такой слот на поле возможностей — барабане Фортуны.
Продолжим говорить о Лиге Наций и ее отношениях с проблемными государствами той эпохи. Впрочем, можно ли так говорить об Италии и ее роли в Лиге? Работа Элизабетты Толлардо охватывает все время участия Италии в Лиге и предлагает сосредоточиться на просопографии. Книжка неплохо структурирована и состоит из 5 основных глав.
В первой главе Толлардо дает краткую справку об устройстве Лиги и сразу же предоставляет основную мысль автора - Италия участвовала в международных начинаниях не на правах фрирайдера Гоббса, а с искренней заинтересованностью в успехах института. По крайней мере, пока вера в возможности института сохранялись. Здесь Толлардо ловко обходит тот момент, что итальянцы первыми и поставили вопрос о способности Лиги к мирному урегулированию. Тут же и подсвечены основные интересы Италии в Лиге - разоружение и Секция Мандатов, которая должна была принести Италии всю Африку на блюдечке.
Вторая глава переходит непосредственно к просопографии и рисует нам сотрудников первого дивизиона Лиги как аристократов или же хорошо окопавшихся буржуа. Каждый четвертый будет иметь опыт в первой мировой (впрочем, вряд ли окопный), у всех будет образование, у каждого третьего - из Рима, у двух из трех - в области права. Все они знают французский, но английский - меньше половины и лишь двое из тридцати трех не будут иметь опыт международной работы, релевантный к их должностям в Лиге. Согласуется с гимном Италии тех лет и возрастной состав - шестеро младше 30, 23 в возрасте от 30 до 50 и четыре человека старше 50.
Третья глава рассказывает о попытках Муссолини обратить в свою политическую религию представителей еще либеральной эпохи. Толлардо показывает этот процесс на примере двух кейсов, один другого неубедительнее - драку пьяных итальянцев с пьяными англичанами, вызванную поведением последних, можно объяснить и без "нарастающей фашистизации сотрудников Лиги". Не смотря на неубедительность кейсов, статистика вступления в ИФП говорит сама за себя - отказались лишь трое, а среди самых высокопоставленных итальянцев большинство оказалось идейными фашистами.
Четвертая глава выделяет двух самых талантливых итальянцев и рассказывает об их трудах на благо Лиги и/или Италии - комиссар по Дацигу Манфреди Гравина и Альберто Теодоли, президент Секции Мандатов.
Завершается же книга рассказом о судьбе итальянцев-сотрудников Лиги после выхода Италии из Лиги. Показывается она так же на трех характерных примерах - оставшегося на международных постах Стоппани, оппортуниста и гедониста Пилотти и просто профессионала Берио.
Подводя итоги, можно сказать, что Толлардо убеждает в своем тезисе на все 100%. А можно сказать, что наблюдать за талантливыми итальянцами и оставаться объективным - невозможно. Прочитайте сами, файл прилагается.
В первой главе Толлардо дает краткую справку об устройстве Лиги и сразу же предоставляет основную мысль автора - Италия участвовала в международных начинаниях не на правах фрирайдера Гоббса, а с искренней заинтересованностью в успехах института. По крайней мере, пока вера в возможности института сохранялись. Здесь Толлардо ловко обходит тот момент, что итальянцы первыми и поставили вопрос о способности Лиги к мирному урегулированию. Тут же и подсвечены основные интересы Италии в Лиге - разоружение и Секция Мандатов, которая должна была принести Италии всю Африку на блюдечке.
Вторая глава переходит непосредственно к просопографии и рисует нам сотрудников первого дивизиона Лиги как аристократов или же хорошо окопавшихся буржуа. Каждый четвертый будет иметь опыт в первой мировой (впрочем, вряд ли окопный), у всех будет образование, у каждого третьего - из Рима, у двух из трех - в области права. Все они знают французский, но английский - меньше половины и лишь двое из тридцати трех не будут иметь опыт международной работы, релевантный к их должностям в Лиге. Согласуется с гимном Италии тех лет и возрастной состав - шестеро младше 30, 23 в возрасте от 30 до 50 и четыре человека старше 50.
Третья глава рассказывает о попытках Муссолини обратить в свою политическую религию представителей еще либеральной эпохи. Толлардо показывает этот процесс на примере двух кейсов, один другого неубедительнее - драку пьяных итальянцев с пьяными англичанами, вызванную поведением последних, можно объяснить и без "нарастающей фашистизации сотрудников Лиги". Не смотря на неубедительность кейсов, статистика вступления в ИФП говорит сама за себя - отказались лишь трое, а среди самых высокопоставленных итальянцев большинство оказалось идейными фашистами.
Четвертая глава выделяет двух самых талантливых итальянцев и рассказывает об их трудах на благо Лиги и/или Италии - комиссар по Дацигу Манфреди Гравина и Альберто Теодоли, президент Секции Мандатов.
Завершается же книга рассказом о судьбе итальянцев-сотрудников Лиги после выхода Италии из Лиги. Показывается она так же на трех характерных примерах - оставшегося на международных постах Стоппани, оппортуниста и гедониста Пилотти и просто профессионала Берио.
Подводя итоги, можно сказать, что Толлардо убеждает в своем тезисе на все 100%. А можно сказать, что наблюдать за талантливыми итальянцами и оставаться объективным - невозможно. Прочитайте сами, файл прилагается.
Продолжает тему неудавшихся попыток научить немцев жить в государстве интересная работа двух отечественных исследователей про СВАГ, он же Советская Военная Администрация в Германии, он же прото-ГДР.
Постулируя тему исследования еще в названии работы, Козловы действительно не ограничиваются лишь анализом работы СВАГ и не ударяются в просопографию. Основываясь на материалах о повседневной жизни оккупантов, авторы раскрывают мир СВАГовца - первоначальное удивление, постоянная нехватка предметов первой необходимости, противоречия между требуемыми нормами и возможностью хоть сколько-нибудь эффективно выполнять свои обязанности.
Не остаются в стороне и добровольно-принудительные механизмы мобилизации, и влияние нового формата жизни на пересечении "витрины социализма" и "крепости коммунизма", и разумеется многоплановое и многоуровневое дерево оккупационных дискурсов. Человек ли немец? Ограничен ли в правах оккупант? Если наша модель лучшая, то почему после войны немцы живут лучше нас до войны? Как водится, за вопросами следуют ответы. Отвечать было предоставлено позднесталинской модели тоталитарного общества и многочисленным добровольным помощникам чекистов, что так же хорошо разобрано в книге. Анализ замечателен своей скрупулёзностью - мы знаем, что СВАГовцы ели, с кем спали, кого прикрывали и сколько зарабатывали, как скрывали гостайну и что с ними за это бывало.
Теперь о недостатках книги. Сама манера письма авторов точно не для всех - лично я не вижу необходимости превращать научный текст в псевдонаучпоп, но может кому-то нравится. Не хватает и деталей про закрытие СВАГа, оставляя ощущение недописанной работы. Читать, впрочем, все равно можно и нужно.
Постулируя тему исследования еще в названии работы, Козловы действительно не ограничиваются лишь анализом работы СВАГ и не ударяются в просопографию. Основываясь на материалах о повседневной жизни оккупантов, авторы раскрывают мир СВАГовца - первоначальное удивление, постоянная нехватка предметов первой необходимости, противоречия между требуемыми нормами и возможностью хоть сколько-нибудь эффективно выполнять свои обязанности.
Не остаются в стороне и добровольно-принудительные механизмы мобилизации, и влияние нового формата жизни на пересечении "витрины социализма" и "крепости коммунизма", и разумеется многоплановое и многоуровневое дерево оккупационных дискурсов. Человек ли немец? Ограничен ли в правах оккупант? Если наша модель лучшая, то почему после войны немцы живут лучше нас до войны? Как водится, за вопросами следуют ответы. Отвечать было предоставлено позднесталинской модели тоталитарного общества и многочисленным добровольным помощникам чекистов, что так же хорошо разобрано в книге. Анализ замечателен своей скрупулёзностью - мы знаем, что СВАГовцы ели, с кем спали, кого прикрывали и сколько зарабатывали, как скрывали гостайну и что с ними за это бывало.
Теперь о недостатках книги. Сама манера письма авторов точно не для всех - лично я не вижу необходимости превращать научный текст в псевдонаучпоп, но может кому-то нравится. Не хватает и деталей про закрытие СВАГа, оставляя ощущение недописанной работы. Читать, впрочем, все равно можно и нужно.
Telegram
Kek's reading list
Занятное эхо войны от преподавателя международного права из Женевы. Эхо не второй мировой, нет, эхо войны историков об отношении к нацистской Германии и переосмыслении смены немецкой роли с вычурных претензий на превосходство на естественное положение грязи…
Продолжаем серию про Лигу Наций. После СССР и Италии поговорим о третьем известном нарушителе международного спокойствия. Работа Буркмана сильно уступает предыдущим книгам по теме, но все же заслуживает внимания.
Книга начинается с неплохого анализа отношения японцев к Лиге до ее образования. Не смотря на начинающиеся с первой главы попытки автора доказать, что Япония-де была искренне предана идее Лиги, уже на этом этапе очевидны конструктивные несовместимости "модернизированной" Японии с ее архаичными взглядами на мир и модернового института Лиги. Тогда же, во время парижской мирной конференции, намечаются основные линии поведения японцев на международной арене - следование интересам Антанты в Европе, тотальная неуступчивость по любым вопросам в Азии, наивное и неверное восприятие Китая не как страны или народа, а как культуры, подчиненной японцам. Тогда же и появляются основные действующие лица - большинство важных японцев в Лиге имели опыт еще на Парижской конференции.
Подобно книге Толлардо, Буркман заостряет внимание на личностях японских дипломатов. Они менее гомогенны в своем социальном происхождении, но вторят друг другу карьерно на все 100% - все они начнут свою работу в МИДе после завершения реставрации Мэйдзи, все они будут связаны с одним и тем же влиятельным политиком.
Завершающие главы работы довольно поверхностно и крайне односторонне описывают процесс исключения Японии из цивилизованных держав (встретивший одобрение и понимание публики). Все время нахождения Японии в Лиге происходило под знаменем борьбы с расизмом (разумеется, направленным исключительно против японской расы, а не китайской или корейской). К финалу власть расовых параноиков достигла предела, выход Японии стал из мечты доброй половины японского МИДа состоявшимся фактом, а практически все японские "интернационалисты" начали активно поддерживать решение мудрейшего о выходе из института, которому они посвятили лучшие 10 лет своей жизни. Книгу стоит прочитать хотя бы для того, чтобы лучше понимать разницу между гоббсовским фрирайдером и просто непригодным к сотрудничеству государством для самой страны и для мира в целом.
Книга начинается с неплохого анализа отношения японцев к Лиге до ее образования. Не смотря на начинающиеся с первой главы попытки автора доказать, что Япония-де была искренне предана идее Лиги, уже на этом этапе очевидны конструктивные несовместимости "модернизированной" Японии с ее архаичными взглядами на мир и модернового института Лиги. Тогда же, во время парижской мирной конференции, намечаются основные линии поведения японцев на международной арене - следование интересам Антанты в Европе, тотальная неуступчивость по любым вопросам в Азии, наивное и неверное восприятие Китая не как страны или народа, а как культуры, подчиненной японцам. Тогда же и появляются основные действующие лица - большинство важных японцев в Лиге имели опыт еще на Парижской конференции.
Подобно книге Толлардо, Буркман заостряет внимание на личностях японских дипломатов. Они менее гомогенны в своем социальном происхождении, но вторят друг другу карьерно на все 100% - все они начнут свою работу в МИДе после завершения реставрации Мэйдзи, все они будут связаны с одним и тем же влиятельным политиком.
Завершающие главы работы довольно поверхностно и крайне односторонне описывают процесс исключения Японии из цивилизованных держав (встретивший одобрение и понимание публики). Все время нахождения Японии в Лиге происходило под знаменем борьбы с расизмом (разумеется, направленным исключительно против японской расы, а не китайской или корейской). К финалу власть расовых параноиков достигла предела, выход Японии стал из мечты доброй половины японского МИДа состоявшимся фактом, а практически все японские "интернационалисты" начали активно поддерживать решение мудрейшего о выходе из института, которому они посвятили лучшие 10 лет своей жизни. Книгу стоит прочитать хотя бы для того, чтобы лучше понимать разницу между гоббсовским фрирайдером и просто непригодным к сотрудничеству государством для самой страны и для мира в целом.
Telegram
Kek's reading list
Продолжаем наступление на 30е с книгой Хормач про один из самых неэффективных институтов 30х годов и его взаимодействие с царством разума на земле. Уже с первых страниц поразительная бюрократизация и вытекающая из нее неэффективность Лиги Наций бросается…
Forwarded from НаZпроект
Похоже, что единственным фактором, сдерживавшим Путина от нападения на Ук***ну, была возможная поддержка этого Егором Просвирниным и инсайды Валерия Соловья
Долго думал, что закрывать канал молча было бы глупо, продолжать его вести как обычно я уже не могу, потому вот вам мем на закрытие. Читайте книги дальше, спасибо, что читали еще и меня и держите нос по ветру. Widerstand не нами начался и не на нас закончится. Спасибо @ostroget и @Life_on_Pluto за интересный трип.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 1 month. If it remains inactive in the next 8 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.