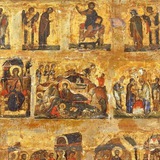Forwarded from Индиктион
Неделя святых Праотец
Все ближе праздник Рождества Христова. К нему относится и память Праотцев, совершаемая сегодня вечером на всенощной и завтра на литургии.
Когда-то этот день назывался «Воскресеньем перед [воскресеньем] Отцов».
Воскресенье Отцов — это воскресенье, непосредственно предшествующее Рождеству, когда вспоминаются предки Христа по плоти и когда на литургии читается родословие Христа из Евангелия. А одним воскресеньем ранее (по-гречески: προ-) была установлена та память, которую мы и отпразднуем сегодня и завтра. Поэтому она и называется так: «праотцов», то есть «προ-отцов».
В этот день вспоминаются все вообще святые из Ветхого Завета, от Адама и до Вавилонских отроков и пророка Даниила, предсказавшего время Рождества Христова. На всенощной этого дня устав устанавливает каноны: воскресный, Вавилонским отрокам и всем ветхозаветным праотцам.
Смысл канона праотцам понятен — в нем прославляются праведники, святые и пророки Ветхого Завета, которые ожидали пришествия Спасителя, пророчествовали о нем, а многие и вовсе оказались прямыми предками Господа Иисуса по плоти.
Но какое значение имеет история Вавилонских отроков в предрождественском богослужении, раз им положен отдельный канон, несмотря на то, что они упоминаются и в каноне праотцам? И почему к ним отсылает и ряд других песнопений сегодняшней службы?
Песнь Вавилонских отроков (Дан 3), воспетая из раскаленной пещи, с древности занимает важное место в христианском богослужении. В частности, она исполняется в конце паремий Великой субботы, непосредственно предшествуя первой Пасхальной литургии, совершаемой по чину свт. Василия Великого. А в ключевом православном гимнографическом жанре — каноне — молитва Азарии и песнь Вавилонских отроков стала основой для его 7-й и 8-й песней.
Чудо с огненной пещью символически указывает как на Рождество Христово (пещь не опалила их, как и Божество не опалило Деву; ангел нисшел к ним, как и Господь нисшел на землю), так и на Воскресение Христово (три отрока, которые должны были неминуемо умереть, указывают на тридневное пребывание Христа во гробе, а пламя пещи — на огонь Воскресения). Вавилон — когда-то главный город древнего Ближнего Востока и, в глазах иудеев, столица мирового зла — стал местом, где было воспето одно из самых священных прославлений Бога: так и сейчас из нашего мира, лежащего во зле (1 Ин 5. 19), мы воспеваем Христа, грядущего родиться в Вифлееме Иудейском.
Неслучайно в один из ближайших дней — совсем близко к Рождеству — будет праздноваться и самостоятельная память пророка Даниила и Вавилонских отроков. А в византийской и древнерусской традиции существовал и такой интересный богослужебный чин, как Пещное действо. Его совершали именно в Неделю праотцев. Посреди храма ставили символическую пещь, туда помещали трех лучших певцов (они символизировали отроков), другие певцы и пономари, одетые в одежды «халдеев», подкладывали под пещь фейерверки — и это прямо в храме!, — исполняли отрывки из Книги Даниила; наконец, из-под потолка церкви в «пещь» спускали на веревке деревянную фигуру ангела, «отроки» пели песнь Вавилонских отроков и так далее.
Концертные исполнения древнерусских и византийских песнопений Пещного действа можно найти в сети.
Все ближе праздник Рождества Христова. К нему относится и память Праотцев, совершаемая сегодня вечером на всенощной и завтра на литургии.
Когда-то этот день назывался «Воскресеньем перед [воскресеньем] Отцов».
Воскресенье Отцов — это воскресенье, непосредственно предшествующее Рождеству, когда вспоминаются предки Христа по плоти и когда на литургии читается родословие Христа из Евангелия. А одним воскресеньем ранее (по-гречески: προ-) была установлена та память, которую мы и отпразднуем сегодня и завтра. Поэтому она и называется так: «праотцов», то есть «προ-отцов».
В этот день вспоминаются все вообще святые из Ветхого Завета, от Адама и до Вавилонских отроков и пророка Даниила, предсказавшего время Рождества Христова. На всенощной этого дня устав устанавливает каноны: воскресный, Вавилонским отрокам и всем ветхозаветным праотцам.
Смысл канона праотцам понятен — в нем прославляются праведники, святые и пророки Ветхого Завета, которые ожидали пришествия Спасителя, пророчествовали о нем, а многие и вовсе оказались прямыми предками Господа Иисуса по плоти.
Но какое значение имеет история Вавилонских отроков в предрождественском богослужении, раз им положен отдельный канон, несмотря на то, что они упоминаются и в каноне праотцам? И почему к ним отсылает и ряд других песнопений сегодняшней службы?
Песнь Вавилонских отроков (Дан 3), воспетая из раскаленной пещи, с древности занимает важное место в христианском богослужении. В частности, она исполняется в конце паремий Великой субботы, непосредственно предшествуя первой Пасхальной литургии, совершаемой по чину свт. Василия Великого. А в ключевом православном гимнографическом жанре — каноне — молитва Азарии и песнь Вавилонских отроков стала основой для его 7-й и 8-й песней.
Чудо с огненной пещью символически указывает как на Рождество Христово (пещь не опалила их, как и Божество не опалило Деву; ангел нисшел к ним, как и Господь нисшел на землю), так и на Воскресение Христово (три отрока, которые должны были неминуемо умереть, указывают на тридневное пребывание Христа во гробе, а пламя пещи — на огонь Воскресения). Вавилон — когда-то главный город древнего Ближнего Востока и, в глазах иудеев, столица мирового зла — стал местом, где было воспето одно из самых священных прославлений Бога: так и сейчас из нашего мира, лежащего во зле (1 Ин 5. 19), мы воспеваем Христа, грядущего родиться в Вифлееме Иудейском.
Неслучайно в один из ближайших дней — совсем близко к Рождеству — будет праздноваться и самостоятельная память пророка Даниила и Вавилонских отроков. А в византийской и древнерусской традиции существовал и такой интересный богослужебный чин, как Пещное действо. Его совершали именно в Неделю праотцев. Посреди храма ставили символическую пещь, туда помещали трех лучших певцов (они символизировали отроков), другие певцы и пономари, одетые в одежды «халдеев», подкладывали под пещь фейерверки — и это прямо в храме!, — исполняли отрывки из Книги Даниила; наконец, из-под потолка церкви в «пещь» спускали на веревке деревянную фигуру ангела, «отроки» пели песнь Вавилонских отроков и так далее.
Концертные исполнения древнерусских и византийских песнопений Пещного действа можно найти в сети.
YouTube
Пещное действо (часть 2)
2017.02.09 Псков. Пушкинский фестиваль Впервые в рамках театрального фестиваля была показана реконструкция "Пещного действа" в Приказной палате Псковского Кремля
Сегодня вечером на «Господи, воззвах» — следующий славник:
И́же пре́жде Зако́на отцы́ вся восхва́лим днесь, ве́рнии:
— Авраа́ма боголю́би́ваго,
— и Исаа́ка, от обеща́ния рожде́ннаго,
— и Иа́кова,
— и двана́десять патриа́рхи.
[А также:]
— Дави́да кротча́йшаго,
— и Дани́ила, жела́ний проро́ка (τὸν ἐπιθυμιῶν Προφήτην),
— и три о́троки с ни́ми сла́вяще, пещь в ро́су преложи́вшия,
прося́ще оставле́ния [грехов] от Христа́ Бо́га, прославля́емаго во святы́х Свои́х.
Из него ясно, о ком предлагается особенно вспомнить в это воскресенье: об Аврааме, Исааке, Иакове и двенадцати сыновьях последнего; о царе Давиде — прообразе Царя-Христа; и о пророке Данииле вместе с тремя вавилонскими отроками. При этом Даннил назван «пророком желаний», это отсылка к следующему фрагменту из его пророчеств:
«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя"» (Дан 9. 21–27).
Здесь архангел Гавриил — тот же, кто затем возвестит Пречистой Деве о Воплощении Сына Божия — называет Даниилу время пришествия Христова.
Это важное пророчество, в службах наступающих дней будет ещё ряд отсылок к нему.
И́же пре́жде Зако́на отцы́ вся восхва́лим днесь, ве́рнии:
— Авраа́ма боголю́би́ваго,
— и Исаа́ка, от обеща́ния рожде́ннаго,
— и Иа́кова,
— и двана́десять патриа́рхи.
[А также:]
— Дави́да кротча́йшаго,
— и Дани́ила, жела́ний проро́ка (τὸν ἐπιθυμιῶν Προφήτην),
— и три о́троки с ни́ми сла́вяще, пещь в ро́су преложи́вшия,
прося́ще оставле́ния [грехов] от Христа́ Бо́га, прославля́емаго во святы́х Свои́х.
Из него ясно, о ком предлагается особенно вспомнить в это воскресенье: об Аврааме, Исааке, Иакове и двенадцати сыновьях последнего; о царе Давиде — прообразе Царя-Христа; и о пророке Данииле вместе с тремя вавилонскими отроками. При этом Даннил назван «пророком желаний», это отсылка к следующему фрагменту из его пророчеств:
«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя"» (Дан 9. 21–27).
Здесь архангел Гавриил — тот же, кто затем возвестит Пречистой Деве о Воплощении Сына Божия — называет Даниилу время пришествия Христова.
Это важное пророчество, в службах наступающих дней будет ещё ряд отсылок к нему.
Впрочем, канон утрени Недели праотцев посвящен всем святым и праведникам Ветхого Завета. Но другой канон уже вновь фокусирует внимание молящихся на фигурах пророка Даниила и Трёх отроков.
В текущем году Неделя праотцев совпала с памятью свт. Спиридона Тримифунтского (= 12 декабря старого стиля; по новому стилю завтра уже и вовсе день Рождества). Это великий святой, любимый многими. Но все же основной акцент предстоящей службы — на подготовке к Рождеству Христову.
Славник на хвалитех:
Приидите вси,
верно торжествуим прежде Закона отец:
— Авраама и сущих с ним летнюю [т.е. ежегодную] память;
— Иудово племя [т.е. потомков старшего сына Иакова, Иуды— царя Давида и иных святых царского рода до Христа] достойно почтим;
— иже в Вавилоне отроки, угасившия пещный пламень, яко Троицы образ с Даниилом восхвалим;
пророческая проречения известно [т.е. уверенно, твердо] держаще, со Исаием велегласно возопиим:
Се Дева во чреве приимет и родит Сына Эммануила, иже есть [т.е. "что переводится как":] С нами Бог.
В текущем году Неделя праотцев совпала с памятью свт. Спиридона Тримифунтского (= 12 декабря старого стиля; по новому стилю завтра уже и вовсе день Рождества). Это великий святой, любимый многими. Но все же основной акцент предстоящей службы — на подготовке к Рождеству Христову.
Славник на хвалитех:
Приидите вси,
верно торжествуим прежде Закона отец:
— Авраама и сущих с ним летнюю [т.е. ежегодную] память;
— Иудово племя [т.е. потомков старшего сына Иакова, Иуды— царя Давида и иных святых царского рода до Христа] достойно почтим;
— иже в Вавилоне отроки, угасившия пещный пламень, яко Троицы образ с Даниилом восхвалим;
пророческая проречения известно [т.е. уверенно, твердо] держаще, со Исаием велегласно возопиим:
Се Дева во чреве приимет и родит Сына Эммануила, иже есть [т.е. "что переводится как":] С нами Бог.
17/30 декабря. Память пророка Даниила и Трёх отроков
17.XII по юлианскому календарю — то есть сегодняшний день, 30 декабря, — в Римской Республике было праздником сатурналий (к концу эпохи Республики празднование продлили до нескольких дней). В этот день, помимо торжественных публичных церемоний, устраивали домашние празднества, на которых всё делали наоборот: хозяева прислуживали рабам, причём и те, и другие одевали шапочки вольноотпущенников, и так далее. Люди дарили друг другу подарки, пили вино и играли в игры. Для римлян, а позднее — и попросту повсюду в Римской Империи — сатурналии сделались самым популярным праздником. Известны они были и иудеям, которые, естественно, дистанцировались от этого языческого торжества (хотя традиции хронологически близкой к нему Хануки во многом схожи), вплоть до того, что некоторые мудрецы объясняли само слово «сатурналии» как искажение еврейской фразы, означающей «скрытая ненависть»: так возникновение праздника возводилось к Исаву, возненавидевшему Иакова (некоторые иудеи считали, что римляне произошли от Исава).
А что в этот день мы находим в византийском церковном календаре? — память пророка Даниила и Трёх Вавилонских отроков. Несомненно, эта память установлена на этот день в прямой связи с сатурналиями, а не потому, что откуда-то кому-то стало известно, что эта дата имела значение для самого пророка Даниила (кстати, в древнем календаре Иерусалимской Церкви, где знали о библейских пророках больше, чем где-либо, памяти Даниила и Вавилонских отроков установлены на совсем другие даты: 15 октября и 25 августа).
По своему составу, служба 17 (30) декабря имеет ряд интересных особенностей. Она строится по чину будничной, однако содержит два канона утрени, что бывает в службах праздничных. У стихир часть богородичнов заменена предрождественскими песнопениями, как в дни важнейших памятей Рождественского поста — таких, как праздники апостола Андрея, святителя Николая, Зачатия праведною Анной Пресвятой Богородицы. Далее, для случая совпадения памяти пророка Даниила с Неделей праотцев Типикон приводит отдельную Маркову главу, завершая ее словами: «Сице поем службу и великаго святаго празднуемаго, аще случится в сию неделю». Иначе говоря, при таком совпадении память пророка не только не отменяется (в отличие от обычных вседневных памятей) — хотя формально является вседневной, — но и даже становится образцом для совершения служб с памятями великих святых. Наконец, тропарь службы пророка Даниила и Трёх отроков служит тропарем Недели отцев, а кондак — кондаком как Недели праотцев, так и Недели отцев.
17.XII по юлианскому календарю — то есть сегодняшний день, 30 декабря, — в Римской Республике было праздником сатурналий (к концу эпохи Республики празднование продлили до нескольких дней). В этот день, помимо торжественных публичных церемоний, устраивали домашние празднества, на которых всё делали наоборот: хозяева прислуживали рабам, причём и те, и другие одевали шапочки вольноотпущенников, и так далее. Люди дарили друг другу подарки, пили вино и играли в игры. Для римлян, а позднее — и попросту повсюду в Римской Империи — сатурналии сделались самым популярным праздником. Известны они были и иудеям, которые, естественно, дистанцировались от этого языческого торжества (хотя традиции хронологически близкой к нему Хануки во многом схожи), вплоть до того, что некоторые мудрецы объясняли само слово «сатурналии» как искажение еврейской фразы, означающей «скрытая ненависть»: так возникновение праздника возводилось к Исаву, возненавидевшему Иакова (некоторые иудеи считали, что римляне произошли от Исава).
А что в этот день мы находим в византийском церковном календаре? — память пророка Даниила и Трёх Вавилонских отроков. Несомненно, эта память установлена на этот день в прямой связи с сатурналиями, а не потому, что откуда-то кому-то стало известно, что эта дата имела значение для самого пророка Даниила (кстати, в древнем календаре Иерусалимской Церкви, где знали о библейских пророках больше, чем где-либо, памяти Даниила и Вавилонских отроков установлены на совсем другие даты: 15 октября и 25 августа).
По своему составу, служба 17 (30) декабря имеет ряд интересных особенностей. Она строится по чину будничной, однако содержит два канона утрени, что бывает в службах праздничных. У стихир часть богородичнов заменена предрождественскими песнопениями, как в дни важнейших памятей Рождественского поста — таких, как праздники апостола Андрея, святителя Николая, Зачатия праведною Анной Пресвятой Богородицы. Далее, для случая совпадения памяти пророка Даниила с Неделей праотцев Типикон приводит отдельную Маркову главу, завершая ее словами: «Сице поем службу и великаго святаго празднуемаго, аще случится в сию неделю». Иначе говоря, при таком совпадении память пророка не только не отменяется (в отличие от обычных вседневных памятей) — хотя формально является вседневной, — но и даже становится образцом для совершения служб с памятями великих святых. Наконец, тропарь службы пророка Даниила и Трёх отроков служит тропарем Недели отцев, а кондак — кондаком как Недели праотцев, так и Недели отцев.
Содержание песнопений службы также выделяет ее из ряда других вседневных служб. Одни пересказывают удивительные пророчества Даниила — естественно, с особым акцентом на те из них, что относятся к Рождеству Христову, — другие прославляют благочестие и дерзновение Трёх отроков или раскрывают, как важнейшие христианские догматы оказались предуказаны в обстоятельствах произошедшего с ними чуда. Многократно в службе затрагивается тема отказа от пищи язычников и необходимости подвига поста. Встречается и такая любопытная мысль: пророк заставил поститься даже неразумных животных — львов, к которым его самого бросили на съедение, — так как они не стали его есть.
Почему же христиане восточной части Римской империи, ромеи, которых мы называем «визнтийцами», установили память пророка Даниила, изображаемого в особой шапочке и загадочно именуемого «мужем желаний», именно на день начала сатурналий?
Во-первых, тема времени и хронологии, составлявшая одну из сторон сатурналий, характерна именно для пророчеств Даниила, предсказавшего время Рождества Христова в пророчестве о «седминах». А во-вторых, где-то с этого дня начинали соблюдать Рождественский пост (вот почему тема поста так подробно представлена в песнопениях службы). Дело в том, что сорокадневный Рождественский пост долгое время оставался сугубо монашеской практикой, тогда как основная масса византийцев постилась перед Рождеством плюс-минус неделю. Возможно, одной из причин тому стали как раз те самые сатурналии: христиане, не желавшие следовать языческим традициям, вместо дурашливых вечеринок сатурналий начинали строгий пост в преддверии Рождества. Иными словами, сегодняшняя память в чём-то аналогична Прощёному воскресенью перед Святой Четыредесятницей.
Как бы то ни было, наступивший день имеет особое значение в системе предрождественских памятей. Он объединяет в себе и Недели праотец и отец, и службу свт. Николая, и, конечно же, предвозвещает само Рождество.
Одна из стихир сегодняшней службы (она же входит в службу Недели отец и первого дня рождественского предпразднства, 20.XII/02.I) гласит:
Приидите вси, Христово Рождество предпразднуем верно,
и мысленне пение, яко звезду, предлагающе,
волхвов славословия с пастырьми возопиим:
«Прииде избавление человеков из девственных ложесн,
верныя призывающее!»
Почему же христиане восточной части Римской империи, ромеи, которых мы называем «визнтийцами», установили память пророка Даниила, изображаемого в особой шапочке и загадочно именуемого «мужем желаний», именно на день начала сатурналий?
Во-первых, тема времени и хронологии, составлявшая одну из сторон сатурналий, характерна именно для пророчеств Даниила, предсказавшего время Рождества Христова в пророчестве о «седминах». А во-вторых, где-то с этого дня начинали соблюдать Рождественский пост (вот почему тема поста так подробно представлена в песнопениях службы). Дело в том, что сорокадневный Рождественский пост долгое время оставался сугубо монашеской практикой, тогда как основная масса византийцев постилась перед Рождеством плюс-минус неделю. Возможно, одной из причин тому стали как раз те самые сатурналии: христиане, не желавшие следовать языческим традициям, вместо дурашливых вечеринок сатурналий начинали строгий пост в преддверии Рождества. Иными словами, сегодняшняя память в чём-то аналогична Прощёному воскресенью перед Святой Четыредесятницей.
Как бы то ни было, наступивший день имеет особое значение в системе предрождественских памятей. Он объединяет в себе и Недели праотец и отец, и службу свт. Николая, и, конечно же, предвозвещает само Рождество.
Одна из стихир сегодняшней службы (она же входит в службу Недели отец и первого дня рождественского предпразднства, 20.XII/02.I) гласит:
Приидите вси, Христово Рождество предпразднуем верно,
и мысленне пение, яко звезду, предлагающе,
волхвов славословия с пастырьми возопиим:
«Прииде избавление человеков из девственных ложесн,
верныя призывающее!»
Царские часы навечерия Рождества Христова составлены по подобию дневной службы Страстной пятницы, возникшей в Иерусалиме в 4 веке. Всю ночь с Великого четверга на пятницу совершалось шествие по местам Страстей Христовых, под утро народ расходился на отдых, чтобы около полудня вновь собраться в главном храме города. Там читались пророчества о страдающем Мессии и евангельские повествования о Страстях. Как пишет паломница конца 4 века Эгерия, во время этих чтений народ плакал так громко, что было слышно за несколько кварталов. Со временем дневная служба Страстной пятницы получила соответствующую гимнографию и была интегрирована в последование обычных часов, которое является для нее просто рамкой. Каждый из 4 часов — 1-й, 3-й, 6-й и 9-й — сохраняет лишь один из своих обычных псалмов, а прочие заменяются псалмами, подходящими по смыслу совершаемого воспоминания; после тропаря и богородична исполняются, причём с повторами, ещё три (всего, на 4 часах, 12 таких песнопений), а затем поется прокимен и читаются ветхозаветное пророчество, отрывок из Апостола и Евангелия.
По аналогии с Великой пятницей, сочельники Рождества Христова и Богоявления ещё два-три века спустя получили такие же службы Царских часов. В отличие от скорбных часов Страстной пятницы, рождественское и крещенское последования Царских часов наполнены в большей степени радостным и хвалебным содержанием.
И все же, скорбный оттенок в них сохраняется. Недаром они установлены на утренние часы сочельников — особо постных дней года, когда нельзя вкушать пищу до вечера, до окончания литургии (а она в сочельники — после вечерни). Более того, в тех случаях, когда день сочельника попадает на субботу или воскресенье, а значит, пост до вечера отменяется и литургия должна совершаться утром, а не после вечерни, Царские часы переносятся на пятницу, и в этом случае такая пятница становится днём без литургии — совсем как Великая.
Возможно, по той же причине среди песнопений Царских часов Рождества есть несколько таких, которые весьма пронзительно подчёркивают такую тему, как сомнения праведного Иосифа Обручника. Об этом — моя прошлогодняя заметка и ее продолжение.
По аналогии с Великой пятницей, сочельники Рождества Христова и Богоявления ещё два-три века спустя получили такие же службы Царских часов. В отличие от скорбных часов Страстной пятницы, рождественское и крещенское последования Царских часов наполнены в большей степени радостным и хвалебным содержанием.
И все же, скорбный оттенок в них сохраняется. Недаром они установлены на утренние часы сочельников — особо постных дней года, когда нельзя вкушать пищу до вечера, до окончания литургии (а она в сочельники — после вечерни). Более того, в тех случаях, когда день сочельника попадает на субботу или воскресенье, а значит, пост до вечера отменяется и литургия должна совершаться утром, а не после вечерни, Царские часы переносятся на пятницу, и в этом случае такая пятница становится днём без литургии — совсем как Великая.
Возможно, по той же причине среди песнопений Царских часов Рождества есть несколько таких, которые весьма пронзительно подчёркивают такую тему, как сомнения праведного Иосифа Обручника. Об этом — моя прошлогодняя заметка и ее продолжение.
Telegram
Индиктион
Сомнения Иосифа
Евангелие говорит о них сухо: «Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену…
Евангелие говорит о них сухо: «Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену…
Ещё прошлогодние материалы —о некоторых стихирах (1, 2) и о канонах праздничной Рождественской службы.
Telegram
Индиктион
Главные песнопения Рождественской службы, IV: стихиры (и больше, чем просто стихиры)
В рождественской службе содержится немало прекрасных стихир. Остановлюсь лишь на двух из них.
Первая — стихира на стиховне вечерни:
Господу Иисусу рождшуся в Вифлееме…
В рождественской службе содержится немало прекрасных стихир. Остановлюсь лишь на двух из них.
Первая — стихира на стиховне вечерни:
Господу Иисусу рождшуся в Вифлееме…
Богоявление Господне — первый великий христианский праздник, который возник не в качестве переосмысления какого-либо ветхозаветного праздника, а сам по себе.
Первоначально он включал в себя сразу много смыслов: и Рождество Христово, и Его Крещение от Иоанна — а значит, и явление Его как Царя-Помазанника и одновременно грядущего на страдания Отрока Божия (ср. слова, прозвучавшие с небес при Крещении, и пророчество Ис 42.1, а также свидетельство Иоанна Предтечи в Ин 1.29 слл.), и откровение Бога как Троицы, и начало проповеди Спасителя, — но также и новое творение (Дух, «носившийся над водами при сотворении мира», теперь почивает, «словно голубь», на выходящем из воды Новом Адаме), и даже брак в Кане Галилейской как «начаток знамений» Христовых (Ин 2. 11).
Наступивший праздник, таким образом, с самого начала своего установления в Церкви раскрывал таинственнейшие глубины богословия — подобно тому, как пророки Илия, Елиссей, Иисус Навин обнажали дно реки Иордан, приказывая ее водам расступиться.
Достаточно быстро от Богоявления отделился праздник Рождества Христова — сохранивший, впрочем, тесную связь с ним: эти праздники не только следуют друг за другом, но и отмечены особым периодом «додекаимерон» («двенадцатидневия», или «святок»), и имеют схожий богослужебный строй. Тем не менее, в песнопениях праздника Богоявления по-прежнему затронуто целое многообразие тем — см. о них эту и следующие за ней по порядку публикации.
Первоначально он включал в себя сразу много смыслов: и Рождество Христово, и Его Крещение от Иоанна — а значит, и явление Его как Царя-Помазанника и одновременно грядущего на страдания Отрока Божия (ср. слова, прозвучавшие с небес при Крещении, и пророчество Ис 42.1, а также свидетельство Иоанна Предтечи в Ин 1.29 слл.), и откровение Бога как Троицы, и начало проповеди Спасителя, — но также и новое творение (Дух, «носившийся над водами при сотворении мира», теперь почивает, «словно голубь», на выходящем из воды Новом Адаме), и даже брак в Кане Галилейской как «начаток знамений» Христовых (Ин 2. 11).
Наступивший праздник, таким образом, с самого начала своего установления в Церкви раскрывал таинственнейшие глубины богословия — подобно тому, как пророки Илия, Елиссей, Иисус Навин обнажали дно реки Иордан, приказывая ее водам расступиться.
Достаточно быстро от Богоявления отделился праздник Рождества Христова — сохранивший, впрочем, тесную связь с ним: эти праздники не только следуют друг за другом, но и отмечены особым периодом «додекаимерон» («двенадцатидневия», или «святок»), и имеют схожий богослужебный строй. Тем не менее, в песнопениях праздника Богоявления по-прежнему затронуто целое многообразие тем — см. о них эту и следующие за ней по порядку публикации.
Telegram
Индиктион
Святое Богоявление. Крещение Господне
Песнопения праздника Богоявления развивают несколько богословских тем.
Песнопения праздника Богоявления развивают несколько богословских тем.
zheltov.pdf
833.1 KB
Особое внимание в этот праздник уделяется освящению воды (хотя, следует повторить, затронутые в праздничных песнопениях и чтениях богословские вопросы — гораздо глобальнее). Достаточно неожиданно оказывается, что это освящение связано, в том числе, и с чудом в Кане Галилейской. Об этой связи, об истории развития чина и смысле его главных молитв, см. в приложенной статье.
В преддверии Святой Четыредесятницы (в литургике это обозначается как
«подготовительный период к Великому посту») церковный устав предписывает совершать несколько не вполне обычных служб. Для того, чтобы разобраться в причинах их появления, следует сначала поговорить о самом посте.
Сколько длится Великий пост? Казалось бы, это нетрудно сосчитать: шесть полных недель (седмиц) и одна — Страстная — без последнего воскресенья, Пасхи; итого 48 дней. Однако такой расчет не соответствует ни древнему пониманию слова «пост», ни самому названию «Четыредесятница», то есть «Сорок [дней]»: 40 ≠ 48.
В раннехристианские времена «постом» называли отнюдь не предпочтение одной пищи другой. «Пост» в современном смысле слова — в смысле воздержания от скоромной, но дозволенности растительной пищи — вообще в ту эпоху и не был бы «подвигом». В первоначальной Церкви достаточно многие христиане в принципе не ели мяса, так что апостолу Павлу даже понадобилось давать специальные разъяснения о допустимости вкушать мясо, а позднее на соборах даже пришлось (причём неоднократно) принимать каноны, запрещающие «гнушение мясом». Да и вообще, обычной ежедневной пищей рядовых жителей Римской империи был просто-напросто хлеб, так что никакого различия между «постным» (в современном смысле слова) и непостным днём они бы просто не заметили.
Поэтому в ранней Церкви понятие «пост» подразумевало не диету без продуктов животного происхождения, а полное воздержание от пищи как таковой — проще говоря, голодовку. Кстати, такой пост у нас вполне сохранился и сейчас — как пост перед Причащением Святых Таин.
Пост в смысле воздержания от пищи до самого вечера в ранней Церкви был установлен на среды и пятницы, а также на день иудейской Пасхи, поскольку в тот день распяли Христа. С повсеместным распространением обычая праздновать христианскую Пасху строго в воскресный день и понимать ее как праздник Воскресения Христова, пост во время иудейского праздника перешёл на Великую субботу (как символ иудейского Песаха перед христианской Пасхой), а чуть позднее — ещё и на Великую пятницу, как на день Распятия, то есть стал двухдневным.
К концу III века некоторые благочестивые христиане ещё более увеличили этот предпасхальный пост — до четырех-пяти дней, затем и до целых сорока. В сорока днях голодания они видели подражание законодавцу Моисею, пророку Илии, а главное — Господу Иисусу Христу, поскольку в Священном Писании о каждом из них сказано, что они постились (в первоначальном смысле слова, т. е. ничего не ели!) по сорок дней.
Возможно, на такое удлинение поста повлияло ещё и появление в Александрийской Церкви, а затем — широкое распространение по всему христианскому Востоку, праздника Богоявления: ведь Господь постился сорок дней как раз после своего Крещения. Во всяком случае, сорокадневный пост зафиксирован впервые именно у христиан Египта.
Конечно, на подвиг полного воздержания от пищи в течение 40 дней мало кто был способен, хотя люди в ту эпоху и были гораздо привычнее к голоданию, чем наши современники. Вместо этого пост исполнялся отрезками: несколько дней голодовки, затем вкушение пищи — и снова голодовка; либо же на протяжении сорока дней пищу принимали лишь вечером. Также отмечалась некоторая амбивалентность в отношении собственно предпасхального поста Великих пятницы и субботы (либо их расширенной версии, начинающейся с Великого вторника): считать его частью сорокадневия или нет?
Только теперь, с учётом всех этих данных, и можно ответить на вопрос, сколько длится Великий пост по мысли составителей церковного устава и зачем он имеет подготовительный период. Об этом — в следующей заметке.
«подготовительный период к Великому посту») церковный устав предписывает совершать несколько не вполне обычных служб. Для того, чтобы разобраться в причинах их появления, следует сначала поговорить о самом посте.
Сколько длится Великий пост? Казалось бы, это нетрудно сосчитать: шесть полных недель (седмиц) и одна — Страстная — без последнего воскресенья, Пасхи; итого 48 дней. Однако такой расчет не соответствует ни древнему пониманию слова «пост», ни самому названию «Четыредесятница», то есть «Сорок [дней]»: 40 ≠ 48.
В раннехристианские времена «постом» называли отнюдь не предпочтение одной пищи другой. «Пост» в современном смысле слова — в смысле воздержания от скоромной, но дозволенности растительной пищи — вообще в ту эпоху и не был бы «подвигом». В первоначальной Церкви достаточно многие христиане в принципе не ели мяса, так что апостолу Павлу даже понадобилось давать специальные разъяснения о допустимости вкушать мясо, а позднее на соборах даже пришлось (причём неоднократно) принимать каноны, запрещающие «гнушение мясом». Да и вообще, обычной ежедневной пищей рядовых жителей Римской империи был просто-напросто хлеб, так что никакого различия между «постным» (в современном смысле слова) и непостным днём они бы просто не заметили.
Поэтому в ранней Церкви понятие «пост» подразумевало не диету без продуктов животного происхождения, а полное воздержание от пищи как таковой — проще говоря, голодовку. Кстати, такой пост у нас вполне сохранился и сейчас — как пост перед Причащением Святых Таин.
Пост в смысле воздержания от пищи до самого вечера в ранней Церкви был установлен на среды и пятницы, а также на день иудейской Пасхи, поскольку в тот день распяли Христа. С повсеместным распространением обычая праздновать христианскую Пасху строго в воскресный день и понимать ее как праздник Воскресения Христова, пост во время иудейского праздника перешёл на Великую субботу (как символ иудейского Песаха перед христианской Пасхой), а чуть позднее — ещё и на Великую пятницу, как на день Распятия, то есть стал двухдневным.
К концу III века некоторые благочестивые христиане ещё более увеличили этот предпасхальный пост — до четырех-пяти дней, затем и до целых сорока. В сорока днях голодания они видели подражание законодавцу Моисею, пророку Илии, а главное — Господу Иисусу Христу, поскольку в Священном Писании о каждом из них сказано, что они постились (в первоначальном смысле слова, т. е. ничего не ели!) по сорок дней.
Возможно, на такое удлинение поста повлияло ещё и появление в Александрийской Церкви, а затем — широкое распространение по всему христианскому Востоку, праздника Богоявления: ведь Господь постился сорок дней как раз после своего Крещения. Во всяком случае, сорокадневный пост зафиксирован впервые именно у христиан Египта.
Конечно, на подвиг полного воздержания от пищи в течение 40 дней мало кто был способен, хотя люди в ту эпоху и были гораздо привычнее к голоданию, чем наши современники. Вместо этого пост исполнялся отрезками: несколько дней голодовки, затем вкушение пищи — и снова голодовка; либо же на протяжении сорока дней пищу принимали лишь вечером. Также отмечалась некоторая амбивалентность в отношении собственно предпасхального поста Великих пятницы и субботы (либо их расширенной версии, начинающейся с Великого вторника): считать его частью сорокадневия или нет?
Только теперь, с учётом всех этих данных, и можно ответить на вопрос, сколько длится Великий пост по мысли составителей церковного устава и зачем он имеет подготовительный период. Об этом — в следующей заметке.
Наиболее заметным фактором, определявшим выбор того иного способа исчисления дней Четыредесятницы, было отношение к субботе. В Римской и Александрийской Церквах считали возможным держать пост в том числе и по субботам, то есть не запрещали голодать до вечера в этот день — а значит, не служить по субботам с утра полную литургию.
В Антиохийской и, следом за ней, в Иерусалимской и Константинопольской Церквах поститься — в древнем смысле этого слова — в субботу считали неправильным, а сам день, подобно воскресенью, отмечали обязательным совершением литургии в утреннее время (на такое отношение к субботе, возможно, повлияла большая близость антиохийских христиан к традициям семитского мира, а также известная склонность антиохийцев к более буквальному прочтению Ветхого Завета).
Об обязательной литургии не только по воскресеньям, но и по субботам говорит памятник, составленный в Антиохии около 380 года и известный как «Апостольские постановления»: «Особенно же прилежно собирайтесь [в церкви] в день субботний и в день Воскресения Господа… когда бывают чтения пророков и проповедь Евангелия и приношение Жертвы…» (II. 59).
В приложении к «Апостольским постановлениям» помещены Апостольские правила, 64-е из которых гласит: «Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, или в субботу, кроме единыя только [Великия субботы]: да будет извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен». Некоторые, обнаружив это правило, начинают смущаться тем фактом, что в периоды длинных постов мы постимся в том числе и по субботам и воскресеньям. Однако смущение происходит от смешения двух понятий «пост»: позднейшего (= воздержание от скоромной пищи) и древнейшего (= воздержание от пищи вообще: либо полное, либо до наступления вечера).
Таким образом, в тех Церквах, где считали возможным соблюдать пост, в древнем смысле этого слова, по субботам, продолжительность Четыредесятницы измерялась следующим образом: «6 умножить на 7 [где 6: число постных дней в неделях, исключая воскресенья, а 7 — число недель] и вычесть 2». Минус два — чтобы получилось не 42, а ровно 40. Тогда Четыредесятница должна начинаться в среду — и так и происходило на латинском Западе, где днем начала Великого поста считали Пепельную среду.
На Востоке, однако, повсеместно победила традиция Антиохии. Но тогда 6 недель Великого поста вместе с 7-й, Страстной, дают в сумме только 7x5 + 1 = 36 дней (по 5 дней, с понедельника по пятницу, на каждой из 7 недель + Великая суббота, когда литургию служили вечером). Поэтому для достижения символического числа 40 необходимо было как-то дополнить количество дней поста. Это вело к установлению подготовительных постов перед Великим.
Например, в Иерусалиме в конце IV века, согласно «Паломничеству» Эгерии, число недель поста увеличивали еще на одну: «Как у нас [на латинском Западе] перед Пасхой соблюдается Четыредесятница, так здесь перед Пасхою соблюдаются восемь недель. И потому соблюдаются восемь недель, что в дни воскресения и в субботу не постятся, за исключением одного субботнего дня, в который бывает пасхальное бдение [= литургия Великой субботы вечером в этот день], и в который необходимо поститься, потому что, помимо этого дня, здесь, в течение всего года, никогда не бывает поста в субботу. И так, из восьми недель, за вычетом восьми воскресений и семи суббот (потому что в одну субботу необходимо поститься, как я сказала выше), остается сорок один день, проводимый в посте» (§27).
В Антиохийской и, следом за ней, в Иерусалимской и Константинопольской Церквах поститься — в древнем смысле этого слова — в субботу считали неправильным, а сам день, подобно воскресенью, отмечали обязательным совершением литургии в утреннее время (на такое отношение к субботе, возможно, повлияла большая близость антиохийских христиан к традициям семитского мира, а также известная склонность антиохийцев к более буквальному прочтению Ветхого Завета).
Об обязательной литургии не только по воскресеньям, но и по субботам говорит памятник, составленный в Антиохии около 380 года и известный как «Апостольские постановления»: «Особенно же прилежно собирайтесь [в церкви] в день субботний и в день Воскресения Господа… когда бывают чтения пророков и проповедь Евангелия и приношение Жертвы…» (II. 59).
В приложении к «Апостольским постановлениям» помещены Апостольские правила, 64-е из которых гласит: «Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, или в субботу, кроме единыя только [Великия субботы]: да будет извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен». Некоторые, обнаружив это правило, начинают смущаться тем фактом, что в периоды длинных постов мы постимся в том числе и по субботам и воскресеньям. Однако смущение происходит от смешения двух понятий «пост»: позднейшего (= воздержание от скоромной пищи) и древнейшего (= воздержание от пищи вообще: либо полное, либо до наступления вечера).
Таким образом, в тех Церквах, где считали возможным соблюдать пост, в древнем смысле этого слова, по субботам, продолжительность Четыредесятницы измерялась следующим образом: «6 умножить на 7 [где 6: число постных дней в неделях, исключая воскресенья, а 7 — число недель] и вычесть 2». Минус два — чтобы получилось не 42, а ровно 40. Тогда Четыредесятница должна начинаться в среду — и так и происходило на латинском Западе, где днем начала Великого поста считали Пепельную среду.
На Востоке, однако, повсеместно победила традиция Антиохии. Но тогда 6 недель Великого поста вместе с 7-й, Страстной, дают в сумме только 7x5 + 1 = 36 дней (по 5 дней, с понедельника по пятницу, на каждой из 7 недель + Великая суббота, когда литургию служили вечером). Поэтому для достижения символического числа 40 необходимо было как-то дополнить количество дней поста. Это вело к установлению подготовительных постов перед Великим.
Например, в Иерусалиме в конце IV века, согласно «Паломничеству» Эгерии, число недель поста увеличивали еще на одну: «Как у нас [на латинском Западе] перед Пасхой соблюдается Четыредесятница, так здесь перед Пасхою соблюдаются восемь недель. И потому соблюдаются восемь недель, что в дни воскресения и в субботу не постятся, за исключением одного субботнего дня, в который бывает пасхальное бдение [= литургия Великой субботы вечером в этот день], и в который необходимо поститься, потому что, помимо этого дня, здесь, в течение всего года, никогда не бывает поста в субботу. И так, из восьми недель, за вычетом восьми воскресений и семи суббот (потому что в одну субботу необходимо поститься, как я сказала выше), остается сорок один день, проводимый в посте» (§27).
Эгерия подчеркивает и особый статус литургий в великопостные субботы: «По субботам литургия совершается раньше [обычного], то есть до [восхода] солнца. Так бывает ради того, чтобы скорее дать разрешение тем, которых здесь зовут евдомадариями («седмичниками»). Таков [здесь] обычай поста в Четыредесятницу, что те, которых зовут евдомадариями, то есть которые постятся всю неделю, вкушают пищу в воскресный день, так как литургия бывает в пятом часу. И после того, как они вкусят в воскресный день, они уже [ничего] не едят до тех пор, пока в субботу утром не приобщатся [Святых Таин] в [храме] Воскресения. И так, ради них, для скорейшего разрешения [их поста], литургия по субботам в Воскресении совершается до [восхода] солнца».
В других местностях Востока предварительный пост устанавливался не прямо перед Великим, а за две-три недели до него. Так было, в том числе, в армянской традиции, где данный пост так и назывался: Առաջավորաց, «Предварительный». Транскрипция этого слова звучит как «Арачаворац», но грекоязычные византийцы, которые не умели выговаривать звук «ч», прочли это слово как «Арцивуриу» (Арцивуриев) и потому выдумали даже теорию о некоем еретике по имени Арцивурий, который, якобы, этот пост и установил. Именно на этом основании после Недели о мытаре и фарисее византийские уставы предписывают отменять пост — лишь бы не оказаться заодно с означенным еретиком.
Вместо этого византийцы, с одной стороны, восприняли дополнительную неделю перед Великим постом, как в Иерусалиме — потому-то на Сырной седмице и не положено уже вкушение мяса. Однако, с другой стороны, они смягчили ее, оставив в ней по-настоящему постными только среду и пятницу. [ПРИМЕЧАНИЕ: по уставу, в Сырные среду и пятницу пищу полагается вкушать только вечером — как и в будние дни Великого поста. И хотя в эти дни, тем не менее, устав не возбраняет есть яйца и молочное, Божественная литургия в Сырные среду и пятницу тоже не совершается]. Но 36 дней (см. выше) + 2 дня Сырной седмицы — это только 38, а нужно получить 40. Византийцы решали этот вопрос так: к дням Четыредесятницы приплюсовывали посты в сочельники Рождества Христова и Крещения, тогда действительно получается 40.
В других местностях Востока предварительный пост устанавливался не прямо перед Великим, а за две-три недели до него. Так было, в том числе, в армянской традиции, где данный пост так и назывался: Առաջավորաց, «Предварительный». Транскрипция этого слова звучит как «Арачаворац», но грекоязычные византийцы, которые не умели выговаривать звук «ч», прочли это слово как «Арцивуриу» (Арцивуриев) и потому выдумали даже теорию о некоем еретике по имени Арцивурий, который, якобы, этот пост и установил. Именно на этом основании после Недели о мытаре и фарисее византийские уставы предписывают отменять пост — лишь бы не оказаться заодно с означенным еретиком.
Вместо этого византийцы, с одной стороны, восприняли дополнительную неделю перед Великим постом, как в Иерусалиме — потому-то на Сырной седмице и не положено уже вкушение мяса. Однако, с другой стороны, они смягчили ее, оставив в ней по-настоящему постными только среду и пятницу. [ПРИМЕЧАНИЕ: по уставу, в Сырные среду и пятницу пищу полагается вкушать только вечером — как и в будние дни Великого поста. И хотя в эти дни, тем не менее, устав не возбраняет есть яйца и молочное, Божественная литургия в Сырные среду и пятницу тоже не совершается]. Но 36 дней (см. выше) + 2 дня Сырной седмицы — это только 38, а нужно получить 40. Византийцы решали этот вопрос так: к дням Четыредесятницы приплюсовывали посты в сочельники Рождества Христова и Крещения, тогда действительно получается 40.
Все приведенные выше рассуждения были актуальны для эпохи Вселенских Соборов, когда пост еще понимался как воздержание от пищи до вечера. Но уже к концу I тысячелетия по Р.Х. в православном мире понятие поста сместилось, скорее, в пользу позднейшего толкования: как воздержание от скоромной пищи при дозволенности растительной.
Монастырские уставы, конечно, сохраняли указания о посте до вечера в Сырные среду и пятницу, в будние дни поста, в два сочельника, равно как и предписания о полном воздержании от пищи в первые понедельник и вторник Великого поста, а также в Великую пятницу и Великую субботу (до окончания литургии Великой субботы). В Типиконе эти предписания содержатся, собственно, до сих пор. Но, хотя традиция держать «триимерон» — то есть ничего не есть после ужина в Прощеное воскресение и до первой Преждеосвященной литургии в среду, — и сохраняется доныне на Афоне и у благочестивых греков, все же по большому счету пост в древнем смысле этого слова дошел до наших дней только в форме евхаристического.
Со смещением понятия «пост» от голодания к диетическим ограничениям поменялось и осмысление границ Великой Четыредесятницы. Как известно, в пятницу перед Лазаревой субботой на вечерне поются два самогласна, начинающиеся со слов «Душеполезную совершивше Четыредесятницу…». Они уже подразумевают «диетическое» понимание поста, поскольку если считать, что Четыредесятница длится до пятницы 6-й седмицы включительно, то она равна 6 неделям без двух последних дней — Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (7×6 — 2 = 40), — а это значит, что в счет идут и субботы, и даже воскресенья. Впрочем, такая интерпретация обладает своей собственной —и большой — ценностью: она подчеркивает значимость Страстной седмицы как совершенно особого периода церковного года, не тождественного Великому посту, имеющего уникальный устав и наполненного важнейшими библейскими чтениями и прекрасными песнопениями.
Однако устав служб первых трех дней Страстной седмицы все-таки не слишком отличается от обычного великопостного. Возможно, поэтому по окончании часов и изобразительных в Великую среду священник должен произнести слова прощения в особой форме: «Благословите отцы святии, и простите ми грешному, яже согреших во всей жизни моей, и во всей святей Четыредесятнице, словом, делом, помышлением, и всеми моими чувствы». Это — еще одна граница Великой Четыредесятницы, проведенная составителями богослужебных книг. Как исчислить число из 40 дней поста при такой границе, каждый может придумать сам (например, так: 2 дня Сырной седмицы + по 6 дней на 6 седмицах поста [по-александрийски], кроме Лазаревой субботы, + 3 дня Страстной — а можно и как-то иначе).
Монастырские уставы, конечно, сохраняли указания о посте до вечера в Сырные среду и пятницу, в будние дни поста, в два сочельника, равно как и предписания о полном воздержании от пищи в первые понедельник и вторник Великого поста, а также в Великую пятницу и Великую субботу (до окончания литургии Великой субботы). В Типиконе эти предписания содержатся, собственно, до сих пор. Но, хотя традиция держать «триимерон» — то есть ничего не есть после ужина в Прощеное воскресение и до первой Преждеосвященной литургии в среду, — и сохраняется доныне на Афоне и у благочестивых греков, все же по большому счету пост в древнем смысле этого слова дошел до наших дней только в форме евхаристического.
Со смещением понятия «пост» от голодания к диетическим ограничениям поменялось и осмысление границ Великой Четыредесятницы. Как известно, в пятницу перед Лазаревой субботой на вечерне поются два самогласна, начинающиеся со слов «Душеполезную совершивше Четыредесятницу…». Они уже подразумевают «диетическое» понимание поста, поскольку если считать, что Четыредесятница длится до пятницы 6-й седмицы включительно, то она равна 6 неделям без двух последних дней — Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (7×6 — 2 = 40), — а это значит, что в счет идут и субботы, и даже воскресенья. Впрочем, такая интерпретация обладает своей собственной —и большой — ценностью: она подчеркивает значимость Страстной седмицы как совершенно особого периода церковного года, не тождественного Великому посту, имеющего уникальный устав и наполненного важнейшими библейскими чтениями и прекрасными песнопениями.
Однако устав служб первых трех дней Страстной седмицы все-таки не слишком отличается от обычного великопостного. Возможно, поэтому по окончании часов и изобразительных в Великую среду священник должен произнести слова прощения в особой форме: «Благословите отцы святии, и простите ми грешному, яже согреших во всей жизни моей, и во всей святей Четыредесятнице, словом, делом, помышлением, и всеми моими чувствы». Это — еще одна граница Великой Четыредесятницы, проведенная составителями богослужебных книг. Как исчислить число из 40 дней поста при такой границе, каждый может придумать сам (например, так: 2 дня Сырной седмицы + по 6 дней на 6 седмицах поста [по-александрийски], кроме Лазаревой субботы, + 3 дня Страстной — а можно и как-то иначе).
Сретение Господне
1. Библейские чтения праздника
История Сретения описана только в Евангелии от Луки, на утрене праздника читается отрывок из нее (Лк 2. 25–32); на литургии — вся она целиком (Лк 2. 22–40). Разумеется, существует множество комментариев на этот отрывок — как святоотеческих, так и научных. Из последних я нахожу полезным комментарий Фицмайера, который помещу ниже. А из святоотеческих хотел бы обратить внимание на слово святителя Кирилла Иерусалимского — древнейшую из сохранившихся проповедей на праздник Сретения Господня. Она произнесена в последней четверти IV века в Иерусалиме; ее русский перевод можно прочесть здесь. Исследователи XIX века высказывали сомнения в датировке и атрибуции этой проповеди, однако она все же подлинная. Более того, именно свт. Кирилл Иерусалимский, по всей видимости, первым и установил празднование Сретения как таковое.
В этой проповеди, между прочим, впервые встречаются слова «приносящий и приносимый» применительно ко Христу как Первосвященнику — слова, которые позднее войдут в одну из молитв Божественной литургии и окажут важное влияние на развитие православного богословия.
Апостольское чтение литургии (Евр 7. 7–17) выбрано так, чтобы подчеркнуть именно этот аспект Сретения: перемену священства и Первосвященство Христа. Симеон произносит в Иерусалимском храме благословение, взяв Богомладенца на руки, но в действительности Симеон с Анной, олицетворяющие всех праведников Ветхого Завета, не преподают, а принимают благословение от Христа, как Первосвященника — «Иерея по чину Мелхиседекову».
1. Библейские чтения праздника
История Сретения описана только в Евангелии от Луки, на утрене праздника читается отрывок из нее (Лк 2. 25–32); на литургии — вся она целиком (Лк 2. 22–40). Разумеется, существует множество комментариев на этот отрывок — как святоотеческих, так и научных. Из последних я нахожу полезным комментарий Фицмайера, который помещу ниже. А из святоотеческих хотел бы обратить внимание на слово святителя Кирилла Иерусалимского — древнейшую из сохранившихся проповедей на праздник Сретения Господня. Она произнесена в последней четверти IV века в Иерусалиме; ее русский перевод можно прочесть здесь. Исследователи XIX века высказывали сомнения в датировке и атрибуции этой проповеди, однако она все же подлинная. Более того, именно свт. Кирилл Иерусалимский, по всей видимости, первым и установил празднование Сретения как таковое.
В этой проповеди, между прочим, впервые встречаются слова «приносящий и приносимый» применительно ко Христу как Первосвященнику — слова, которые позднее войдут в одну из молитв Божественной литургии и окажут важное влияние на развитие православного богословия.
Апостольское чтение литургии (Евр 7. 7–17) выбрано так, чтобы подчеркнуть именно этот аспект Сретения: перемену священства и Первосвященство Христа. Симеон произносит в Иерусалимском храме благословение, взяв Богомладенца на руки, но в действительности Симеон с Анной, олицетворяющие всех праведников Ветхого Завета, не преподают, а принимают благословение от Христа, как Первосвященника — «Иерея по чину Мелхиседекову».
В свою очередь, паремии на вечерне раскрывают другие аспекты истории Сретения.
Первая паремия, составленная из нескольких отрывков из Пятикнижия, объясняет, почему вообще понадобилось приносить Младенца Иисуса на 40-й день в Иерусалимский храм: такова была заповедь — посвящать Богу первенца мужского пола, в память о ветхозаветной Пасхе. Символично, что вскоре после Сретения и мы сами начнем готовиться к нашей, христианской, Пасхе.
II. Вторая паремия — это знаменитое видение пророка Исаии (в котором ему была открыта небесная песнь: «Свят. Свят. Свят») : «Было в тот год, когда умер Озия царь: увидел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и полон был дом славы Его. И Серафимы стояли вокруг Него: шесть крыл у одного и шесть крыл у другого; и двумя закрывали они лица свои, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они один к другому и говорили: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Полна вся земля славы Его!" И поднялась перекладина дверей от гласа их восклицаний, и дом наполнился дымом. И сказал я: "О я, несчастный, ибо я сокрушен! Потому что я – человек, и нечистые уста имею; и среди народа, имеющего нечистые уста, живу, – и Царя, Господа Саваофа увидели глаза мои!" И послан был ко мне один из Серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся он уст моих и сказал: "Вот, это коснулось губ твоих, и удалит беззаконие твоё, и грехи твои очистит"»...
Кстати, уголек, о котором говорится в этом отрывке, в святоотеческой традиции понимается как намек на Святое Причащение. И лжицу, при помощи которой оно подается, греки называют не "ложечкой", а словом λαβίς, что переводится как «клещи». Преподав Святое Причащение, священник говорит причащавшимся: «Вот, это коснулось губ ваших, и удалит беззакония ваши, и грехи ваши очистит» — это прямая цитата из рассматриваемого отрывка. На Сретение же он читается для контраста: глядя на внешнюю картину — как в Иерусалимский храм принесли маленького Ребенка, — духовными очами мы созерцаем величие Восседающего в Своем Небесном храме.
III. Третья паремия — тоже из пророка Исаии: «Вот, Господь восседает на облаке легком и придет в Египет...». Она намекает на то, что произошло после Сретения: в Иерусалим явились волхвы, Ирод узнал о Младенце и прав. Иосифу с Пресвятой Девой и Ее Божественным Чадом пришлось бежать в Египет.
Первая паремия, составленная из нескольких отрывков из Пятикнижия, объясняет, почему вообще понадобилось приносить Младенца Иисуса на 40-й день в Иерусалимский храм: такова была заповедь — посвящать Богу первенца мужского пола, в память о ветхозаветной Пасхе. Символично, что вскоре после Сретения и мы сами начнем готовиться к нашей, христианской, Пасхе.
II. Вторая паремия — это знаменитое видение пророка Исаии (в котором ему была открыта небесная песнь: «Свят. Свят. Свят») : «Было в тот год, когда умер Озия царь: увидел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и полон был дом славы Его. И Серафимы стояли вокруг Него: шесть крыл у одного и шесть крыл у другого; и двумя закрывали они лица свои, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они один к другому и говорили: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Полна вся земля славы Его!" И поднялась перекладина дверей от гласа их восклицаний, и дом наполнился дымом. И сказал я: "О я, несчастный, ибо я сокрушен! Потому что я – человек, и нечистые уста имею; и среди народа, имеющего нечистые уста, живу, – и Царя, Господа Саваофа увидели глаза мои!" И послан был ко мне один из Серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся он уст моих и сказал: "Вот, это коснулось губ твоих, и удалит беззаконие твоё, и грехи твои очистит"»...
Кстати, уголек, о котором говорится в этом отрывке, в святоотеческой традиции понимается как намек на Святое Причащение. И лжицу, при помощи которой оно подается, греки называют не "ложечкой", а словом λαβίς, что переводится как «клещи». Преподав Святое Причащение, священник говорит причащавшимся: «Вот, это коснулось губ ваших, и удалит беззакония ваши, и грехи ваши очистит» — это прямая цитата из рассматриваемого отрывка. На Сретение же он читается для контраста: глядя на внешнюю картину — как в Иерусалимский храм принесли маленького Ребенка, — духовными очами мы созерцаем величие Восседающего в Своем Небесном храме.
III. Третья паремия — тоже из пророка Исаии: «Вот, Господь восседает на облаке легком и придет в Египет...». Она намекает на то, что произошло после Сретения: в Иерусалим явились волхвы, Ирод узнал о Младенце и прав. Иосифу с Пресвятой Девой и Ее Божественным Чадом пришлось бежать в Египет.
2. Тропарь Сретению Господню адресован Пречистой Деве Марии и праведному Симеону Богоприимцу. Это необычно — главное песнопение праздника в честь события из земной жизни Господа Иисуса Христа обращено не к Нему, а к Божией Матери и Симеону (а в древней традиции Иерусалима соответствующий ему гимн был и вовсе обращено только к Симеону).
Текст тропаря:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,
из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших,
дарующаго нам воскресение.
Перевод:
Радуйся, Благодатная [= отсылка к событию Благовещения] Дева Богородица!
— ведь из Тебя возсияло Солнце праведности [= отсылка к тропарю Рождества Христова] — Христос Бог наш, —
освещающее находящихся во тьме.
Возвеселись и ты, праведный старец,
приняв во объятия Того, Кто освобождает наши души,
дарует же нам и [есть в греческом, в славянском пропущено] Воскресение.
Текст тропаря:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,
из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших,
дарующаго нам воскресение.
Перевод:
Радуйся, Благодатная [= отсылка к событию Благовещения] Дева Богородица!
— ведь из Тебя возсияло Солнце праведности [= отсылка к тропарю Рождества Христова] — Христос Бог наш, —
освещающее находящихся во тьме.
Возвеселись и ты, праведный старец,
приняв во объятия Того, Кто освобождает наши души,
дарует же нам и [есть в греческом, в славянском пропущено] Воскресение.
3. Кондак Сретению Господню, как и ряд других древних кондаков — не то, за что он себя выдает. Древние кондаки представляли собой длинные гимны из многих строф, а наш нынешний «кондак» — это всего лишь затравка, маленькая вступительная распевка к полному многострофному кондаку.
В современных богослужебных книгах от древних кондаков, как правило, сохранилась только первая из длинного ряда строф подлинного кондака. Она называется «икос», так как, вообще-то, все эти строфы назывались «икосами» (икос в переводе значит «дом», а в сирийской поэзии, откуда и происходит жанр кондаков, словом ܒܝܬܐ обозначали и «дом», и поэтическую «строфу»).
Конкретно кондак Сретению замечателен тем, что его основной объем занимает молитва праведного Симеона — придуманная, конечно, автором кондака (а им был прп. Роман Сладкопевец), — но от этого не менее интересная, глубокая и красивая.
В этой молитве Симеон представлен мудрым духоносным старцем, каким он, собственно, и был. А в конце молитвы ему отвечает Сам Христос, словами: «Ныне отпущаю...» — то есть евангельское «Ныне отпущаеши» вложено в уста Богомладенца. Весьма неожиданный поворот, и очень изящный текст — как и всегда у прп. Романа.
С переводом полного кондака можно познакомиться здесь.
Вступительная же его строфа — то есть текст, который мы и называем сейчас «кондаком» в позднем смысле этого слова, — прп. Роману не принадлежит.
Текст:
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим,
и руце Симеоне благословивый,
якоже подобаше, предварив,
и ныне спасл еси нас, Христе Боже.
Но умири во бранех жительство,
и укрепи люди [в оригинале: царя/императора, замена его на «людей» — правка советского времени],
ихже [в оригинале: егоже] возлюбил еси,
едине Человеколюбче.
Перевод:
О, освятивший утробу Девы Твоим рождением [от Нее]
и благословивший руки Симеона, как [и] следовало [сделать]!
— Ты [тогда] предвосхитил то, что спас нас ныне.
Подай же среди войн мир нашему государству,
и утверди державулюдей императора,
которого Ты возлюбил, о Единственный, Кто человеколюбив.
В современных богослужебных книгах от древних кондаков, как правило, сохранилась только первая из длинного ряда строф подлинного кондака. Она называется «икос», так как, вообще-то, все эти строфы назывались «икосами» (икос в переводе значит «дом», а в сирийской поэзии, откуда и происходит жанр кондаков, словом ܒܝܬܐ обозначали и «дом», и поэтическую «строфу»).
Конкретно кондак Сретению замечателен тем, что его основной объем занимает молитва праведного Симеона — придуманная, конечно, автором кондака (а им был прп. Роман Сладкопевец), — но от этого не менее интересная, глубокая и красивая.
В этой молитве Симеон представлен мудрым духоносным старцем, каким он, собственно, и был. А в конце молитвы ему отвечает Сам Христос, словами: «Ныне отпущаю...» — то есть евангельское «Ныне отпущаеши» вложено в уста Богомладенца. Весьма неожиданный поворот, и очень изящный текст — как и всегда у прп. Романа.
С переводом полного кондака можно познакомиться здесь.
Вступительная же его строфа — то есть текст, который мы и называем сейчас «кондаком» в позднем смысле этого слова, — прп. Роману не принадлежит.
Текст:
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим,
и руце Симеоне благословивый,
якоже подобаше, предварив,
и ныне спасл еси нас, Христе Боже.
Но умири во бранех жительство,
и укрепи люди [в оригинале: царя/императора, замена его на «людей» — правка советского времени],
ихже [в оригинале: егоже] возлюбил еси,
едине Человеколюбче.
Перевод:
О, освятивший утробу Девы Твоим рождением [от Нее]
и благословивший руки Симеона, как [и] следовало [сделать]!
— Ты [тогда] предвосхитил то, что спас нас ныне.
Подай же среди войн мир нашему государству,
и утверди державу
которого Ты возлюбил, о Единственный, Кто человеколюбив.
azbyka.ru
Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни - диакон С. Цветков - читать, скачать
Труд «Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни». Большинство произведений библиотеки можно скачать в форматах EPUB, PDF.