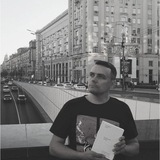(начало ⬆ выше ⬆)
Не бояться "элитарности", "непонятности", "сложности" литературы, одновременно не пренебрегать жанровой, "массовой" литературой, фантастикой и комиксами, мюзиклами и фильмами категории "Б"... (Знать бы, из какого сора вырастает значительная серьёзная литература). Научиться быть свободным любить то, что тебя увлекает, и в то же время покушаться на таких авторов, которые кажутся тебе недосягаемыми. Об этом пишет писатель и эссеист Алексей Поляринов, тот самый переводчик той самой "самой сложной" книги — двухкилограммового (буквально) романа Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка».
📚«Почти два килограмма слов»* (Издательство Individuum, 2019) — это двадцать девять эссе о писателях и сценаристах + две личные заметки: о пути читателя Алексея Поляринова и "Манифест читателя (вместо послесловия)"
____
* о Пинчоне, Барнсе, Гибсоне, Кинге, Уоллесе, Исигуро и других
Примечательно, Поляринов ведёт искреннюю беседу с тобой как с приятелем, касаясь любимых тем и одновременно острых вопросов — о непростом писательском пути, о разрушении канонов, о киберпанке и посмодернизме, о субкультурах и массовости. Признаюсь, мне было очень интересно читать обо всём, чего он касается в тексте, даже если автор мне не особо близок или совершенно незнаком.
Как удивительно точно и образно рассказывает Поляринов, он настоящий рассказчик здесь, хотя заметки могут носить где-то краткий информативный, или местами более глубокий и обширный характер анализа. Это всегда интересно читать, выписывать яркие сравнения и метафоры. Чего стоит Дэвид Фостер Уоллес, который своей «Бесконечной шуткой», словно Гамлет с черепом Йорика в руках, выносит многостраничный приговор постмодернизму.
Поляринов призывает своими эссе к усилиям увлечённого и вдумчивого читателя, которые обязательно окупятся. Он не без оснований утверждает:
📝«Ведь то, что не требует усилий, — не заслуживает усилий».
И после этих эссе я обязательно возьмусь читать «Внутренний порок» Пинчона, романы Джулиана Барнса и, возможно, что-то у Иэна Макьюэна (хотя по тону заметок о Макьюэне и Айн Рэнд ощущается прохладное к ним отношения самого Поляринова). Впереди меня ждёт ещё и далёкое путешествие с неподъëмной (во всех смыслах) «Бесконечной шуткой». История про то, как Поляринов таскал в рюкзаке этот том и не сдавался (даже пострадали межпозвоночные диски), придаёт его упорству героический оттенок, он настоящий исследователь, которому "во всём хочется дойти до самой сути".
📝«Главное, что мы узнали о человечестве благодаря интернету, — правда никому не интересна»
Я открыл для себя новых и незнакомых доселе мне авторов, встретился и рассмотрел ещё ближе уже знакомых. Поляринов показал замечательный образец просветителя без пафоса и менторского тона, именно таких людей хочется слушать и видеть в образовательной сфере, рассказывающих о книгах и увлекающих своим рассказом молодое поколение.
👍Спасибо Алексею. Буду обязательно в скором времени читать второй сборник «Ночная смена» и ожидать новых встреч.
📚#книжныйотзыв 👈 мои книжные отзывы, заметки...
Ещё #цитата:
📝«Ведь если вы откроете Данте, Кафку, Рабле, Толстого, Джойса, Пинчона просто так, ради удовольствия, то рано или поздно вы почувствуете, что книги "сложных писателей" хороши — невыносимо хороши — даже без комментариев.
Особенно без комментариев»
Рекомендую.
#АлексейПоляринов #эссе
Не бояться "элитарности", "непонятности", "сложности" литературы, одновременно не пренебрегать жанровой, "массовой" литературой, фантастикой и комиксами, мюзиклами и фильмами категории "Б"... (Знать бы, из какого сора вырастает значительная серьёзная литература). Научиться быть свободным любить то, что тебя увлекает, и в то же время покушаться на таких авторов, которые кажутся тебе недосягаемыми. Об этом пишет писатель и эссеист Алексей Поляринов, тот самый переводчик той самой "самой сложной" книги — двухкилограммового (буквально) романа Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка».
📚«Почти два килограмма слов»* (Издательство Individuum, 2019) — это двадцать девять эссе о писателях и сценаристах + две личные заметки: о пути читателя Алексея Поляринова и "Манифест читателя (вместо послесловия)"
____
* о Пинчоне, Барнсе, Гибсоне, Кинге, Уоллесе, Исигуро и других
Примечательно, Поляринов ведёт искреннюю беседу с тобой как с приятелем, касаясь любимых тем и одновременно острых вопросов — о непростом писательском пути, о разрушении канонов, о киберпанке и посмодернизме, о субкультурах и массовости. Признаюсь, мне было очень интересно читать обо всём, чего он касается в тексте, даже если автор мне не особо близок или совершенно незнаком.
Как удивительно точно и образно рассказывает Поляринов, он настоящий рассказчик здесь, хотя заметки могут носить где-то краткий информативный, или местами более глубокий и обширный характер анализа. Это всегда интересно читать, выписывать яркие сравнения и метафоры. Чего стоит Дэвид Фостер Уоллес, который своей «Бесконечной шуткой», словно Гамлет с черепом Йорика в руках, выносит многостраничный приговор постмодернизму.
Поляринов призывает своими эссе к усилиям увлечённого и вдумчивого читателя, которые обязательно окупятся. Он не без оснований утверждает:
📝«Ведь то, что не требует усилий, — не заслуживает усилий».
И после этих эссе я обязательно возьмусь читать «Внутренний порок» Пинчона, романы Джулиана Барнса и, возможно, что-то у Иэна Макьюэна (хотя по тону заметок о Макьюэне и Айн Рэнд ощущается прохладное к ним отношения самого Поляринова). Впереди меня ждёт ещё и далёкое путешествие с неподъëмной (во всех смыслах) «Бесконечной шуткой». История про то, как Поляринов таскал в рюкзаке этот том и не сдавался (даже пострадали межпозвоночные диски), придаёт его упорству героический оттенок, он настоящий исследователь, которому "во всём хочется дойти до самой сути".
📝«Главное, что мы узнали о человечестве благодаря интернету, — правда никому не интересна»
Я открыл для себя новых и незнакомых доселе мне авторов, встретился и рассмотрел ещё ближе уже знакомых. Поляринов показал замечательный образец просветителя без пафоса и менторского тона, именно таких людей хочется слушать и видеть в образовательной сфере, рассказывающих о книгах и увлекающих своим рассказом молодое поколение.
👍Спасибо Алексею. Буду обязательно в скором времени читать второй сборник «Ночная смена» и ожидать новых встреч.
📚#книжныйотзыв 👈 мои книжные отзывы, заметки...
Ещё #цитата:
📝«Ведь если вы откроете Данте, Кафку, Рабле, Толстого, Джойса, Пинчона просто так, ради удовольствия, то рано или поздно вы почувствуете, что книги "сложных писателей" хороши — невыносимо хороши — даже без комментариев.
Особенно без комментариев»
Рекомендую.
#АлексейПоляринов #эссе
👍24❤8🔥3
W.G. Zebald, Luftkrieg und literatur
Сборник эссе «Естественная история разрушения» состоит из упомянутых публичных выступлений (с дополнениями) и трёх эссе, где исследуется послевоенный опыт осмысления произошедшей трагедии как в личном плане, так и в культурологическом, философском, нравственном, художественном направлениях. Это эссе о пережившем концлагерь и выжившем философе Жане Амери, об одном из создателей «Группы 47» (заявляли в своё время, что они пришли в послевоенную литературу, чтобы воссоздать, как всё было), писателе Альфреде Андерше, а также о художнике и драматурге Петере Вайсе, который с семьёй эмигрировал из Германии в 1935 г.
Зебальд задаётся вопросом, почему ни писатели, ни общество не хотят касаться пережитой трагедии, когда в результате союзнических воздушных бомбардировок уничтожались целые немецкие города вместо с мирными жителями (стёртые с лица земли Кёльн и Гамбург особенно впечатляют в этой истории). Как немцы переживают коллективную вину и как пытаются умолчать или сказать о произошедшем?
Документальной гримировке, а то и откровенному замалчиванию автор противостоит, собирая по крупицам художественные тексты, воспоминания и свидетельства, радио-репортажи... При этом хирургически точно и мастерски препарирует материал, высвечивая опустошающую и ужасающую действительность произошедшего. Его анализ произведений Генриха Бёлля, Германа Казака, Ганса Эриха Носсака и других авторов, так или иначе отразивших пережитое в те военное время, читается как отдельное произведение, полное ярких метких метафор и той самой зебальдовской меланхолии (как выразилась Сьюзен Сонтаг, «одержимость историей» и «меланхолия сокрушений»).
Тема беспамятства и амнезии, захватившей целый народ, волнует Зебальда, он ищет разные причины этого феномена и описывает нечеловеческие условия, в которых оказались люди разбомблëнных и горящих городов, так что ты оказываешься то внутри чьей-то истории, то посреди пылающего мегаполиса, то следишь за самим языком автора, подыскивающего слова для интерпретации текста и события.
Три эссе — о писателе, о философе и о художнике-драматурге — словно проводят нас через жизни и восприятие случившегося с ними и с их страной. Один пошёл на войну в рядах вермахта и дезертировал, женился на еврейке и развёлся, а потом пытался оправдать себя через свои же романы, в самомнении и гордости решив обелить совесть, а по мастеству даже переплюнуть Томаса Манна (Альфред Андерш). Другой пережил концлагерь, в своей жизни и произведениях пытался преодолеть травму, осмыслить пережитое, откровенно описал свой опыт унижения и насилия в текстах, но покончил жизнь самоубийством (Жан Амери). Третий рисовал картины и писал пьесы, где до натурализма жестоко отразил метаморфозы человека в его падении и хождении по дантовским кругам ада — мучителя и мучимого (Петер Вайс).
В. Г. Зебальд поражает глубиной осмысления и высотой критики, поэтикой и беспощадностью, стилем и актуальностью всего, о чëм пишет. Очень рекомендую! И в контексте сегодняшнего дня поднятые здесь проблемы весьма кстати.
📚#книжныйотзыв #эссе
#Зебальд #нонфикшн
#ЕстественнаяИсторияРазрушений
Сборник эссе «Естественная история разрушения» состоит из упомянутых публичных выступлений (с дополнениями) и трёх эссе, где исследуется послевоенный опыт осмысления произошедшей трагедии как в личном плане, так и в культурологическом, философском, нравственном, художественном направлениях. Это эссе о пережившем концлагерь и выжившем философе Жане Амери, об одном из создателей «Группы 47» (заявляли в своё время, что они пришли в послевоенную литературу, чтобы воссоздать, как всё было), писателе Альфреде Андерше, а также о художнике и драматурге Петере Вайсе, который с семьёй эмигрировал из Германии в 1935 г.
«…Беспримерное национальное унижение, выпавшее <…> на долю миллионов, никогда по-настоящему не находило словесного выражения, и люди, непосредственно его изведавшие, не делились пережитым ни друг с другом, ни с теми, кто родился позже»Зебальд задаётся вопросом, почему ни писатели, ни общество не хотят касаться пережитой трагедии, когда в результате союзнических воздушных бомбардировок уничтожались целые немецкие города вместо с мирными жителями (стёртые с лица земли Кёльн и Гамбург особенно впечатляют в этой истории). Как немцы переживают коллективную вину и как пытаются умолчать или сказать о произошедшем?
Документальной гримировке, а то и откровенному замалчиванию автор противостоит, собирая по крупицам художественные тексты, воспоминания и свидетельства, радио-репортажи... При этом хирургически точно и мастерски препарирует материал, высвечивая опустошающую и ужасающую действительность произошедшего. Его анализ произведений Генриха Бёлля, Германа Казака, Ганса Эриха Носсака и других авторов, так или иначе отразивших пережитое в те военное время, читается как отдельное произведение, полное ярких метких метафор и той самой зебальдовской меланхолии (как выразилась Сьюзен Сонтаг, «одержимость историей» и «меланхолия сокрушений»).
Тема беспамятства и амнезии, захватившей целый народ, волнует Зебальда, он ищет разные причины этого феномена и описывает нечеловеческие условия, в которых оказались люди разбомблëнных и горящих городов, так что ты оказываешься то внутри чьей-то истории, то посреди пылающего мегаполиса, то следишь за самим языком автора, подыскивающего слова для интерпретации текста и события.
Три эссе — о писателе, о философе и о художнике-драматурге — словно проводят нас через жизни и восприятие случившегося с ними и с их страной. Один пошёл на войну в рядах вермахта и дезертировал, женился на еврейке и развёлся, а потом пытался оправдать себя через свои же романы, в самомнении и гордости решив обелить совесть, а по мастеству даже переплюнуть Томаса Манна (Альфред Андерш). Другой пережил концлагерь, в своей жизни и произведениях пытался преодолеть травму, осмыслить пережитое, откровенно описал свой опыт унижения и насилия в текстах, но покончил жизнь самоубийством (Жан Амери). Третий рисовал картины и писал пьесы, где до натурализма жестоко отразил метаморфозы человека в его падении и хождении по дантовским кругам ада — мучителя и мучимого (Петер Вайс).
«И всë-таки по сей день, когда я вижу фотографии или смотрю документальные фильмы военных лет, мне кажется, будто я, так сказать, родом из этой войны и будто оттуда, из этих не пережитых мною кошмаров, на меня падает тень, из которой мне никогда вообще не выбраться»В. Г. Зебальд поражает глубиной осмысления и высотой критики, поэтикой и беспощадностью, стилем и актуальностью всего, о чëм пишет. Очень рекомендую! И в контексте сегодняшнего дня поднятые здесь проблемы весьма кстати.
📚#книжныйотзыв #эссе
#Зебальд #нонфикшн
#ЕстественнаяИсторияРазрушений
👍20❤6🔥1
«Идти бестрепетно»...
Это уже не просто слова из романа «Авиатор», это почти "слоган" к творчеству нашего современника, замечательного писателя-медиевиста Евгения Германовича Водолазкина. Ученик академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, человека-легенды, много лет возглавлявшего Отдел древнерусской литературы в Пушкинском доме, Евгений Германович продолжил дело своего учителя. Со временем ученик стал учителем, литературовед стал литератором, а филолог — писателем. Можно сказать, что книга посвящена этим путям, проходящим сквозь время и жизнь Водолазкина.
В сборнике эссе, статей и малой прозы «Идти бестрепетно» (Редакция Елены Шубиной, 2020. — 409 c.) автор делится своими размышлениями о писательстве, о современниках (Владимир Шаров, Людмила Улицкая, Михаил Шемякин...), о написанных романах, о литературоведческом (хочу отметить эссе о сравнении средневековой литературы с современной постмодернистской), о духовном и земном, о Набокове и Солженицыне, о владыке Антонии Сурожском и Дмитрии Лихачёве... О Пушкине и о Пушкинском доме. Здесь переплелись воспоминания о детстве, отрочестве и юности со зрелым взглядом на вещи, на жизнь и смерть, язык и культуру, на то, что окружает нас сейчас — сквозь призму вневременного и мимолётного одновременно.
📝
В этом, по-моему, весь невероятный изысканный стиль Евгения Германовича — замечать потустороннее в посюстороннем, главное — в мелочах жизни, фиксировать средствами языка то самое, что в итоге становится литературой... Для меня эта книга стала продолжением и дополнением к его романам, словно ты продолжил знакомство с человеком, уже ставшим тебе сердечным другом, к которому ты заглянул в его петербужскую квартиру и ведёшь умные интеллигентские разговоры, продолжаешь путешествие по городам и весям прошлого и настоящего, Древней Руси и современной России. Замечательно!
Хочу отметить повесть «Близкие друзья», о двух мальчиках и девочке из Мюнхена, которые подружились на кладбище, где их родители периодически приходили прибрать могилки родственников, которые пронесли дружбу и любовь сквозь время, разные обстоятельства жизни и Вторую мировую войну, поклявшись ещё тогда, в начале, что будут похоронены рядом на этом же мюнхенском кладбище. Очень трогательный текст о такой мимолётной жизни, о памяти и искуплении.
📝
Очень советую читать книги Евгения Германовича. И размышлять над ними.
Всего вам доброго и не болейте. Душой.
📚#книжныйотзыв
#водолазкин #эссе
Это уже не просто слова из романа «Авиатор», это почти "слоган" к творчеству нашего современника, замечательного писателя-медиевиста Евгения Германовича Водолазкина. Ученик академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, человека-легенды, много лет возглавлявшего Отдел древнерусской литературы в Пушкинском доме, Евгений Германович продолжил дело своего учителя. Со временем ученик стал учителем, литературовед стал литератором, а филолог — писателем. Можно сказать, что книга посвящена этим путям, проходящим сквозь время и жизнь Водолазкина.
В сборнике эссе, статей и малой прозы «Идти бестрепетно» (Редакция Елены Шубиной, 2020. — 409 c.) автор делится своими размышлениями о писательстве, о современниках (Владимир Шаров, Людмила Улицкая, Михаил Шемякин...), о написанных романах, о литературоведческом (хочу отметить эссе о сравнении средневековой литературы с современной постмодернистской), о духовном и земном, о Набокове и Солженицыне, о владыке Антонии Сурожском и Дмитрии Лихачёве... О Пушкине и о Пушкинском доме. Здесь переплелись воспоминания о детстве, отрочестве и юности со зрелым взглядом на вещи, на жизнь и смерть, язык и культуру, на то, что окружает нас сейчас — сквозь призму вневременного и мимолётного одновременно.
📝
«Что для меня грустнее всего — устаревают и книги. В сравнении с кино их сопротивляемость времени, конечно, выше, но она не бесконечна. В среднем это лет 100-150. По истечении этого срока книга становится чем-то вроде адмирала в отставке: с ней обращаются почтительно, торжественно отмечают юбилеи, но к повседневной жизни отношения она больше не имеет»В этом, по-моему, весь невероятный изысканный стиль Евгения Германовича — замечать потустороннее в посюстороннем, главное — в мелочах жизни, фиксировать средствами языка то самое, что в итоге становится литературой... Для меня эта книга стала продолжением и дополнением к его романам, словно ты продолжил знакомство с человеком, уже ставшим тебе сердечным другом, к которому ты заглянул в его петербужскую квартиру и ведёшь умные интеллигентские разговоры, продолжаешь путешествие по городам и весям прошлого и настоящего, Древней Руси и современной России. Замечательно!
Хочу отметить повесть «Близкие друзья», о двух мальчиках и девочке из Мюнхена, которые подружились на кладбище, где их родители периодически приходили прибрать могилки родственников, которые пронесли дружбу и любовь сквозь время, разные обстоятельства жизни и Вторую мировую войну, поклявшись ещё тогда, в начале, что будут похоронены рядом на этом же мюнхенском кладбище. Очень трогательный текст о такой мимолётной жизни, о памяти и искуплении.
📝
«Не достигает наша действительность высот русского слова, да и с идеей процветания не соотносится. Возникает подозрение, что есть на свете вещи, перефразируя писателя Данилова, поважнее литературоведения»Очень советую читать книги Евгения Германовича. И размышлять над ними.
Всего вам доброго и не болейте. Душой.
📚#книжныйотзыв
#водолазкин #эссе
🔥18❤10👍4
«Ночная смена», Алексей Поляринов //Альпина.Проза
Вот так приедешь в Москву, устроишься куда-то работать, будешь мечтать стать писателем, а всё время у тебя будет занимать заработок на жизнь и аренду квартиры. И придётся по ночам вставать в два часа и урывками от сна что-то писать. С этой истории начинается сборник эссе замечательного писателя и переводчика Алексея Поляринова.
Эссе самые разнообразные: личные и обзорные, литературные и киноманские, аналитические... и всегда верно подмечающие суть... Они очень в доверительной манере написаны, словно ты сидишь с другом на кухне, попиваешь крепкий чай, за окном спит мегаполис, а ты рассуждаешь о постмодерне и постиронии, Маккарти и Макдоне, Кауфмане и Уоллесе, Франзене и Митчелле... И так хорошо на душе. Словно сам приобщаешься к тому неуловимо запечатлëнному миру идей, к мимолётно пришедшим озарениям, которые добыты кропотливым и чутким чтением литературы и всего, что ей сопутствует...
📖
Вначале мы знакомимся с личным кладбищем идей/романов Алексея. Например, роман о матери солдата Сервантеса, который попал в плен к алжирскому паше. Чтобы его выкупить, мать будущего автора «Дон Кихота» скитается по Испании с монахом-тринитарием на осле, придумывает истории, рассказывает местным богачам, чтоб заработать нужную сумму и вызволить сына. (И это действительно было, пусть никто романа об этом не написал).
Или роман про то, как лидера одной японской секты после его смерти хотят выкрасть из морга особо рьяные адепты, а Алексей посещает один подмосковный морг при больнице, чтобы прочувствовать атмосферу. Из чего только не рождаются идеи, как только не завладевают писателем... И так и остаются нереализованными. Тема обрывочных сюжетов периодически всплывает в этом сборнике и интересно интерпретируется (например, про Пола Остера и его «4321»).
📖
Здесь есть и про плагиат, который не был признан плагиатом (про «Волшебника Изумрудного города» как фанфик на его американский прототип), и про кино в литературе (привет Рошаку, Кауфману и Пессл), а ещё про удивительный стиль Кафки заканчивать свои рассказы после того, как всё уже, вроде, было сказано.
Поляринов сумел увлечь меня своим умением соединять в одном абзаце или тексте совершенно разных персонажей от культуры, литературы, истории... Объяснять одно через совершенно другое, а приходить потом к третьему. Например, интересная статья про компьютерную игру “The Last of Us” и сколько всего из мира кино и литературы повлияло на сюжет или нашло отражение в ней.
📚 Также в этом сборнике вы узнаете:
➡️ Почему Мартин Макдона — русский народный режиссёр
➡️ Как “постколониальный роман“ как жанр пытается стать “глобальным романом“ и причём здесь Рушди, Мураками и Роберто Боланьо с его огромным незаконченным романом «2666»
➡️ Как Алекс Гарленд научился писать, написал один роман и прославился, но ушёл в режиссёры
➡️ Почему история Чарльза Мэнсона стала ключевой для понимания современной американской культуры
➡️ Как Дэвид Митчелл проехал по Транссибирской магистрали и начал писать романы
➡️ И ещё замечательная статья про роман Кормака Маккарти «Кровавый меридиан», который покорил меня не меньше, чем Алексея...
(Если вас не тронет история дружбы и своеобразного соперничества Джонатана Франзена и Дэвида Фостера Уоллеса, то у вас нет сердца).
Отличный сборник! Здесь вы найдёте те книги и тех авторов, на которых обязательно надо обратить внимание (даже если автором книги иногда упоминаются как “самые слабые“ у того или другого писателя).
😗 Про предыдущий сборник эссе «Почти два килограмма слов» можно прочитать здесь.
#книжныйотзыв #эссе
#АлексейПоляринов
#НочнаяСмена
Вот так приедешь в Москву, устроишься куда-то работать, будешь мечтать стать писателем, а всё время у тебя будет занимать заработок на жизнь и аренду квартиры. И придётся по ночам вставать в два часа и урывками от сна что-то писать. С этой истории начинается сборник эссе замечательного писателя и переводчика Алексея Поляринова.
Эссе самые разнообразные: личные и обзорные, литературные и киноманские, аналитические... и всегда верно подмечающие суть... Они очень в доверительной манере написаны, словно ты сидишь с другом на кухне, попиваешь крепкий чай, за окном спит мегаполис, а ты рассуждаешь о постмодерне и постиронии, Маккарти и Макдоне, Кауфмане и Уоллесе, Франзене и Митчелле... И так хорошо на душе. Словно сам приобщаешься к тому неуловимо запечатлëнному миру идей, к мимолётно пришедшим озарениям, которые добыты кропотливым и чутким чтением литературы и всего, что ей сопутствует...
«Чем больше идей ты убиваешь, тем выше твоё мастерство — грустно, но что поделать»Вначале мы знакомимся с личным кладбищем идей/романов Алексея. Например, роман о матери солдата Сервантеса, который попал в плен к алжирскому паше. Чтобы его выкупить, мать будущего автора «Дон Кихота» скитается по Испании с монахом-тринитарием на осле, придумывает истории, рассказывает местным богачам, чтоб заработать нужную сумму и вызволить сына. (И это действительно было, пусть никто романа об этом не написал).
Или роман про то, как лидера одной японской секты после его смерти хотят выкрасть из морга особо рьяные адепты, а Алексей посещает один подмосковный морг при больнице, чтобы прочувствовать атмосферу. Из чего только не рождаются идеи, как только не завладевают писателем... И так и остаются нереализованными. Тема обрывочных сюжетов периодически всплывает в этом сборнике и интересно интерпретируется (например, про Пола Остера и его «4321»).
«... я надеюсь, ты не думаешь, что чтение книги — пусть и хорошей — действительно даёт тебе право говорить, что ты “понял, как всё устроено?“»Здесь есть и про плагиат, который не был признан плагиатом (про «Волшебника Изумрудного города» как фанфик на его американский прототип), и про кино в литературе (привет Рошаку, Кауфману и Пессл), а ещё про удивительный стиль Кафки заканчивать свои рассказы после того, как всё уже, вроде, было сказано.
Поляринов сумел увлечь меня своим умением соединять в одном абзаце или тексте совершенно разных персонажей от культуры, литературы, истории... Объяснять одно через совершенно другое, а приходить потом к третьему. Например, интересная статья про компьютерную игру “The Last of Us” и сколько всего из мира кино и литературы повлияло на сюжет или нашло отражение в ней.
(Если вас не тронет история дружбы и своеобразного соперничества Джонатана Франзена и Дэвида Фостера Уоллеса, то у вас нет сердца).
📖«Опыт чтения текстов Маккарти иногда очень напоминает стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие восхищение. Причём не обязательно в этом порядке»Отличный сборник! Здесь вы найдёте те книги и тех авторов, на которых обязательно надо обратить внимание (даже если автором книги иногда упоминаются как “самые слабые“ у того или другого писателя).
#книжныйотзыв #эссе
#АлексейПоляринов
#НочнаяСмена
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤35👏11❤🔥2👍2😢1🦄1
👩🏻🎓Урок от Вирджинии Вулф
(эссе «Своя комната»😻 )
Октябрь 1928 года, Оксбридж (так англичане называют Оксфорд+Кембридж). Известную писательницу Вирджинию Вулф пригласили провести лекции в двух женских колледжах Кембриджа. Тема: «Женщины и литература». Из этих двух лекций и появилось замечательное эссе, которое и спустя сто лет не теряет своей актуальности.
Вулф берёт себе псевдоним Мери Бетон и отправляется на поиски материала для лекции. В одну библиотеку её не пускают, потому что женщинам нужно рекомендательное письмо или сопровождение члена Университетского совета. Она обедает в одном колледже (мужском), где её потчуют изысканными яствами и вино искрится в бокалах, а потом ужинает в другом (женском), где едва хватает на скромный бульон и говядину с черносливом. Мэри Сетон, основательница женского колледжа, сетует на недостаток финансов...
В библиотеку при Британском музее наша рассказчица всё же попадает, но не может найти ни одного исследования самих женщин, всё сплошь мужчины, рассуждающие о женщинах. Со свойственной писательнице тонкой иронией и прекрасным юмором Вирджиния начинает свой аналитический путь по миру английской литературы. Она начинает со времён Шекспира и фантазирует, что бы было с сестрой драматурга, если бы она захотела играть в театре или стать писательницей (вывод очень прост — ничего бы не получилось, времена не те).
Вулф анализирует литературу, вышедшую из-под пера женщин, начиная с 17 века и до века 20-го. Женщина могла писать, если только была именита и богата (благодаря мужу), и то её стихи подвергались осмеянию и критике. Если мужчин в худшем случае предавали забвению, то пишущих женщин всячески нелестно вспоминали в статьях и книгах. Женщины либо писали биографии своих известных мужей, либо тихо писали в стол, а потом их переписка с родными становилась достоянием общественности.
Лишь в 19-ом веке женщины среднего класса смогли освободиться от гнёта традиций и жёстких условий быта, начав зарабатывать на своих романах. Немаловажно то, что как раз в это время не до конца оформился жанр романа и можно было пробовать себя и писать свободно. Это время родило на свет четырёх знаменитых писательниц: Джейн Остен, Шарлотту Бронте, Эмилию Бронте и Мэри Энн Эванс (Джордж Элиот).
Как ни прост в итоге совет Вулф, он универсален. Два важных основания для творчества и самовыражения женщин — это
1️⃣ наличие постоянного дохода (финансовая независимость) и
2️⃣ своя комната (личное пространство).
Конечно, урок от Вирджинии имеет и другие составляющие, например, быть самой собой и быть честной в своём творчестве, не пытаться "писать как мужчины" и прочее. Важно не разделять мужчин и женщин в вопросе "кто талантливее". И сегодня, в век развития технологий, обилия писательских курсов и свободы для женщин быть тем, кем они хотят быть, урок от Вирджинии звучит так же свежо и актуально. Гендерные вопросы остаются на повестке, а Вулф замечательно пишет об этом, упоминая писателей, в творчестве которых, по её мнению, женское и мужское начала хорошо сочетались. (Как тут не вспомнить знаменитого Карла Густава Юнга с его теорией об Аниме —женской части психики мужчины, и Анимусе — мужской части психики женщины).
Замечательный получился мастер-класс от Вирджинии. Всем советую обязательно прочитать и сделать свои выводы!
#книжныйотзыв #эссе
#ВирджинияВулф
#СвояКомната
(эссе «Своя комната»
Октябрь 1928 года, Оксбридж (так англичане называют Оксфорд+Кембридж). Известную писательницу Вирджинию Вулф пригласили провести лекции в двух женских колледжах Кембриджа. Тема: «Женщины и литература». Из этих двух лекций и появилось замечательное эссе, которое и спустя сто лет не теряет своей актуальности.
«Пожалуй, история борьбы мужчин против женской эмансипации интереснее рассказа о самой эмансипации»
Вулф берёт себе псевдоним Мери Бетон и отправляется на поиски материала для лекции. В одну библиотеку её не пускают, потому что женщинам нужно рекомендательное письмо или сопровождение члена Университетского совета. Она обедает в одном колледже (мужском), где её потчуют изысканными яствами и вино искрится в бокалах, а потом ужинает в другом (женском), где едва хватает на скромный бульон и говядину с черносливом. Мэри Сетон, основательница женского колледжа, сетует на недостаток финансов...
«Я думаю о власти традиционных устоев для одних и недостатке традиций для других и о том, как это влияет на творчество писателя»
В библиотеку при Британском музее наша рассказчица всё же попадает, но не может найти ни одного исследования самих женщин, всё сплошь мужчины, рассуждающие о женщинах. Со свойственной писательнице тонкой иронией и прекрасным юмором Вирджиния начинает свой аналитический путь по миру английской литературы. Она начинает со времён Шекспира и фантазирует, что бы было с сестрой драматурга, если бы она захотела играть в театре или стать писательницей (вывод очень прост — ничего бы не получилось, времена не те).
«Литература усеяна следами крушения тех, кто чрезмерно прислушивался к окружающим»
Вулф анализирует литературу, вышедшую из-под пера женщин, начиная с 17 века и до века 20-го. Женщина могла писать, если только была именита и богата (благодаря мужу), и то её стихи подвергались осмеянию и критике. Если мужчин в худшем случае предавали забвению, то пишущих женщин всячески нелестно вспоминали в статьях и книгах. Женщины либо писали биографии своих известных мужей, либо тихо писали в стол, а потом их переписка с родными становилась достоянием общественности.
Лишь в 19-ом веке женщины среднего класса смогли освободиться от гнёта традиций и жёстких условий быта, начав зарабатывать на своих романах. Немаловажно то, что как раз в это время не до конца оформился жанр романа и можно было пробовать себя и писать свободно. Это время родило на свет четырёх знаменитых писательниц: Джейн Остен, Шарлотту Бронте, Эмилию Бронте и Мэри Энн Эванс (Джордж Элиот).
«Каким же надо обладать даром, каким стремлением к честности, чтобы не поддаться давлению критики в тогдашнем жестоко патриархальном обществе и сохранить свой взгляд на жизнь! Выдержали лишь Джейн Остен и Эмилия Бронте»
Как ни прост в итоге совет Вулф, он универсален. Два важных основания для творчества и самовыражения женщин — это
Конечно, урок от Вирджинии имеет и другие составляющие, например, быть самой собой и быть честной в своём творчестве, не пытаться "писать как мужчины" и прочее. Важно не разделять мужчин и женщин в вопросе "кто талантливее". И сегодня, в век развития технологий, обилия писательских курсов и свободы для женщин быть тем, кем они хотят быть, урок от Вирджинии звучит так же свежо и актуально. Гендерные вопросы остаются на повестке, а Вулф замечательно пишет об этом, упоминая писателей, в творчестве которых, по её мнению, женское и мужское начала хорошо сочетались. (Как тут не вспомнить знаменитого Карла Густава Юнга с его теорией об Аниме —женской части психики мужчины, и Анимусе — мужской части психики женщины).
«Пишите так, как считаете нужным — только это имеет значение, а проживёт ли ваш труд годы или часы, никто не знает»
Замечательный получился мастер-класс от Вирджинии. Всем советую обязательно прочитать и сделать свои выводы!
#книжныйотзыв #эссе
#ВирджинияВулф
#СвояКомната
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍60❤46🔥30
«Зоны отдыха. Петербургские кладбища и жизнь вокруг них», Антон Секисов
//Все Свободны
Петербург и так прославлен тем, что построен на костях, а вот если углубиться в кладбищенскую тему — смежную с историей города и его жителей, в том числе писателей и литераторов, — становится вообще интересно.
Писатель Антон Секисов, два романа которого я с удовольствием прочитал («Комната Вáгинова» и недавно «Бог тревоги») прогуливается, пьёт алкоголь, беседует с другом, сталкивается с кладбищенским сторожем, рассматривает надгробия, ищет в Гугле примечательные истории, читает надписи, размышляет о жизни и смерти известных петербуржцев... Всё это происходит на известных исторических городских (и двух областных) кладбищах.
И читать это совершенно увлекательно! Ведь притягивает не только атмосфера тлена и эстетика полуразрушенных усыпальниц, надгробий и могил прошлых веков, не только рассказанные здесь легенды вокруг "плохих мест" и захоронений "местных святых"... Мы совершаем вместе с автором поход то на одно кладбище, то на другое, обнаруживаем какие-то особенности в атмосфере и стиле каждого.
Вместе с тем Секисов совершает некий культурологический и литературоведческий трип в прошлое, сравнивая разные кладбища c их знаменитыми захоронениями, ведя диалог с Серебряным веком и его тягой к мистике и эзотерическим ритуалами, вызывая к жизни тех, чьи могилы подверглись перезахоронению, отчего иногда непонятно, где же лежат кости? (Например, поэт Блок имеет два захоронения).
Из книги я узнал много всего разного:
😗 про тайну исчезновения Хармса,
😗 про загадочную усыпальницу на Никольском кладбище и страшные истории с нею связанные,
😗 про астральную жену Вячеслава Иванова, к могиле которого он часто приходил,
😗 про печальную историю с надгробием Михаилу Врубелю,
а ещё
😗 побывал на похоронах Николая Некрасова,
😗 узнал о странных судьбах местных митрополитов, похороненных рядком,
😗 посидел на том самом месте, где пьют и философствуют персонажи в знаменитой сцене из фильма «Брат»,
😗 прогулялся на Озерки и отдохнул на Шуваловском кладбище...
Два последних эссе меня особенно тронули. Одно посвящено поэту, переводчику древнегреческих трагедий Иннокентию Анненскому и его скоропостижной смерти на Витебском вокзале. Автор рассказывает о поездке в Пушкин и о странностях во время путешествия к могиле поэта. Второе посвящено поэтессе и художнице Елене Гуро, на поиски могилы которой автор отправляется в населённый пункт Поляны, а оказывается в своеобразном русском Твин Пиксе.
Замечательные тексты. Теперь самому хочется побывать во всех описанных здесь местах.
А вы как относитесь к кладбищам🤩
Гуляете в этих своеобразных "зонах отдыха"🤩
#книжныйотзыв #АнтонСекисов
#ЗоныОтдыха #эссе
//Все Свободны
Петербург и так прославлен тем, что построен на костях, а вот если углубиться в кладбищенскую тему — смежную с историей города и его жителей, в том числе писателей и литераторов, — становится вообще интересно.
«Лучшие события в жизни происходят вопреки нашим планам, и самые запоминающиеся походы на кладбища тоже спонтанны»
Писатель Антон Секисов, два романа которого я с удовольствием прочитал («Комната Вáгинова» и недавно «Бог тревоги») прогуливается, пьёт алкоголь, беседует с другом, сталкивается с кладбищенским сторожем, рассматривает надгробия, ищет в Гугле примечательные истории, читает надписи, размышляет о жизни и смерти известных петербуржцев... Всё это происходит на известных исторических городских (и двух областных) кладбищах.
«Среди местных покойников широко распространена мода на зиккураты в качестве надгробных камней. Самый красивый зиккурат у оперного певца Тартакова. Зачем тебе ацтекский жертвенник, если ты лежишь на православном кладбище на территории монастыря? Таких людей я просто не понимаю»
И читать это совершенно увлекательно! Ведь притягивает не только атмосфера тлена и эстетика полуразрушенных усыпальниц, надгробий и могил прошлых веков, не только рассказанные здесь легенды вокруг "плохих мест" и захоронений "местных святых"... Мы совершаем вместе с автором поход то на одно кладбище, то на другое, обнаруживаем какие-то особенности в атмосфере и стиле каждого.
«Армянское кладбище походит на мексиканское в День Всех Святых своей пышной праздничностью»
Вместе с тем Секисов совершает некий культурологический и литературоведческий трип в прошлое, сравнивая разные кладбища c их знаменитыми захоронениями, ведя диалог с Серебряным веком и его тягой к мистике и эзотерическим ритуалами, вызывая к жизни тех, чьи могилы подверглись перезахоронению, отчего иногда непонятно, где же лежат кости? (Например, поэт Блок имеет два захоронения).
«Что делает благочестивый монах при встрече со светящимся призраком преподобного Иоанна Кронштадтского? Прежде всего достаёт айфон»
Из книги я узнал много всего разного:
а ещё
«Когда много гуляешь по погостам, начинает казаться, что эти лица и фамилии видел уже много раз и на кладбищах существует ограниченный набор мертвецов, перекладываемый с места на место»
Два последних эссе меня особенно тронули. Одно посвящено поэту, переводчику древнегреческих трагедий Иннокентию Анненскому и его скоропостижной смерти на Витебском вокзале. Автор рассказывает о поездке в Пушкин и о странностях во время путешествия к могиле поэта. Второе посвящено поэтессе и художнице Елене Гуро, на поиски могилы которой автор отправляется в населённый пункт Поляны, а оказывается в своеобразном русском Твин Пиксе.
«Состояние деревенской, или пригородной одури хорошо уловлено в сериале «Твин Пикс». Невозможно уловить этот момент перехода: ещё недавно вы были адекватно мыслящим городским жителем, а вот вы уже интервьюируете полено»
Замечательные тексты. Теперь самому хочется побывать во всех описанных здесь местах.
А вы как относитесь к кладбищам
Гуляете в этих своеобразных "зонах отдыха"
#книжныйотзыв #АнтонСекисов
#ЗоныОтдыха #эссе
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥38👏25👍21❤9🕊6
Моменты тишины посреди окружающей неопределённости
Давно у меня не было так много стикеров на один квадратный сантиметр текста, так много мыслей и рефлексий во время чтения. Книга немецкого писателя и журналиста Даниэля Шрайбера «Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе» явилась не только ответом на прошедшую пандемию, психологическую травматичность которой многие ощутили на себе, проживая целые месяцы в обособленном и изолированном пространстве. Этот замечательный сборник эссе стал признанием самому себе: ты одинок и, возможно, проживёшь одиноким остаток жизни, но разве это так плохо?
Сборник эссе начинается с того, что Шрайбер рассказывает, как помогает обустроить сад вокруг дома, недавно купленного друзьями. Это возделывание сада превращается в созидание своего внутреннего мира и одновременно в противостояние хаосу окружающей действительности. Примечательно, что заканчивается сборник историей про посещение Шрайбером вместе с тогдашним партнёром коттеджа «Проспект» недалеко от скалистого пляжа Ла-Манша в Великобритании — того самого, который обустроил и вокруг которого насадил свой противостоящий ветрам и зною сад Дерек Джармен, умирающий от неизлечимой болезни гомосексуальный художник и режиссёр. Не помешала ему ни ближайшая атомная электростанция, ни бесплодный ландшафт.
Шрайбер сумел в этих эссе поставить вопросы, которые его волнуют и которые не имеют однозначного и исчерпывающего ответа. Что значит "быть одиноким" и "быть одному"? Он тщательно исследует этот вопрос в разных областях знаний, обращается к литературе, философии, психологии, социологии... И откровенно говорит о том, что его волнует и страшит, вспоминает, как он преодолевал страхи с помощью психотерапии. Когда наступила пандемия, одиночество превратилось в способ выживания, и тогда Шрайбер решил взглянуть правде в глаза и отмести все иллюзии по поводу счастливой совместной жизни с кем-то ещё.
Тема дружбы/одиночества осмысляется здесь и через массовую культуру и популярность сериала «Друзья», и через философские трактаты Аристотеля и Монтеня, работы Симоны Вейль, Ханны Арендт, Ролана Барта.., через опыт ХХ века с его преодолением "инаковости" и поиском взаимосвязи между "Я" и "Другим". Приятно было встречать отсылки к моей любимой Оливии Лэнг (её «Одинокий город» всем советую!). При этом Шрайбер не боится искренне признаваться о тяготах жизни одному и психологических проблемах, с которыми ему приходилось сталкиваться. Поездка в Швейцарию и многочасовые пешие прогулки с преодолением себя и трудных троп с подъёмами и спусками позволила ему найти некий баланс между внутренним и внешним.
Квир-стыд и преодоление гомофобии (и разных других видов фобий со стороны социума), важность положительного опыта одиночества и принятия себя самого и другого, умение справляться с внешними вызовами и находить поддержку в друзьях... Эта книга отлично отражает путь, который мы все проходим, сталкиваясь с одиночеством, — независимо от ориентации и наличия партнёра или семьи (а ещё старение, куда от него деться?). Я точно буду ещё обращаться к выбранным здесь местам. Рекомендую.
@Individuumbooks
#книжныйотзыв #эссе
#ДаниэльШрайбер #ОдинИок
Давно у меня не было так много стикеров на один квадратный сантиметр текста, так много мыслей и рефлексий во время чтения. Книга немецкого писателя и журналиста Даниэля Шрайбера «Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе» явилась не только ответом на прошедшую пандемию, психологическую травматичность которой многие ощутили на себе, проживая целые месяцы в обособленном и изолированном пространстве. Этот замечательный сборник эссе стал признанием самому себе: ты одинок и, возможно, проживёшь одиноким остаток жизни, но разве это так плохо?
Сборник эссе начинается с того, что Шрайбер рассказывает, как помогает обустроить сад вокруг дома, недавно купленного друзьями. Это возделывание сада превращается в созидание своего внутреннего мира и одновременно в противостояние хаосу окружающей действительности. Примечательно, что заканчивается сборник историей про посещение Шрайбером вместе с тогдашним партнёром коттеджа «Проспект» недалеко от скалистого пляжа Ла-Манша в Великобритании — того самого, который обустроил и вокруг которого насадил свой противостоящий ветрам и зною сад Дерек Джармен, умирающий от неизлечимой болезни гомосексуальный художник и режиссёр. Не помешала ему ни ближайшая атомная электростанция, ни бесплодный ландшафт.
«Садоводство — это не только слово, но и вполне конкретный акт надежды»
Шрайбер сумел в этих эссе поставить вопросы, которые его волнуют и которые не имеют однозначного и исчерпывающего ответа. Что значит "быть одиноким" и "быть одному"? Он тщательно исследует этот вопрос в разных областях знаний, обращается к литературе, философии, психологии, социологии... И откровенно говорит о том, что его волнует и страшит, вспоминает, как он преодолевал страхи с помощью психотерапии. Когда наступила пандемия, одиночество превратилось в способ выживания, и тогда Шрайбер решил взглянуть правде в глаза и отмести все иллюзии по поводу счастливой совместной жизни с кем-то ещё.
«Но скопившиеся неоднозначные потери, все жизненные концепции, с которыми пришлось расстаться, исчерпали мои запасы энергии поддерживать эти столь необходимые фантазии. Вместо того чтобы продолжать жить с ними, я предпочёл их отпустить. Это казалось более разумным»
Тема дружбы/одиночества осмысляется здесь и через массовую культуру и популярность сериала «Друзья», и через философские трактаты Аристотеля и Монтеня, работы Симоны Вейль, Ханны Арендт, Ролана Барта.., через опыт ХХ века с его преодолением "инаковости" и поиском взаимосвязи между "Я" и "Другим". Приятно было встречать отсылки к моей любимой Оливии Лэнг (её «Одинокий город» всем советую!). При этом Шрайбер не боится искренне признаваться о тяготах жизни одному и психологических проблемах, с которыми ему приходилось сталкиваться. Поездка в Швейцарию и многочасовые пешие прогулки с преодолением себя и трудных троп с подъёмами и спусками позволила ему найти некий баланс между внутренним и внешним.
«Иногда жизнь-одному причиняет боль, иногда нет. Иногда приходится искать новые тропы (или, по крайней мере, быть открытым к ним), чтобы со всем этим справиться. Иногда нужно найти в себе смелость пойти на озеро или в горы, подставить лицо зимнему солнцу и держаться за всех тех радушных и добрых людей, которые встретятся тебе на пути. И помнить, что есть не только разные виды гордости, но и разные виды жизни-одному. Разные виды одиночества»
Квир-стыд и преодоление гомофобии (и разных других видов фобий со стороны социума), важность положительного опыта одиночества и принятия себя самого и другого, умение справляться с внешними вызовами и находить поддержку в друзьях... Эта книга отлично отражает путь, который мы все проходим, сталкиваясь с одиночеством, — независимо от ориентации и наличия партнёра или семьи (а ещё старение, куда от него деться?). Я точно буду ещё обращаться к выбранным здесь местам. Рекомендую.
@Individuumbooks
#книжныйотзыв #эссе
#ДаниэльШрайбер #ОдинИок
🔥53❤37👍27👏7
Немецкий писатель и журналист Даниэль Шрайбер сумел увлечь размышлениями о природе одиночества и о притягательности быть одному в своей замечательной книге «Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе» (отзыв тут). И вот вторая его книга, эссе о потерях — больших и малых, которые мы проживаем в своей жизни по одному или коллективно.
После смерти отца автор отправляется в творческий отпуск в Венецию и пребывает в состоянии некоего онемения, безмолвия, ступора, пытаясь определить то, что с ним происходит. Он хочет разобраться с тем, что чувствует и ощущает, находясь в городе, которому уже много лет пророчат гибель от климатических изменений и поднятия уровня воды. И пишет об этом. Он вспоминает редкие разговоры с отцом, он скорбит, что так мало мог побыть с родителями последний год — те отгородились от мира в том числе из-за коронавирусной пандемии, но на самом деле им хотелось побыть наедине в эти последние месяцы.
«Даже если покрыть свою жизнь новым слоем краски, старые потери проступят сквозь неё. Скорбь может поджидать нас долгие годы, затаившись в каком-то закоулке нашего Я, а мы о том и не догадываемся. Лучше всего копится подавленное, не проработанное горе»
Находясь в немецком культурном центре Венеции, где разные немецкие стипендиаты, писатели и учёные проводят свои исследования, живут, едят, ходят в библиотеку и делятся своим мнением, автор начинает видеть взаимосвязи между темой своего эссе и этим вечно умирающим городом на воде. Одна из встретившихся здесь писательниц называет Венецию красивейшим забальзамированным телом, посмотреть на которое, словно на пышные похороны, из года в год стекаются сотни тысяч паломников — туристов. Особенно это ощущается как раз зимой, когда Венеция окутана туманом (вспоминается и «Смерть в Венеции» Томаса Манна).
Шрайбер плавает по каналам, посещает тот самый "остров мертвецов" Сан-Микеле, где похоронены знаменитые писатели и композиторы, рассматривает шедевры живописи в галерее Академии. Он носит с собой томик Иосифа Бродского, зачитываясь его «Набережной неисцелимых»... И размышляет о природе потери, о горевании и оплакивании, о проработке горя и что с нами происходит, когда мы не хотим говорить и думать о своих потерях.
Люди разучились скорбеть, вытеснили смерть из реальности, разучились справляться с собственным горем и с горем других людей. Автор анализирует мнения различных психологов и философов, так или иначе писавших что-то на эту тему, полемизирует с Фрейдом, приводит цитаты писателей, культурологов и социологов, которые размышляют о современном человеке и обществе. Пандемия и всеобщая обособленность друг от друга, разгоревшаяся война в центре Европы, спустя многие годы после Второй мировой войны, растущие праворадикальные течения... К этому добавляются климатические и природные угрозы из-за дисбаланса в окружающей среде. Потери становятся не только личными, но и коллективными, глобальными. Как справиться с этим всем, преодолевая страх надвигающейся катастрофы и опустошения?
«Перед лицом надвигающегося разрушения надежда заключается в том, чтобы открыть воображение для радикально иных возможностей будущего. В том, чтобы найти способ противостоять собственному отчаянию. Иными словами, в позиции, которая признаёт реальность, скорбь и потерю и, несмотря ни на что, позволяет нам культивировать внимательное отношение к миру»
Мне было интересно читать и бродить с Дэниэлем Шрайбером по древнему городу и по закоулкам его памяти и размышлений, рефлексий и ощущений. Получилась очень личная книга, где с нами делятся историей своей семьи, о предках, бежавших из Волыни в Германию, об отце, который не знал, что его воспитывал отчим... И очень проникновенное глубокое эссе о потерях, которые мы с вами проживаем.
Тронули небольшие 13 историй, которые рассказали работники издательства «Individuum» — от главного редактора до корректора и директора по маркетингу — о своих потерях и пережитом за последние годы, о вынужденной эмиграции, об умерших близких, о потерянном доме.
@Individuumbooks
#книжныйотзыв #эссе
#ДаниэльШрайбер #ВремяПотерь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤45🔥36💔34