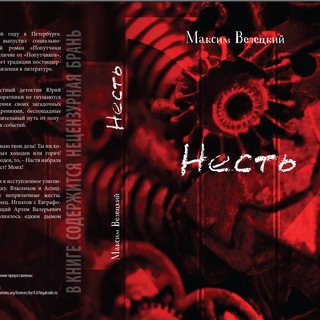Доброго времени суток, уважаемый читатель.
«Здравый смысл и жизненная опытность» удерживает меня от пространных деклараций о том, чему будет посвящен и насколько долго просуществует этот канал. Во многом это зависит от интереса по Вашу, дорогой друг, сторону экрана. Через несколько месяцев будет видно, нужны ли нижеследующие мысли кому-то окромя их сочинителя.
Поскольку моим главным занятием является философия (как чтение, так и преподавание) – вокруг нее я и начну свое телеграмное графоманство. Ну а поскольку только что вышла моя книжка «Несть», то и о ней иногда будет идти речь.
Обратная связь – [email protected]
«Здравый смысл и жизненная опытность» удерживает меня от пространных деклараций о том, чему будет посвящен и насколько долго просуществует этот канал. Во многом это зависит от интереса по Вашу, дорогой друг, сторону экрана. Через несколько месяцев будет видно, нужны ли нижеследующие мысли кому-то окромя их сочинителя.
Поскольку моим главным занятием является философия (как чтение, так и преподавание) – вокруг нее я и начну свое телеграмное графоманство. Ну а поскольку только что вышла моя книжка «Несть», то и о ней иногда будет идти речь.
Обратная связь – [email protected]
Читаю Хайдеггера – «Основные понятия метафизики»
Хайдеггер обращает внимание, что греческое алетейя (на русский переводимая как «истина») не означает истину в немецком понимании: главное, казалось бы, понятие определяется не через себя, а через свою противоположность. Но этой противоположностью является не заблуждение или что-либо еще близкое по смыслу. Алетейе противопоставляется тайна. Греческая истина есть «не-тайна» или «анти-тайна». То, что мы привыкли называть истиной — по-гречески «фюсис», «природа вещей», невысказанная и сокрытая. Фюсис любит скрываться, но логос делает ее (фюсис – женского рода) алетейной (надеюсь, так можно сказать). Алетейа есть процесс, но процесс, в котором фюсис претерпевается логосом помимо своего желания. Мы подчиняем себе фюсис, обнажая ее. В этом, кстати, может статься, выражается первая программа «покорения природы» в подлинном смысле слова.
А что же с нашей «истиной»? Русское слово «истина» происходит от понятия «собственности» - то есть того, какова природа вещей есть на самом деле — в этом смысле она вполне трансцендентна нам. Алетейя всегда есть человеческая алетейя, ибо вне человеческого логоса она невозможна по определению. Русское «истина» составляет свою собственность, а не нашу — мы не являемся ее истцами (истинными владельцами). Наша истина скорее ближе к самой фюсис, а не к ее экспликации и вербализации. «Собственность» в греческом языке тоже является важным понятием — это усия (сущность). Однако истиной является у них не усиа, а алетейя. И это принципиально важно.
Хайдеггер обращает внимание, что греческое алетейя (на русский переводимая как «истина») не означает истину в немецком понимании: главное, казалось бы, понятие определяется не через себя, а через свою противоположность. Но этой противоположностью является не заблуждение или что-либо еще близкое по смыслу. Алетейе противопоставляется тайна. Греческая истина есть «не-тайна» или «анти-тайна». То, что мы привыкли называть истиной — по-гречески «фюсис», «природа вещей», невысказанная и сокрытая. Фюсис любит скрываться, но логос делает ее (фюсис – женского рода) алетейной (надеюсь, так можно сказать). Алетейа есть процесс, но процесс, в котором фюсис претерпевается логосом помимо своего желания. Мы подчиняем себе фюсис, обнажая ее. В этом, кстати, может статься, выражается первая программа «покорения природы» в подлинном смысле слова.
А что же с нашей «истиной»? Русское слово «истина» происходит от понятия «собственности» - то есть того, какова природа вещей есть на самом деле — в этом смысле она вполне трансцендентна нам. Алетейя всегда есть человеческая алетейя, ибо вне человеческого логоса она невозможна по определению. Русское «истина» составляет свою собственность, а не нашу — мы не являемся ее истцами (истинными владельцами). Наша истина скорее ближе к самой фюсис, а не к ее экспликации и вербализации. «Собственность» в греческом языке тоже является важным понятием — это усия (сущность). Однако истиной является у них не усиа, а алетейя. И это принципиально важно.
Ницше говорил, что ученый есть декадент, потому что он не мыслит, но реагирует на чужие мысли, то есть не действует активно , но действует посредством претерпевания. Потому если мы интерпретируем зарубежного философа, исходя из него самого, мы еще остаемся в пространстве филологии. Когда мы интерпретируем философа, исходя из мыслей других философов или сами довершаем то, что он, по нашему мнению, должен был бы сказать, но не сказал — мы находимся на границе между филологией и философией. И лишь когда мы берем наследие философа лишь в качестве отправной точки и сворачиваем с проложенных им рельсов — мы уже становимся философами.
При этом нужно помнить, что знание филологии философии (то есть истории философии) есть необходимое условие для философии. И даже если мы остаемся только лишь филологами, то в этом также нет ничего постыдного. Но «искусство хорошо читать» не есть «искусство хорошо писать» в подлинном смысле слова.
Аналогии с искусством здесь неточны, но все же уместны для пущей иллюстративности. Поэту, если он желает стать настоящим поэтом, необходимо иметь знания в области теории стихосложения и быть знакомым (хотя бы в общем виде) со всей историей поэзии. В процессе изучения потенциальный поэт может сделаться прекрасным литературоведом — ученым. Но поэтом он становится не тогда, когда написана очередная работа по литературоведению, и не тогда, когда под воздействием других поэтом он пишет подражательные стихи, а когда он пишет свободно, когда весь опыт мировой поэзии становится в нем пусть необходимым моментом развития, но все же моментом, а не итогом развития.
При этом нужно помнить, что знание филологии философии (то есть истории философии) есть необходимое условие для философии. И даже если мы остаемся только лишь филологами, то в этом также нет ничего постыдного. Но «искусство хорошо читать» не есть «искусство хорошо писать» в подлинном смысле слова.
Аналогии с искусством здесь неточны, но все же уместны для пущей иллюстративности. Поэту, если он желает стать настоящим поэтом, необходимо иметь знания в области теории стихосложения и быть знакомым (хотя бы в общем виде) со всей историей поэзии. В процессе изучения потенциальный поэт может сделаться прекрасным литературоведом — ученым. Но поэтом он становится не тогда, когда написана очередная работа по литературоведению, и не тогда, когда под воздействием других поэтом он пишет подражательные стихи, а когда он пишет свободно, когда весь опыт мировой поэзии становится в нем пусть необходимым моментом развития, но все же моментом, а не итогом развития.
Национальная философия — это такая философия, которая пусть и работает с уже сформулированными вопросами, но отвечает на них так, как не могла на них ответить чужая философия. Если мы отвечаем на вопросы, поставленные Платоном или Кантом, то мы должны ответить на них так, как Платон и Кант никак не смогли бы ответить, даже если бы захотели, потому что у них не было того инструмента, который есть у нас — наш язык. Нужно ставить задачу не просто сформулировать то, что не сформулировали они, а сформулировать то, что не могли сформулировать они в силу ограниченности их словаря. Найти тот смысл, который они не нашли — это уже подвиг, но еще на грани между филологией и философией. Главное — найти тот смысл, которые они не могли найти, и который не нашли их приемники из числа других национальных философий.
Быть, скажем, пушкиноведом гораздо лучше, чем не быть им. Но быть пушкиноведом не значит быть Пушкиным. В философии любой философ обязан сначала стать «пушкиноведом». Но вовсе не обязательно оставаться только им. По крайней мере, национальная философия возникает не там, где есть только историки философии, а там, где есть и философы как те, кого будут изучать будущие историки философии.
Найти свой собственный язык - и есть задача русской философии. Пока мы пользуемся чужими.
Быть, скажем, пушкиноведом гораздо лучше, чем не быть им. Но быть пушкиноведом не значит быть Пушкиным. В философии любой философ обязан сначала стать «пушкиноведом». Но вовсе не обязательно оставаться только им. По крайней мере, национальная философия возникает не там, где есть только историки философии, а там, где есть и философы как те, кого будут изучать будущие историки философии.
Найти свой собственный язык - и есть задача русской философии. Пока мы пользуемся чужими.
Что-то я отвлекся от нашего Мартына.
В «Предварительном рассмотрении» к «Основным понятиям метафизики» он продолжает про фюсис.
Изначально для греков фюсис, то есть природа и сущее, была не истиной, а только анти-истиной. Истиной же являлся процесс раскрытия тайны фюсис через логос. Таким образом, истина не есть то, что где-то вне нас, а есть наше слово, делающее тайну явью. Поскольку фюсис женщина, мы (это уже моя интерпретация) должны обнажить ее, любящую скрываться, и увидеть в обнаженном виде. Именно это обнажение посредством нашего действия и есть истина.
Фюсис имеет 2 стороны: сущее как совокупность сущих и сущее как таковое, то есть сумма сущих и принцип сущих. Изначально обе стороны были как равно-необходимы (пардон за дефис, это все Хайдеггером навеяно), так и равно-одновременны.
После Платона и Аристотеля первая философия, то есть эпистема, спрашивающая о фюсисе в обоих смыслах (именно в обоих!) постепенно обросла этикой и логикой как отдельными дисциплинами — произошел распад первоначального единства сущего-многого с сущем-как-таковым. У Аристотеля же первая философия должна была заниматься божественным и быть теологией, то есть иметь предметом сущее как таковое — однако только в качестве первой философии, а не философии вообще. На других уровнях (второй и третьей философии) она занимается сущим-многим — и только в единстве этих уровней является полноценной эпистемой.
Термин метафизика — технический — в результате латинских интерпретаций стал пониматься как отход от фюзиса, как оборачивание назад, к первоисточнику. Таким образом метафизика становится не сверх-физикой, а не-физикой, то есть физика как сущее-многое отделяется от физики как сущей-как-таковой.
В «Предварительном рассмотрении» к «Основным понятиям метафизики» он продолжает про фюсис.
Изначально для греков фюсис, то есть природа и сущее, была не истиной, а только анти-истиной. Истиной же являлся процесс раскрытия тайны фюсис через логос. Таким образом, истина не есть то, что где-то вне нас, а есть наше слово, делающее тайну явью. Поскольку фюсис женщина, мы (это уже моя интерпретация) должны обнажить ее, любящую скрываться, и увидеть в обнаженном виде. Именно это обнажение посредством нашего действия и есть истина.
Фюсис имеет 2 стороны: сущее как совокупность сущих и сущее как таковое, то есть сумма сущих и принцип сущих. Изначально обе стороны были как равно-необходимы (пардон за дефис, это все Хайдеггером навеяно), так и равно-одновременны.
После Платона и Аристотеля первая философия, то есть эпистема, спрашивающая о фюсисе в обоих смыслах (именно в обоих!) постепенно обросла этикой и логикой как отдельными дисциплинами — произошел распад первоначального единства сущего-многого с сущем-как-таковым. У Аристотеля же первая философия должна была заниматься божественным и быть теологией, то есть иметь предметом сущее как таковое — однако только в качестве первой философии, а не философии вообще. На других уровнях (второй и третьей философии) она занимается сущим-многим — и только в единстве этих уровней является полноценной эпистемой.
Термин метафизика — технический — в результате латинских интерпретаций стал пониматься как отход от фюзиса, как оборачивание назад, к первоисточнику. Таким образом метафизика становится не сверх-физикой, а не-физикой, то есть физика как сущее-многое отделяется от физики как сущей-как-таковой.
Хайдеггер ставит в упрек традиционной метафизике несколько пороков:
1. Овнешненность. Он считает, что сам факт рассмотрения высших уровней сущего еще не возвращает нас к собственно метафизике. Раз высшее сущее (средневековый бог) является предметом нашего познания, то наша оптика настроена на внешний объект. То есть сама проблема философствования, нашего философствования уступает место субъект-объектным отношениям. Я, по крайней мере, понял это так.
2. Противоречивость самой аристотелевской позиции. Он считает, что Аристотель совершил оплошность, когда смешал 2 разных рода проблем первой философии: сущее-так-таковое (первейшее сущее, первейший род, божественное) с категориями тождества, инаковости, тождественности и прочими. Первое есть сверхчувственное, а второе — нечувственное. А вот как соотносятся между собой сверхчувственное и нечувственное — Стагирит не объясняет. Смешивать же эти две сферы стали в средневековье, благодаря чему метафизика как теология и метафизика как логика стали единой божественной наукой в интерпретации схоластов. Если бог всегда есть самое конкретное, то категории есть самое абстрактное, а потому делать метафизику одновременно вопросом о боге и о понятиях — значит объединять необъединимое.
3. Беспроблемность. Именно благодаря внешнему и противоречивому восприятию метафизики произошли 2 перехода: 1) исчезла проблематичность самой метафизики, проблематичность самой сущности философствования, а также 2) сама она стала исключительно предметом веры, поскольку перестала быть свободным вопрошанием и подчинилась теологии. Ее вторичность сделала ее формой догматизма, отчего в борьбе с ней Канту нетрудно было одержать победу.
1. Овнешненность. Он считает, что сам факт рассмотрения высших уровней сущего еще не возвращает нас к собственно метафизике. Раз высшее сущее (средневековый бог) является предметом нашего познания, то наша оптика настроена на внешний объект. То есть сама проблема философствования, нашего философствования уступает место субъект-объектным отношениям. Я, по крайней мере, понял это так.
2. Противоречивость самой аристотелевской позиции. Он считает, что Аристотель совершил оплошность, когда смешал 2 разных рода проблем первой философии: сущее-так-таковое (первейшее сущее, первейший род, божественное) с категориями тождества, инаковости, тождественности и прочими. Первое есть сверхчувственное, а второе — нечувственное. А вот как соотносятся между собой сверхчувственное и нечувственное — Стагирит не объясняет. Смешивать же эти две сферы стали в средневековье, благодаря чему метафизика как теология и метафизика как логика стали единой божественной наукой в интерпретации схоластов. Если бог всегда есть самое конкретное, то категории есть самое абстрактное, а потому делать метафизику одновременно вопросом о боге и о понятиях — значит объединять необъединимое.
3. Беспроблемность. Именно благодаря внешнему и противоречивому восприятию метафизики произошли 2 перехода: 1) исчезла проблематичность самой метафизики, проблематичность самой сущности философствования, а также 2) сама она стала исключительно предметом веры, поскольку перестала быть свободным вопрошанием и подчинилась теологии. Ее вторичность сделала ее формой догматизма, отчего в борьбе с ней Канту нетрудно было одержать победу.
Широко известны слова Гераклита о тайне, сокрытости и прочих подобных категориях: «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» (природа любит скрываться) и «ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων» (тайная гармония явной лучше).
Это крайне интересно. Можно говорить об онтологии тайны по Гераклиту – это нечто совершенно отличное от эллинского взгляда на жизнь времен классики. Для Платона или Аристотеля такой взгляд на философию (теологию) был совершенно немыслим. Вспомним хотя бы аналогию Блага и солнца, особенно интенсивно проводимую Платоном в «Государстве». Благо всегда видно умным зрением, равно как солнце видно зрением чувственным.
А вот для Гераклита тайна – это онтологическая категория, приводящая мир в движение посредством фиксации противоположностей и, одновременно, сокрытия от них факт их сущностного единства.
Для нас, знакомых со всей диалектической философией, факт единства и борьбы противоположностей понятен – но только тогда, когда мы сами стоим «над» схваткой и извне понимаем единство ее участников: действительно, в этом случае день противоположен ночи, бодрствование – сну, а Дионис – Аиду (это все примеры из Гераклита). Однако указание на такое единство становится для нас почти оскорбительным, когда речь идет о нашей собственной борьбе, о нашем собственном антагонисте – реальном или виртуальном.
Для иллюстрации сюда наилучшим образом подходит «концепция тени» Юнга: именно те персонажи, качества, поступки, образы жизни и взгляды кажутся нам наиболее враждебными, которые мы сами отрицаем в себе, но которые в нас присутствуют. Чопорная мать семейства всей душой презирает развращенных и раскрепощенных женщин – потому что сама не может позволить себе веселую жизнь. Также и наоборот: если шлюховатая особа люто ненавидит (именно люто и именно ненавидит) благочинных замужних женщин, то, скорее всего, это тоже «тень»: ненавистью камуфлируется зависть – «я бы и сама так хотела – чтобы было уважение, хороший муж и детки – но уже поздняк». То есть одно дело не принимать чужой образ жизни, а другое – возмущаться ему. Вот об этом Юнг.
Это крайне интересно. Можно говорить об онтологии тайны по Гераклиту – это нечто совершенно отличное от эллинского взгляда на жизнь времен классики. Для Платона или Аристотеля такой взгляд на философию (теологию) был совершенно немыслим. Вспомним хотя бы аналогию Блага и солнца, особенно интенсивно проводимую Платоном в «Государстве». Благо всегда видно умным зрением, равно как солнце видно зрением чувственным.
А вот для Гераклита тайна – это онтологическая категория, приводящая мир в движение посредством фиксации противоположностей и, одновременно, сокрытия от них факт их сущностного единства.
Для нас, знакомых со всей диалектической философией, факт единства и борьбы противоположностей понятен – но только тогда, когда мы сами стоим «над» схваткой и извне понимаем единство ее участников: действительно, в этом случае день противоположен ночи, бодрствование – сну, а Дионис – Аиду (это все примеры из Гераклита). Однако указание на такое единство становится для нас почти оскорбительным, когда речь идет о нашей собственной борьбе, о нашем собственном антагонисте – реальном или виртуальном.
Для иллюстрации сюда наилучшим образом подходит «концепция тени» Юнга: именно те персонажи, качества, поступки, образы жизни и взгляды кажутся нам наиболее враждебными, которые мы сами отрицаем в себе, но которые в нас присутствуют. Чопорная мать семейства всей душой презирает развращенных и раскрепощенных женщин – потому что сама не может позволить себе веселую жизнь. Также и наоборот: если шлюховатая особа люто ненавидит (именно люто и именно ненавидит) благочинных замужних женщин, то, скорее всего, это тоже «тень»: ненавистью камуфлируется зависть – «я бы и сама так хотела – чтобы было уважение, хороший муж и детки – но уже поздняк». То есть одно дело не принимать чужой образ жизни, а другое – возмущаться ему. Вот об этом Юнг.
Дорогой друг, коллега – или просто добрый знакомец! Насколько я знаю устройство Телеграма, сейчас Вы будете насильственно инкорпорированы в подписчики этого канала – так здесь выглядит «приглашение». Прошу не сильно серчать, если таковое придется Вам не по душе. Но ежели придется, читайте на здоровье.
Продолжая тему Гераклита и Юнга.
Заметим, что признать в своем антагонисте своего двойника, близнеца или соратника куда труднее, чем обнаружить абстрактно-логическое единство жизни и смерти. Для одной из сторон борьба (реальная, ментальная, очная, заочная - любая) не является проявлением диалектики: напротив, она нацелена на победу и не приемлет мысль о том, что сама война рождает вещи: сама постановка вопроса несет в себе отпечаток кощунства, принижая горесть потерь и сладость временных успехов. «Я честная женщина, я сроду себя блюла – как это я едина и гармонизирована с какими-то простииииитутками?». Диалектика диалектикой – а антагонизм абсолютен, ежели мы является стороной конфликта. Так природа скрывает себя от нас.
Также и для Диониса кощунственно сравнение с Аидом: человек, ставший Богом, смертный, преодолевший смерть, спаситель, страдающий за людей и любящий людей – готов ли Он согласиться узнать своего двойника в хозяине хтонического мира, мира, в котором даже герои чувствуют себя несчастными? Дионис, оргиастический весенний Бог, оплодотворяющий Мать-Землю, Сотер (спаситель), Либер (освободитель) – и Аид, превращающий посмертное существование в юдоль скорби, приносящий зиму и похищающий эту самую Мать-Землю.
Юнг лишь спроецировал на отдельного человека то, что Гераклит сказал о природе в целом: становление питается враждой таких антагонистов, которые настолько увлечены ненавистью друг к другу, что не замечают свою двойственность. «Согласие неявное явного крепче» (иной перевод «тайной гармонии») - именно так, скрывая от антагонистов их сущностное единство, природа всего, любящая скрываться, ввергает себя в становление.
Заметим, что признать в своем антагонисте своего двойника, близнеца или соратника куда труднее, чем обнаружить абстрактно-логическое единство жизни и смерти. Для одной из сторон борьба (реальная, ментальная, очная, заочная - любая) не является проявлением диалектики: напротив, она нацелена на победу и не приемлет мысль о том, что сама война рождает вещи: сама постановка вопроса несет в себе отпечаток кощунства, принижая горесть потерь и сладость временных успехов. «Я честная женщина, я сроду себя блюла – как это я едина и гармонизирована с какими-то простииииитутками?». Диалектика диалектикой – а антагонизм абсолютен, ежели мы является стороной конфликта. Так природа скрывает себя от нас.
Также и для Диониса кощунственно сравнение с Аидом: человек, ставший Богом, смертный, преодолевший смерть, спаситель, страдающий за людей и любящий людей – готов ли Он согласиться узнать своего двойника в хозяине хтонического мира, мира, в котором даже герои чувствуют себя несчастными? Дионис, оргиастический весенний Бог, оплодотворяющий Мать-Землю, Сотер (спаситель), Либер (освободитель) – и Аид, превращающий посмертное существование в юдоль скорби, приносящий зиму и похищающий эту самую Мать-Землю.
Юнг лишь спроецировал на отдельного человека то, что Гераклит сказал о природе в целом: становление питается враждой таких антагонистов, которые настолько увлечены ненавистью друг к другу, что не замечают свою двойственность. «Согласие неявное явного крепче» (иной перевод «тайной гармонии») - именно так, скрывая от антагонистов их сущностное единство, природа всего, любящая скрываться, ввергает себя в становление.
Завершу тему сокрытия у Гераклита – с юнговскими иллюстрациями.
Природа человека (отдельного) ему самому неизвестна, поскольку его личность не интегрирует всю свою сущность, а вытесняет ее вовне, в абстрактную или конкретную противоположность, с которой у персоны происходит та или иная форма вражды: «Враждующее соединяется, из расходящихся-прекраснейшая гармония, и все происходит через борьбу», как у «лука и лиры», поскольку борьба «отец всех вещей», но «с чем люди имеют наиболее непрерывную связь,- со [всеуправляющим] логосом они враждуют, и то, с чем они встречаются ежедневно, кажется им чуждым», поскольку «природа любит скрываться», утаивая «тайное согласие», между тем как «логос всеобщ», а «поэтому необходимо следовать всеобщему» (все что в кавычках – цитаты из Гераклита).
Поскольку тайна для Гераклита – не гносеологическая, а онтологическая категория, он непрестанно указывает на ее доступность. Природа вещей, Логос, Зевс, Аполлон, «чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает»: тайное и сокрытое никак не противится открытию, «алетейе», но и не стремятся к обнаружению.
Тайна природы состоит в том, что она, являя разуму противоположности и обнаруж ивая свои законы – короче, ничего не тая – таинственно гармонизирует логосом то, что невозможно гармонизировать логикой…
И вот я зашел в тупик, потому что мой пример с человеком есть релятивизм в гносеологию ))
Но самое важное здесь – то, что у Гераклита тайна и сокрытое становятся не отрицательными, а утвердительными категориями. Мы можем говорить о катафатике тайны.
Классика и ранний эллинизм совсем не воспринимали эту тему, но она обрела новое дыхание в неоплатонизме. Особенно – у Дамаския, о чем я еще напишу в свое время.
Природа человека (отдельного) ему самому неизвестна, поскольку его личность не интегрирует всю свою сущность, а вытесняет ее вовне, в абстрактную или конкретную противоположность, с которой у персоны происходит та или иная форма вражды: «Враждующее соединяется, из расходящихся-прекраснейшая гармония, и все происходит через борьбу», как у «лука и лиры», поскольку борьба «отец всех вещей», но «с чем люди имеют наиболее непрерывную связь,- со [всеуправляющим] логосом они враждуют, и то, с чем они встречаются ежедневно, кажется им чуждым», поскольку «природа любит скрываться», утаивая «тайное согласие», между тем как «логос всеобщ», а «поэтому необходимо следовать всеобщему» (все что в кавычках – цитаты из Гераклита).
Поскольку тайна для Гераклита – не гносеологическая, а онтологическая категория, он непрестанно указывает на ее доступность. Природа вещей, Логос, Зевс, Аполлон, «чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает»: тайное и сокрытое никак не противится открытию, «алетейе», но и не стремятся к обнаружению.
Тайна природы состоит в том, что она, являя разуму противоположности и обнаруж ивая свои законы – короче, ничего не тая – таинственно гармонизирует логосом то, что невозможно гармонизировать логикой…
И вот я зашел в тупик, потому что мой пример с человеком есть релятивизм в гносеологию ))
Но самое важное здесь – то, что у Гераклита тайна и сокрытое становятся не отрицательными, а утвердительными категориями. Мы можем говорить о катафатике тайны.
Классика и ранний эллинизм совсем не воспринимали эту тему, но она обрела новое дыхание в неоплатонизме. Особенно – у Дамаския, о чем я еще напишу в свое время.
https://libcat.ru/uploads/posts/book/martin-hajdegger-osnovnye-ponyatiya-metafiziki-mir-konechnost-odinochestvo.jpg
Продолжаю читать Хайдеггера – «Основные понятия метафизики». Дошел до середины первой части.
Фуххх. Ну, если вкратце – то…
Автор начинает с понятий «настроения» и «пробуждения». У нас должно быть настроение к философствованию, но сейчас его нет ни у кого. Соответственно, такое настроение нужно пробудить. Однако трудно утверждать, что такого настроения у нас вообще нет, потому что о настроении нельзя однозначно судить — наличествует оно или нет. Хайдеггер проводит различие между внешними и внутренними состояниями. Внешний предмет может быть наличным или не-наличным, а наше вот-бытие не противоположно от-бытию. От-бытие — это что-то типа потенции у Аристотеля: то, что чего-то нет, еще не означает, что его вообще нет — оно не есть, но оно в нас как от-бытие, а потому оно есть, поскольку есть тот, кто от-бытием обладает. Как возможность, как потенция нашей внутренней жизни оно может стать вот-бытием. Потому нельзя сказать, наличествует или неналичествует в нас настроение. Более того, не стоит пытаться выяснить, пробуждено ли такое настроение, поскольку, будучи осознанным, настроение перестанет быть настроением, то есть видом чувства, и станет, имхо, достоянием мышления. Хайдеггер указывает на то, что мышление, воление и чувства признаются 3 составляющими человека согласно мнению психологов. Привет Платону.
Настроение не является Чем-то сущим, оно является Как. Здесь есть определенная связь с интенциональностью феноменологов — когда наш компаньон находится в определенном настроении, он автоматически вовлекает в него нас, потому его настроение уже не является только его, а является вот-бытием-с-другим, причем мы не перенимаем его настроение, но вливаемся в него как в уже наличное. Соответственно, настроение, определяя как-бытие, становится как бы субстратом вот-бытия, через которое вот-бытие становится определенным, соответствующим настроению. И именно в настроении мы встречаем себя как вот-бытие, поскольку оно есть только среда (и форма, как я понял) для мышления и воления. Здесь интересно то, что, в отличие от Платона, настроение не есть форма патоса или, напротив, обуздание патоса фронесисом, но условие самого фронесиса и тюмоса, в которых последние осознают себя вот-бытием. Мы пронизаны настроением, считает Хайдеггер. А потому нужно стать настроенным в акте воления, а не в акте мышления.
Но это только я так понял – а поскольку понять этого товарища весьма затруднительно, то буду рад поправкам.
Что он вообще курил?
Продолжаю читать Хайдеггера – «Основные понятия метафизики». Дошел до середины первой части.
Фуххх. Ну, если вкратце – то…
Автор начинает с понятий «настроения» и «пробуждения». У нас должно быть настроение к философствованию, но сейчас его нет ни у кого. Соответственно, такое настроение нужно пробудить. Однако трудно утверждать, что такого настроения у нас вообще нет, потому что о настроении нельзя однозначно судить — наличествует оно или нет. Хайдеггер проводит различие между внешними и внутренними состояниями. Внешний предмет может быть наличным или не-наличным, а наше вот-бытие не противоположно от-бытию. От-бытие — это что-то типа потенции у Аристотеля: то, что чего-то нет, еще не означает, что его вообще нет — оно не есть, но оно в нас как от-бытие, а потому оно есть, поскольку есть тот, кто от-бытием обладает. Как возможность, как потенция нашей внутренней жизни оно может стать вот-бытием. Потому нельзя сказать, наличествует или неналичествует в нас настроение. Более того, не стоит пытаться выяснить, пробуждено ли такое настроение, поскольку, будучи осознанным, настроение перестанет быть настроением, то есть видом чувства, и станет, имхо, достоянием мышления. Хайдеггер указывает на то, что мышление, воление и чувства признаются 3 составляющими человека согласно мнению психологов. Привет Платону.
Настроение не является Чем-то сущим, оно является Как. Здесь есть определенная связь с интенциональностью феноменологов — когда наш компаньон находится в определенном настроении, он автоматически вовлекает в него нас, потому его настроение уже не является только его, а является вот-бытием-с-другим, причем мы не перенимаем его настроение, но вливаемся в него как в уже наличное. Соответственно, настроение, определяя как-бытие, становится как бы субстратом вот-бытия, через которое вот-бытие становится определенным, соответствующим настроению. И именно в настроении мы встречаем себя как вот-бытие, поскольку оно есть только среда (и форма, как я понял) для мышления и воления. Здесь интересно то, что, в отличие от Платона, настроение не есть форма патоса или, напротив, обуздание патоса фронесисом, но условие самого фронесиса и тюмоса, в которых последние осознают себя вот-бытием. Мы пронизаны настроением, считает Хайдеггер. А потому нужно стать настроенным в акте воления, а не в акте мышления.
Но это только я так понял – а поскольку понять этого товарища весьма затруднительно, то буду рад поправкам.
Что он вообще курил?