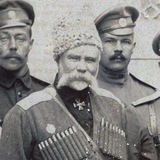Наш канал посвящен вопросам сохранения историко-культурного наследия казаков, и терских казаков в частности.
Мы стараемся не лезть в вопросы политики и тем более комментировать действия каких-либо политических персон. Однако есть обстоятельства, которые говорят о том, что исторические знания необходимы не только ученым, студентам и просто увлекающимся, но и тем, кто профессионально занимается политикой.
В мире нет ничего нового. Все системы взаимодействия человека с человеком, и человека с государством остаются практически неизменными, поэтому знания о прошлом, о комплексе ошибок, поражений, экспериментов и побед, крайне важны, чтобы с учетом этого всего, не тиражировать тупиковые ходы. Потому что по ним до нас уже не раз ходили.
Мне хотелось бы высказать своё мнение по поводу обсуждаемого в казачьих пабликах ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества», в соответствии с которым для членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Российской Федерации, наступает пора определиться. Государственная власть ставит жесткие условия: если ты казак, то ты должен служить. Как минимум, в мобилизационном резерве.
Вроде бы всё правильно. Казаки исстари служили, и значит, государство возвращает принцип отношений с казачьим миром в историческую плоскость, регламентируя эти отношения с правовой точки зрения.
И пишут некоторые личности восторженные комментарии, что всё теперь у казаков будет, как при царе-батюшке.
Не будет.
Объяснения, почему я так думаю, ниже…
Мы стараемся не лезть в вопросы политики и тем более комментировать действия каких-либо политических персон. Однако есть обстоятельства, которые говорят о том, что исторические знания необходимы не только ученым, студентам и просто увлекающимся, но и тем, кто профессионально занимается политикой.
В мире нет ничего нового. Все системы взаимодействия человека с человеком, и человека с государством остаются практически неизменными, поэтому знания о прошлом, о комплексе ошибок, поражений, экспериментов и побед, крайне важны, чтобы с учетом этого всего, не тиражировать тупиковые ходы. Потому что по ним до нас уже не раз ходили.
Мне хотелось бы высказать своё мнение по поводу обсуждаемого в казачьих пабликах ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества», в соответствии с которым для членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Российской Федерации, наступает пора определиться. Государственная власть ставит жесткие условия: если ты казак, то ты должен служить. Как минимум, в мобилизационном резерве.
Вроде бы всё правильно. Казаки исстари служили, и значит, государство возвращает принцип отношений с казачьим миром в историческую плоскость, регламентируя эти отношения с правовой точки зрения.
И пишут некоторые личности восторженные комментарии, что всё теперь у казаков будет, как при царе-батюшке.
Не будет.
Объяснения, почему я так думаю, ниже…
1. Все высказывания ряда чиновников о том, что казаки – это «служивое сословие» с правовой точки зрения бессмысленны. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 24 ноября 1917 года является правовым актом, ставящим точку в этом вопросе. Иных правовых актов, возвращающих сословность в систему государственной жизни России, не было. Кстати говоря, казаки довольно спокойно отнеслись к вопросу ликвидации сословий, поскольку с этой отменой была автоматически отменена и обязательная служба за свой счёт. Очень обременительная, кстати говоря, для казачьих хозяйств. И этот фактор объясняет то, почему в феврале 1917 года казаки очень спокойно отнеслись к крушению самодержавной монархии. Как и спокойно и даже с радостью отнеслись к заигрываниям большевиков, обещавших то, что советская власть отменяет для казаков службу за свой счёт, и даёт право на беспрепятственный выезд с территории станицы в любую точку России. Этой возможности до 1917 года у казаков не было, почему и называли их некоторые дореволюционные авторы «последними крепостными России». Это хороший штрих в отношении высказываний о том, что казак без службы не мог жить. Мог, но не давали. При этом, конечно же, была и войсковая, и семейная традиция, и память о героях, и поиски славы. Но восторга от обременений тоже особых не было.
2. Отношения государства и казачьих войск в имперский период не были безоблачными. Не буду писать о восстаниях. Это слишком очевидные примеры. Но вызывались они не столько происками иностранщины. Были и серьезные внутренние причины. Казаков с эпохи Петра Первого практиковали в насильственном переселении. Так было образовано Аграханское казачье войско, значительная часть казаков которого даже не в боях погибла, а умерла от гиблого климата. В царствование Екатерины Второй донские казаки, служившие на тогда пограничной Кубани, были ошарашены перспективой невозможности возвращения домой в связи с монаршей милостью остаться на Кавказе навсегда. Дабы прекратить возмущение казачьим лидерам рвали ноздри, били кнутом и отправляли в бесплатное путешествие в Сибирь, казаков же на Кубань всё-таки водворили, правда в меньшем, чем предполагалось, количестве. И таких примеров было много.
К историческому опыту надо относиться аккуратно, и тем более, ни в коем случае нельзя брать за эталон системы отношений между казаками и государственной властью, сложившиеся до 1917 года.
2. Отношения государства и казачьих войск в имперский период не были безоблачными. Не буду писать о восстаниях. Это слишком очевидные примеры. Но вызывались они не столько происками иностранщины. Были и серьезные внутренние причины. Казаков с эпохи Петра Первого практиковали в насильственном переселении. Так было образовано Аграханское казачье войско, значительная часть казаков которого даже не в боях погибла, а умерла от гиблого климата. В царствование Екатерины Второй донские казаки, служившие на тогда пограничной Кубани, были ошарашены перспективой невозможности возвращения домой в связи с монаршей милостью остаться на Кавказе навсегда. Дабы прекратить возмущение казачьим лидерам рвали ноздри, били кнутом и отправляли в бесплатное путешествие в Сибирь, казаков же на Кубань всё-таки водворили, правда в меньшем, чем предполагалось, количестве. И таких примеров было много.
К историческому опыту надо относиться аккуратно, и тем более, ни в коем случае нельзя брать за эталон системы отношений между казаками и государственной властью, сложившиеся до 1917 года.
3. Процессы показачивания и расказачивания происходили на протяжении двух веков, но справедливости ради стоит сказать, что и власть не только ломала казаков через колено, но и пыталась регулировать процессы казачьей жизни с точки зрения учитывания казачьих интересов.
В допетровский период отношения казаков и Москвы строились по принципу взаимных обязательств. Мы вам – участие в походах, несанкционированные вылазки против недружественных соседей, а вы нам порох, свинец, муку, сукно и вино.
В имперский период Петербург уже юридически закреплял за казачьими войсками земли (фактически ими обжитые), что давало казачьим атаманам возможность поддержания внутренней хозяйственно-административной системы. Но ведь кроме земли за казачьими войсками закреплялись рыбные и соляные промыслы, а в Терском войске еще и нефтяные промыслы, что делало терцев по уровню войсковых капиталов вторыми после Донского войска.
Почему-то именно этот опыт не учитывается сейчас никак.
4. Государственная власть до 1917 года, несмотря на жесткое правовое регламентирование казачьей жизни, в лице казачьей интеллигенции видела реальных лоббистов казачьих интересов. И могла корректировать свои действия с учетом поступивших от казаков вопросов. Правда, далеко не всегда это происходило, но и отмахнуться от казачьей интеллигенции, как от назойливой мухи, официальный Петербург тоже не мог. Вот этой части традиционной когда-то системы взаимодействия государства и казаков аналогов в современном мире нет совсем. Авторы законодательной инициативы по законопроекту, упоминаемому выше, Долуда и Водолацкий, проводниками интересов казачьего мира (лоббистами), увы, не являются, как являлись когда-то Харламов, Бардиж, Щербина, Караулов и другие. Да и казачий мир современности показывает невозможность конструировать собственные системы отстаивания казачьих интересов, как и сугубо собственного мира, так и в контексте общегосударственных задач. Вполне понимая логику политической игры (иметь в зачете вполне патриотическую, полностью лояльную, прогнозируемую, но и вместе с тем, полностью несамостоятельную систему), скажу, что эта игра, возможно, хороша с точки зрения тактики, но это никудышная стратегия. Пластилин бывает одинаково мягким в любых руках.
В допетровский период отношения казаков и Москвы строились по принципу взаимных обязательств. Мы вам – участие в походах, несанкционированные вылазки против недружественных соседей, а вы нам порох, свинец, муку, сукно и вино.
В имперский период Петербург уже юридически закреплял за казачьими войсками земли (фактически ими обжитые), что давало казачьим атаманам возможность поддержания внутренней хозяйственно-административной системы. Но ведь кроме земли за казачьими войсками закреплялись рыбные и соляные промыслы, а в Терском войске еще и нефтяные промыслы, что делало терцев по уровню войсковых капиталов вторыми после Донского войска.
Почему-то именно этот опыт не учитывается сейчас никак.
4. Государственная власть до 1917 года, несмотря на жесткое правовое регламентирование казачьей жизни, в лице казачьей интеллигенции видела реальных лоббистов казачьих интересов. И могла корректировать свои действия с учетом поступивших от казаков вопросов. Правда, далеко не всегда это происходило, но и отмахнуться от казачьей интеллигенции, как от назойливой мухи, официальный Петербург тоже не мог. Вот этой части традиционной когда-то системы взаимодействия государства и казаков аналогов в современном мире нет совсем. Авторы законодательной инициативы по законопроекту, упоминаемому выше, Долуда и Водолацкий, проводниками интересов казачьего мира (лоббистами), увы, не являются, как являлись когда-то Харламов, Бардиж, Щербина, Караулов и другие. Да и казачий мир современности показывает невозможность конструировать собственные системы отстаивания казачьих интересов, как и сугубо собственного мира, так и в контексте общегосударственных задач. Вполне понимая логику политической игры (иметь в зачете вполне патриотическую, полностью лояльную, прогнозируемую, но и вместе с тем, полностью несамостоятельную систему), скажу, что эта игра, возможно, хороша с точки зрения тактики, но это никудышная стратегия. Пластилин бывает одинаково мягким в любых руках.
Предложения по привязке казаков к системе мобилизационного резерва уже не являются новыми, они витали в нашем пространстве много лет, и начали реализовываться с точки зрения практики в 2021 году. Сама идея была воспринята многими казаками если не всегда с восторгом, то в любом случае с интересом. Отказывающихся не было. Но и вопросов, очень правильных и практических (как пример, предложение предоставить план боевой учебы на сборах, чтобы не ехать убивать время и пить водку, а заниматься делом) было намного больше, чем ответов. Кстати, и практика первых сборов была тоже, мягко говоря, не на высоте.
Проведены ли работы над ошибками? Кто будет отвечать на серьезные вопросы казаков, большинство из которых нельзя обвинить в отсутствии любви к Родине? Более того, многие доказали это в реальных боевых действиях. Вопросы то от них не иссякли, они стали еще жёстче и конкретнее.
В проекте Федерального закона теперь прописана карательная «страшилка» о снятии с должности атамана «в случае систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы».
Расшифровываю: за неполученные ответы на вопросы, заданные казаками «ответственным товарищам», будут отдуваться атаманы.
Разве можно расценивать такой подход, как конструктивный?
Необходима проработка системы взаимообязывающих отношений между государственной властью и казачьими войсками. И в проработке этой системы помогут не сказочки из якобы лубочной казачьей жизни, которая так нравится некоторым современным теоретикам, а реальный исторический материал, который покажет, по какому пути ни в коем случае идти нельзя, а какой приведет, возможно, к действительно яркому результату.
У нас в реальности есть два пути. Первый - это пойти государственной власти по направлению создания из казачьих войск самодостаточных административно-хозяйственных субъектов с учетом исторического опыта и современных правовых и политических реалий, которые станут действительно соработниками в деле конструирования системы безопасности России, второй – это принять закон с односторонней ответственностью и поставить крест на могиле казачьего реестра. О котором, кстати говоря, почти никто уже не жалеет…
Проведены ли работы над ошибками? Кто будет отвечать на серьезные вопросы казаков, большинство из которых нельзя обвинить в отсутствии любви к Родине? Более того, многие доказали это в реальных боевых действиях. Вопросы то от них не иссякли, они стали еще жёстче и конкретнее.
В проекте Федерального закона теперь прописана карательная «страшилка» о снятии с должности атамана «в случае систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы».
Расшифровываю: за неполученные ответы на вопросы, заданные казаками «ответственным товарищам», будут отдуваться атаманы.
Разве можно расценивать такой подход, как конструктивный?
Необходима проработка системы взаимообязывающих отношений между государственной властью и казачьими войсками. И в проработке этой системы помогут не сказочки из якобы лубочной казачьей жизни, которая так нравится некоторым современным теоретикам, а реальный исторический материал, который покажет, по какому пути ни в коем случае идти нельзя, а какой приведет, возможно, к действительно яркому результату.
У нас в реальности есть два пути. Первый - это пойти государственной власти по направлению создания из казачьих войск самодостаточных административно-хозяйственных субъектов с учетом исторического опыта и современных правовых и политических реалий, которые станут действительно соработниками в деле конструирования системы безопасности России, второй – это принять закон с односторонней ответственностью и поставить крест на могиле казачьего реестра. О котором, кстати говоря, почти никто уже не жалеет…
Дорогие друзья!
Терские сборники находят своих читателей, и процесс этот постоянен. Остатки мизерные.
Но и бывает в жизни счастье. Мы еще в прошлом году отдали последние (как мы думали) экземпляры 5-го выпуска, но сегодня у нас появилась еще одна упаковка.
Итак, 5 выпуска 10 экз., 8 выпуска 20 экз., 9 выпуска 20 экз., 11 выпуска 5 экз. Цена за каждую книгу 600 рублей. Дешевле придумать невозможно.
Торопитесь!
Терские сборники находят своих читателей, и процесс этот постоянен. Остатки мизерные.
Но и бывает в жизни счастье. Мы еще в прошлом году отдали последние (как мы думали) экземпляры 5-го выпуска, но сегодня у нас появилась еще одна упаковка.
Итак, 5 выпуска 10 экз., 8 выпуска 20 экз., 9 выпуска 20 экз., 11 выпуска 5 экз. Цена за каждую книгу 600 рублей. Дешевле придумать невозможно.
Торопитесь!
"Ребенок родится на свет с широкими ладонями, с толстенькими пальцами рук, с прекрасно развитыми ноздрями, с несколько морщинистым лицом, в нем нетрудно угадать будущего работника и скромного труженика (...) Ребенок воспитывается в труде и в нем научается искать для себя удовольствий. Отсюда понятно, почему 6-8 летнее дитя любит домашнюю работу и весьма гордится своим участием в работе со взрослыми. 10-12 летний подросток считается уже важной рабочей силой, подмогой, а 16-летний парень работает наравне с взрослыми, не желая унизить себя перед ними, особенно перед бабами". - Петр Семенов "Станица Слепцовская Терской области Владикавказского округа". - "Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа", Тифлис, 1886. Переиздано в "Терском сборнике", выпуск 7.
Мы продолжаем работу над расшифровкой рукописи полковника Г.С. Хутиева о событиях на Тереке в 1917-1918 годах, и по сложившейся традиции выкладываем небольшие отрывки. Полная версия воспоминаний будет в 12 выпуске Терского сборника.
Итак, октябрь 1918 года. Ессентуки и Пятигорск.
Записи о терроре…
В Ессентуках…на вокзале собрался многочисленный митинг с участием Красной армии. На этом митинге зверски был растерзан представитель ессентукских казаков в совдепе В.И. Чугуевский, который по делам лазарета, в котором состоял комиссаром, случайно явился на вокзал. Несколько человек, возражавшие против советской власти, и главным образом советских порядков, тут же были арестованы, отведены в Английский парк и там расстреляны. В числе последних был иногородний Семен Козьмич Ельников, который на митинге выступал смело, громя грабительскую политику советов, и вообще держался с замечательным достоинством и умер так, геройски, не прося ни суда, ни милости, ни пощады. Он попросил только разрешения помолиться, а затем выкурить папиросу, после чего смело стал под расстрел. В тот же день в Ессентуках на улицах убиты казаки: Величко, Гаевский, Светашов, штабс-капитан Попов и др. Часть ушедших в день нападения казаков вернулась обратно в станицу. Некоторых из них большевики расстреляли, а часть арестовали и отправили в пятигорскую тюрьму.
К этому времени, а именно в ночь с 19 на 20 октября, относится расстрел 112 заложников в Пятигорске. В числе расстрелянных были: генералы Радко Дмитриев, Рузский, полковник С.Г. Бочаров, бывший министр Рухлов. Из простых казаков из Ессентукской станицы в качестве заложников были расстреляны: А.М. Прокопов, Ф. Прокофьев, Ипатий Прокофьев. От расстрела спасся бегством, непосредственно с места казни, казак Е.З. Симонов, которого родные несколько месяцев считали расстрелянным и служили по нем панихиды. Расстрелы производились за городским кладбищем под Машуком. Там вырыты были большие ямы. На расстрел приводили группами по 10–15 человек. Смертники ставились над ямой, куда сталкивались после расстрела. Попавшие в яму, еще будучи живыми, засыпались под угрозой церковным сторожем землей.
Итак, октябрь 1918 года. Ессентуки и Пятигорск.
Записи о терроре…
В Ессентуках…на вокзале собрался многочисленный митинг с участием Красной армии. На этом митинге зверски был растерзан представитель ессентукских казаков в совдепе В.И. Чугуевский, который по делам лазарета, в котором состоял комиссаром, случайно явился на вокзал. Несколько человек, возражавшие против советской власти, и главным образом советских порядков, тут же были арестованы, отведены в Английский парк и там расстреляны. В числе последних был иногородний Семен Козьмич Ельников, который на митинге выступал смело, громя грабительскую политику советов, и вообще держался с замечательным достоинством и умер так, геройски, не прося ни суда, ни милости, ни пощады. Он попросил только разрешения помолиться, а затем выкурить папиросу, после чего смело стал под расстрел. В тот же день в Ессентуках на улицах убиты казаки: Величко, Гаевский, Светашов, штабс-капитан Попов и др. Часть ушедших в день нападения казаков вернулась обратно в станицу. Некоторых из них большевики расстреляли, а часть арестовали и отправили в пятигорскую тюрьму.
К этому времени, а именно в ночь с 19 на 20 октября, относится расстрел 112 заложников в Пятигорске. В числе расстрелянных были: генералы Радко Дмитриев, Рузский, полковник С.Г. Бочаров, бывший министр Рухлов. Из простых казаков из Ессентукской станицы в качестве заложников были расстреляны: А.М. Прокопов, Ф. Прокофьев, Ипатий Прокофьев. От расстрела спасся бегством, непосредственно с места казни, казак Е.З. Симонов, которого родные несколько месяцев считали расстрелянным и служили по нем панихиды. Расстрелы производились за городским кладбищем под Машуком. Там вырыты были большие ямы. На расстрел приводили группами по 10–15 человек. Смертники ставились над ямой, куда сталкивались после расстрела. Попавшие в яму, еще будучи живыми, засыпались под угрозой церковным сторожем землей.
Михаил Александрович Караулов…
Личность для Терека, и для России в целом, и талантливая, и противоречивая, и трагичная…
Он был одним из тех, кто 3 марта (ст.ст.) 1917 года вместе с А.Ф. Керенским прибыл к Великому Князю Михаилу Александровичу, где думцы уговорили младшего брата Николая II не брать на себя бремя всероссийской власти.
Он же прибыл спустя несколько дней на Терек с мандатом комиссара Временного правительства.
И он же был избран при всеобщем ликовании терскими казаками ровно 107 лет назад, 27 марта 1917 года, первым в России избранным Кругом войсковым атаманом.
Г.С. Хутиев в своих воспоминаниях довольно подробно описывает слабые и сильные стороны атаманства Караулова. Его строки не «прилизаны», в них описание хаоса, горечи от потерь и развала. Здесь взлет и падение атамана, искренне верившего и искренне когда-то заблуждавшегося.
У полковника Генерального штаба можно поучиться принципиальности и беспристрастности…
Вот несколько фрагментов, где он касается личности и судьбы Михаила Александровича…
Личность для Терека, и для России в целом, и талантливая, и противоречивая, и трагичная…
Он был одним из тех, кто 3 марта (ст.ст.) 1917 года вместе с А.Ф. Керенским прибыл к Великому Князю Михаилу Александровичу, где думцы уговорили младшего брата Николая II не брать на себя бремя всероссийской власти.
Он же прибыл спустя несколько дней на Терек с мандатом комиссара Временного правительства.
И он же был избран при всеобщем ликовании терскими казаками ровно 107 лет назад, 27 марта 1917 года, первым в России избранным Кругом войсковым атаманом.
Г.С. Хутиев в своих воспоминаниях довольно подробно описывает слабые и сильные стороны атаманства Караулова. Его строки не «прилизаны», в них описание хаоса, горечи от потерь и развала. Здесь взлет и падение атамана, искренне верившего и искренне когда-то заблуждавшегося.
У полковника Генерального штаба можно поучиться принципиальности и беспристрастности…
Вот несколько фрагментов, где он касается личности и судьбы Михаила Александровича…
М.А. Караулов, казак станицы Тарской Терского войска. Окончив гимназию, прослушав курс лекций в университете, он поступает вольноопределяющимся в 1-й Кизляро-Гребенской полк. Выдержав экстерном экзамен на офицерский чин при Николаевском кавалерийском училище, он производится в хорунжие с переводом в 1-й Сунженско-Владикавказский полк, в рядах которого принимает участие в Русско-японской войне. По окончании войны он оставляет военную службу и занимается казачьими вопросами, работая во владикавказских и местных газетах. Несколько позже он основал газету «Казачья неделя». Тогда же по его инициативе возникает Общество любителей казачьей старины, сборники которого выходят под его редакцией. Одно время Караулов участвует в работе Терского областного статистического комитета и т.д.
Во II и IV Государственных думах Караулов избирается депутатом от Терского казачьего войска. С объявлением Великой войны он по мобилизации в чине подъесаула выступает на Западный фронт и командует сотней во 2-м Кизляро-Гребенском полку. С началом 1915 года Караулов уходит из строя и работает на фронте как уполномоченный 3 санитарного отряда Государственной думы, потом в ставке походного атамана. Революция застает его в рядах Исполнительного комитета Государственной думы. С образованием Временного правительства Караулов назначается комиссаром Терской области. Не останавливаясь в деталях на его деятельности, можно сказать, что М.А. Караулов являлся незаурядной личностью, глубоко любящим казака, знающим его быт, его чаяния. Революцию он приветствовал, ожидая, что казачество найдет теперь возможность идти по пути культурного и хозяйственного развития, которым, по его мнению, царское правительство препятствовало. Явился Караулов на Терек с самыми лучшими намерениями помочь родному войску в принятии новых форм.
«Углубители революции» в Караулове видели опасного для себя человека. Временно они не касались его личности, в особенности потому, что он был в ореоле творителя революции. Видимо, «углубители» опасались, как бы вместо Караулова не появился какой-нибудь контрреволюционер, который наделает им бед. Как только разложение пошло усиленными темпами, нашли слабые места для борьбы, тотчас же повели против него кампанию.
…….«Углубители революции» из совдепов их партий, понимая намерения М.А. Караулова и войсковых кругов препятствовать их разрушительной работе, желая ослабить значение войскового атамана и войскового круга, пустили злостные слухи о том, что Караулов подкуплен ингушами и чеченцами и вооружает их против казаков. Как ни было обидно это обвинение, а казаки сунженских станиц, куда «углубители» направили свои преимущественные усилия, готовы были им поверить, не находя у войсковой власти, как им казалось, должной защиты против грабежей.
Постепенно часть казаков этих станиц перешла на сторону совдепов, полагая найти в них представителей общегосударственной власти, которая, без сомнения, поможет им искоренить грабежи и убийства чеченцев и ингушей. Депутаты станиц по Сунже резко выступали на войсковом круге с обвинениями против М.А Караулова. Ознакомившись с обстановкой, они успокаивались, но, возвращаясь в станицы, в свою очередь подвергались обвинениям в продажности М.А. Караулову с правлением.
…. Совдепам нужно было обезглавить Терское войско и тогда использовать его в своих целях. Инструкции петроградского совдепа, по-видимому, указывали местным совдепам покончить с М.А. Карауловым. О необходимости устранения из политической жизни М.А. Караулова, как Л.М. Каледина и Дутова, в то время на одном из митингов в Петрограде говорил Троцкий.
Во II и IV Государственных думах Караулов избирается депутатом от Терского казачьего войска. С объявлением Великой войны он по мобилизации в чине подъесаула выступает на Западный фронт и командует сотней во 2-м Кизляро-Гребенском полку. С началом 1915 года Караулов уходит из строя и работает на фронте как уполномоченный 3 санитарного отряда Государственной думы, потом в ставке походного атамана. Революция застает его в рядах Исполнительного комитета Государственной думы. С образованием Временного правительства Караулов назначается комиссаром Терской области. Не останавливаясь в деталях на его деятельности, можно сказать, что М.А. Караулов являлся незаурядной личностью, глубоко любящим казака, знающим его быт, его чаяния. Революцию он приветствовал, ожидая, что казачество найдет теперь возможность идти по пути культурного и хозяйственного развития, которым, по его мнению, царское правительство препятствовало. Явился Караулов на Терек с самыми лучшими намерениями помочь родному войску в принятии новых форм.
«Углубители революции» в Караулове видели опасного для себя человека. Временно они не касались его личности, в особенности потому, что он был в ореоле творителя революции. Видимо, «углубители» опасались, как бы вместо Караулова не появился какой-нибудь контрреволюционер, который наделает им бед. Как только разложение пошло усиленными темпами, нашли слабые места для борьбы, тотчас же повели против него кампанию.
…….«Углубители революции» из совдепов их партий, понимая намерения М.А. Караулова и войсковых кругов препятствовать их разрушительной работе, желая ослабить значение войскового атамана и войскового круга, пустили злостные слухи о том, что Караулов подкуплен ингушами и чеченцами и вооружает их против казаков. Как ни было обидно это обвинение, а казаки сунженских станиц, куда «углубители» направили свои преимущественные усилия, готовы были им поверить, не находя у войсковой власти, как им казалось, должной защиты против грабежей.
Постепенно часть казаков этих станиц перешла на сторону совдепов, полагая найти в них представителей общегосударственной власти, которая, без сомнения, поможет им искоренить грабежи и убийства чеченцев и ингушей. Депутаты станиц по Сунже резко выступали на войсковом круге с обвинениями против М.А Караулова. Ознакомившись с обстановкой, они успокаивались, но, возвращаясь в станицы, в свою очередь подвергались обвинениям в продажности М.А. Караулову с правлением.
…. Совдепам нужно было обезглавить Терское войско и тогда использовать его в своих целях. Инструкции петроградского совдепа, по-видимому, указывали местным совдепам покончить с М.А. Карауловым. О необходимости устранения из политической жизни М.А. Караулова, как Л.М. Каледина и Дутова, в то время на одном из митингов в Петрограде говорил Троцкий.
…. Несомненно одно, что большевики решили покончить с Карауловым, предав его политической или физической смерти. Кажется, начиная с третьей сессии войскового круга, сунженские станицы, находящиеся под влиянием агентов «углубителей революции», через своих депутатов предлагали кругу вынести недоверие М.А. Караулову, но круг неизменно на всех сессиях выносил доверие своему атаману. Потерпев в этом неудачу, решили умертвить Караулова. Но, чтобы отвлечь от себя обвинения, совдеписты пытались это сделать казачьими руками, спровоцировав их. Больше всех недовольны были М.А. Карауловым станицы по Сунже. В них же совдеписты имели больше всего своих сторонников. Среди казаков этих станиц они хотели найти убийц для Караулова, который часто объезжал эти станицы. Возбуждение казаков на кругах в станицах в присутствии Караулова доходило до таких пределов, что достаточно было бы самого незначительного случая, чтобы разыграться драме. Однажды М.А. Караулов был вывезен спешно из станицы Троицкой специально приехавшим на автомобиле председателем круга П.Д. Губаревым, который узнал о заговоре на жизнь атамана. Другой раз в конце октября в станице Карабулакской прения на станичном круге едва не закончились трагическим концом для Караулова.
Forwarded from Вячеслав Лещев. Картины с казачьим характером. (Вячеслав)
Кавказский фронт Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Полевой бивуак терских казаков.
Прагматики всегда вытесняют из жизни романтиков. Они доминируют в мире расчётом и выгодой.
Они не рискуют по порыву души, они умеют прокладывать себе дорогу, несмотря ни на что, закатывая окружающий мир в удобный для себя «асфальт».
Но романтики имеют силу ростком слова пробиваться через толщину мёртвого…
Сегодня 125 лет со дня рождения великой души казачьего поэта Николая Николаевича Туроверова.
У кого есть сборник его стихов – снимите с полки и прочитайте хоть что-нибудь. У кого сборника нет – слушаем…
Он достоин нашей памяти…
Они не рискуют по порыву души, они умеют прокладывать себе дорогу, несмотря ни на что, закатывая окружающий мир в удобный для себя «асфальт».
Но романтики имеют силу ростком слова пробиваться через толщину мёртвого…
Сегодня 125 лет со дня рождения великой души казачьего поэта Николая Николаевича Туроверова.
У кого есть сборник его стихов – снимите с полки и прочитайте хоть что-нибудь. У кого сборника нет – слушаем…
Он достоин нашей памяти…
И вновь отрывок из воспоминаний Г.С. Хутиева.
Лето 1918 года…
Уклоняющихся от фронта почти не было. За этим в станицах следили строго, и факт уклонения мог бы повлечь за собой жестокий самосуд. В Моздокском отделе одинаково с казаками шли на фронт и иногородние, проживающие в станицах. В день отправления смен на фронт у станичного правления много шумели. Неявившихся тащили силой. При всем том бывали случаи отправки на фронт с запозданием на 1-2 дня. Случалось, это чаще всего тогда, когда группа казаков, которой подлежало идти на фронт, почему-то оказывалась вне станицы – в поле на работе или в другом месте. Без них отказывались идти и другие. Как правило, можно сказать, смены являлись на фронт аккуратно. Отдельные станицы, как Екатериноградская, Наурская и несколько других, были образцом аккуратной отправки смен. В случае, если смена не вовремя прибывала, то часть, подлежащая смене, покидала фронт, что ставило тогда командование в тяжелое положение. Каждая станица имела свои смены. Остающиеся в станице представляли самооборону станиц, составляя в то же время резерв в критические моменты. На фронт ходили казаки от 17 до 45 лет. Службу по охране станицы несли и старше – до 60 лет. На командных должностях были за весьма немногими исключениями офицеры. Многие офицеры отказывались от командных должностей и несли службу рядовыми наравне с казаками. Так, например, полковник Кошелев до моздокской операции в октябре все время служил рядовым. Отличительных знаков – погон и других – ни казаки, ни офицеры не надевали. По чинам никого не именовали. Установленной формы не было. На фронт являлись во всевозможных одеяниях. Так как действия происходили летом и осенью, то казаки в большинстве имели головной убор в виде войлочной шляпы. Так как на фронте, чтобы не портить хорошей одежды, надевали все самое худшее, то внешний вид войск был довольно неутешительный. Палаток не было. Жили в ближайших к фронтам станицах в землянках и очень часто под открытым небом.
Существенным для командования являлось то, что все казаки получили воинское обучение и воспитание, что вместе с закваской казачьих традиций, давало легкую возможность организовать отряды. В критические моменты командование получало менее чем в сутки отряды в составе пехоты, конницы и даже артиллерии. Так, например, летом, когда красные со стороны Ставропольской губернии, наступая на Моздок, прорывали Курский фронт, то Моздокская линия станиц несколько раз выслала отряды, и отряды эти действовали хорошо. Красные каждый раз отбрасывались. По выполнении задачи отряды эти возвращались в станицы.
Командование рассматривало казаков в станицах как свой собственный резерв, ибо смены должны были быть непосредственно на фронте, и ни в коем случае не допускалось, чтобы кто-нибудь состоял в резерве в тылу. Поэтому резервы еще имелись у командующих фронтами непосредственно у позиций, а главное командование было лишено резервов.
Дисциплина весьма приближалась к «революционной дисциплине», то есть вообще она была слабой удовлетворительности. При всех неблагоприятных условиях боеспособность, точнее, устойчивость казачьих сил, надо признать хорошей. Иногда части несли серьезные потери и все-таки продолжали выполнять возложенную задачу. Но бывали случаи и малой устойчивости. Происходило это главным образом потому, что сотни некоторых станиц были малой устойчивости, и их дурным примером заражались и другие сотни. Надо заметить, что одни станицы дрались все время хорошо, другие же плохо. Одиночками фронт никто не покидал. Если уходили с фронта, то целыми станицами. Случаи эти бывали тогда, когда смена считала, что она задержана больше того времени, какое следовало быть на фронте, или обнаружили какую-либо несправедливость в отношении себя. Паника наблюдалась очень редко.
Лето 1918 года…
Уклоняющихся от фронта почти не было. За этим в станицах следили строго, и факт уклонения мог бы повлечь за собой жестокий самосуд. В Моздокском отделе одинаково с казаками шли на фронт и иногородние, проживающие в станицах. В день отправления смен на фронт у станичного правления много шумели. Неявившихся тащили силой. При всем том бывали случаи отправки на фронт с запозданием на 1-2 дня. Случалось, это чаще всего тогда, когда группа казаков, которой подлежало идти на фронт, почему-то оказывалась вне станицы – в поле на работе или в другом месте. Без них отказывались идти и другие. Как правило, можно сказать, смены являлись на фронт аккуратно. Отдельные станицы, как Екатериноградская, Наурская и несколько других, были образцом аккуратной отправки смен. В случае, если смена не вовремя прибывала, то часть, подлежащая смене, покидала фронт, что ставило тогда командование в тяжелое положение. Каждая станица имела свои смены. Остающиеся в станице представляли самооборону станиц, составляя в то же время резерв в критические моменты. На фронт ходили казаки от 17 до 45 лет. Службу по охране станицы несли и старше – до 60 лет. На командных должностях были за весьма немногими исключениями офицеры. Многие офицеры отказывались от командных должностей и несли службу рядовыми наравне с казаками. Так, например, полковник Кошелев до моздокской операции в октябре все время служил рядовым. Отличительных знаков – погон и других – ни казаки, ни офицеры не надевали. По чинам никого не именовали. Установленной формы не было. На фронт являлись во всевозможных одеяниях. Так как действия происходили летом и осенью, то казаки в большинстве имели головной убор в виде войлочной шляпы. Так как на фронте, чтобы не портить хорошей одежды, надевали все самое худшее, то внешний вид войск был довольно неутешительный. Палаток не было. Жили в ближайших к фронтам станицах в землянках и очень часто под открытым небом.
Существенным для командования являлось то, что все казаки получили воинское обучение и воспитание, что вместе с закваской казачьих традиций, давало легкую возможность организовать отряды. В критические моменты командование получало менее чем в сутки отряды в составе пехоты, конницы и даже артиллерии. Так, например, летом, когда красные со стороны Ставропольской губернии, наступая на Моздок, прорывали Курский фронт, то Моздокская линия станиц несколько раз выслала отряды, и отряды эти действовали хорошо. Красные каждый раз отбрасывались. По выполнении задачи отряды эти возвращались в станицы.
Командование рассматривало казаков в станицах как свой собственный резерв, ибо смены должны были быть непосредственно на фронте, и ни в коем случае не допускалось, чтобы кто-нибудь состоял в резерве в тылу. Поэтому резервы еще имелись у командующих фронтами непосредственно у позиций, а главное командование было лишено резервов.
Дисциплина весьма приближалась к «революционной дисциплине», то есть вообще она была слабой удовлетворительности. При всех неблагоприятных условиях боеспособность, точнее, устойчивость казачьих сил, надо признать хорошей. Иногда части несли серьезные потери и все-таки продолжали выполнять возложенную задачу. Но бывали случаи и малой устойчивости. Происходило это главным образом потому, что сотни некоторых станиц были малой устойчивости, и их дурным примером заражались и другие сотни. Надо заметить, что одни станицы дрались все время хорошо, другие же плохо. Одиночками фронт никто не покидал. Если уходили с фронта, то целыми станицами. Случаи эти бывали тогда, когда смена считала, что она задержана больше того времени, какое следовало быть на фронте, или обнаружили какую-либо несправедливость в отношении себя. Паника наблюдалась очень редко.
Устойчивость казачьих сил при отсутствии настоящей дисциплины объяснялась тем, что каждому отдельному казаку стыдно было проявить трусость на глазах у своих станичников. Его бы засмеяли в станице. Играло значение и соревнование между так называемыми «фронтовиками», то есть теми, кто побывал на фронте в Великую войну, в большинстве имеющими боевые награды, и теми, кто по разным причинам не был на фронте. «Фронтовикам» досталось показать, что они испытанные бойцы, достойные наград, которые они имели, а не бывшие на фронте не хотели ронять свое достоинство казака и бойца перед «фронтовиками». На фронт отправляли всех, включая и разряд неспособных. Как это ни странно, но не бывшие на фронте дрались отнюдь не хуже «фронтовиков», а разряд не способных к службе и по выносливости, и по боеспособности ничем не отличался от фронтовиков.
Forwarded from Чирков Юрий
Хмурый, пасмурный кусочек неба, в воскресное утро 31 марта, лениво и безразлично подсматривал в окно больничной палаты, не предвещая и не обещая никакой солнечной перспективы. Вдруг, раздался звонок телефона. Я потянулся к тумбочке чтобы, как всегда, сбросить звонок, но, немало был удивлён тому, что звонил Костя Захаров. — Юра, мы тут узнали что ты лежишь на Литейном. Закажи мне пропуск, хочу тебя навестить. — Дело оказалось не простым и хлопотным. Договорились на 15.00
Костя увидев меня в горизонтальном положении на больничной койке сходу спросил: — А ты по улице на коляске погулять не хочешь?— Очень хочу!— С какой–то ноткой сомнения и неуверенности ответил я. Он поднял меня с кровати, одел, обул, усадил в коляску и на лифте мы спустились на первый этаж. Кружилась голова, полное отсутствие сил, голоса, слабость не покидали меня. Нам открыли уличную дверь, мы выехали на крыльцо, а там... стояли 5 человек братинцев! Вот это неожиданность! Вот это сюрприз! Мы устроились на скамейке больничного скверика. — Ефимыч, давай споём. Что-нить наше, старое, доброе, вечное — Предложил Юра Тарарико. —Да, я вряд ли смогу. — "Ишшо не во да–ле–че было... “— тихонько затянул Костя, до боли родную и любимую мной песню. Я сам не понял откуда взялась сила и голос. И я, взмахнув своими, изрядно потрёпанными и общипанными крылышками, ПОЛЕТЕЛ. Мы пели полтора часа. Вдруг жизнь наполнилась смыслом! Вот что песня животворящая делает! "Братина" меня оживила! За что я им бесконечно благодарен.
А ещё я хочу от всего сердца поблагодарить огромное количество друзей, знакомых и совсем незнакомых людей за молитвенную материальную поддержку и помощь! Спаси Христос!
Битва ещё не выиграна, но, ещё и не проиграна!
Костя увидев меня в горизонтальном положении на больничной койке сходу спросил: — А ты по улице на коляске погулять не хочешь?— Очень хочу!— С какой–то ноткой сомнения и неуверенности ответил я. Он поднял меня с кровати, одел, обул, усадил в коляску и на лифте мы спустились на первый этаж. Кружилась голова, полное отсутствие сил, голоса, слабость не покидали меня. Нам открыли уличную дверь, мы выехали на крыльцо, а там... стояли 5 человек братинцев! Вот это неожиданность! Вот это сюрприз! Мы устроились на скамейке больничного скверика. — Ефимыч, давай споём. Что-нить наше, старое, доброе, вечное — Предложил Юра Тарарико. —Да, я вряд ли смогу. — "Ишшо не во да–ле–че было... “— тихонько затянул Костя, до боли родную и любимую мной песню. Я сам не понял откуда взялась сила и голос. И я, взмахнув своими, изрядно потрёпанными и общипанными крылышками, ПОЛЕТЕЛ. Мы пели полтора часа. Вдруг жизнь наполнилась смыслом! Вот что песня животворящая делает! "Братина" меня оживила! За что я им бесконечно благодарен.
А ещё я хочу от всего сердца поблагодарить огромное количество друзей, знакомых и совсем незнакомых людей за молитвенную материальную поддержку и помощь! Спаси Христос!
Битва ещё не выиграна, но, ещё и не проиграна!
Forwarded from Чирков Юрий