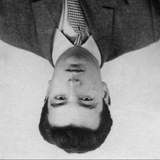Наткнулся на просто лучшую цитату о необходимости изучать не только политиков, но и интеллектуалов и экспертов, которые на политиков влияют. Сам автор в такого рода влиянии знал толк чуть ли не лучше всех в XX веке.
The ideas of economists and political philosophers are more powerful than is commonly understood. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas.
👍44✍10👏4👌1
Рукописи не горят (но пылятся)
В 1981 году сектор теории и прогнозирования ИМЭМО намеревался выпустить коллективную монографию, в которой наконец-то обобщались результаты многолетней работы над собственной теорией международных отношений. В ней должны были принять участие и друзья института: востоковеды Евгений Примаков и Георгий Мирский, а также редактор журнала «Коммунист» Ричард Косолапов, который тогда тоже много писал по проблемам Третьего мира (правда, в довольно одиозном ключе, но про это в другой раз).
Увы, из-за масштабной атаки на академическое учреждение после дела «Молодых социалистов», по которому, в частности, обвиняли совсем молодых тогда Павла Кудюкина и Бориса Кагарлицкого, книгу печатать запретили и положили на полку – как и многие другие тексты, находившиеся тогда в разработке. 12 папок с черновиками книги совершенно случайно нашли при ремонте в здании института через сорок лет и решили все-таки издать. Вот наконец-то она пришла ко мне на руки! В ближайшее время будем это добро изучать.
Как вы знаете, я без шуток вполне себе stalinversteher: стараюсь вникнуть во все мотивы советского руководства, разобраться с политической конъюнктурой, не набрасываться заранее с огульной критикой и т. д. Однако в ситуации вроде этой даже мне сложно объяснить, почему партия (по крайней мере, ее самая консервативная часть) так любила совершенно бессмысленно поприжучивать собственную и без того жалкую интеллигенцию.
Вот собираются на квартире какие-то молодые научные работники, чтобы почитать зарубежную литературу. Вы мало того что сажаете их, так еще и цензурируете чуть ли не всех сотрудников своего чуть ли не самого главного экспертного института по проблематике Холодной войны, большинство из которых совершенно вам лояльны. Совсем смешно, что через два года вы все-таки додумываетесь выпустить молодежь из заключения, но вот решения запретить публиковать статьи и монографии вообще никак не связанных с ними работников так и не отменяете.
А еще через несколько лет многие из этих людей внезапно начнут кричать «Раздавите гадину!» с высоких трибун. Интересно, почему?
В 1981 году сектор теории и прогнозирования ИМЭМО намеревался выпустить коллективную монографию, в которой наконец-то обобщались результаты многолетней работы над собственной теорией международных отношений. В ней должны были принять участие и друзья института: востоковеды Евгений Примаков и Георгий Мирский, а также редактор журнала «Коммунист» Ричард Косолапов, который тогда тоже много писал по проблемам Третьего мира (правда, в довольно одиозном ключе, но про это в другой раз).
Увы, из-за масштабной атаки на академическое учреждение после дела «Молодых социалистов», по которому, в частности, обвиняли совсем молодых тогда Павла Кудюкина и Бориса Кагарлицкого, книгу печатать запретили и положили на полку – как и многие другие тексты, находившиеся тогда в разработке. 12 папок с черновиками книги совершенно случайно нашли при ремонте в здании института через сорок лет и решили все-таки издать. Вот наконец-то она пришла ко мне на руки! В ближайшее время будем это добро изучать.
Как вы знаете, я без шуток вполне себе stalinversteher: стараюсь вникнуть во все мотивы советского руководства, разобраться с политической конъюнктурой, не набрасываться заранее с огульной критикой и т. д. Однако в ситуации вроде этой даже мне сложно объяснить, почему партия (по крайней мере, ее самая консервативная часть) так любила совершенно бессмысленно поприжучивать собственную и без того жалкую интеллигенцию.
Вот собираются на квартире какие-то молодые научные работники, чтобы почитать зарубежную литературу. Вы мало того что сажаете их, так еще и цензурируете чуть ли не всех сотрудников своего чуть ли не самого главного экспертного института по проблематике Холодной войны, большинство из которых совершенно вам лояльны. Совсем смешно, что через два года вы все-таки додумываетесь выпустить молодежь из заключения, но вот решения запретить публиковать статьи и монографии вообще никак не связанных с ними работников так и не отменяете.
А еще через несколько лет многие из этих людей внезапно начнут кричать «Раздавите гадину!» с высоких трибун. Интересно, почему?
👍56👌3👏1
Когда я только поступил в ЕУ, то с коллегами историками нашел общий язык даже быстрее, чем с одногруппниками. Помню, от общажных я прознал, что факультет регулярно собирается в баре «Утка», но постеснялся туда прийти просто так. Зато не постеснялся прийти к декану Сэму Хирсту в его приемные часы и официально напроситься. Мол, я хоть и учусь на социологии, но интересуюсь историей XX века. Сэм рассмеялся, что к нему записались по такому поводу, и разрешил прийти. Позже в баре он даже угостил меня пивом и пообсуждал тактику Ливерпуля, за который тоже болеет. Много лет прошло, и вот коллеги меня не забыли и добавили в подборку каналов выпускников факультета. Очень приятно, и, конечно, не могу не порекомендовать подписаться на всех!
👍47👏5
Forwarded from Большие пожары🔥
За 30 лет моя альма-матер, Европейский университет в Санкт-Петербурге, дал целому поколению исследователей школу не только академическую, но и публичной истории, умение говорить о прошлом ясно и профессионально.
Оказалось, в ТГ появился кластер каналов выпускников ЕУ: про Империю, СССР и их соседей в ХХ веке. Это полноценный курс истории, за качество которого можно ручаться.
🎓 Введение
- История только начинается - исторический подкаст
- Центр "Прожито" - дневники и документы
🏰 Российская империя
Османлы - российско-османские отношения и черноморский регион
Невский часовой - поздняя Российская империя
PETROWORKERS - рабочее движение
🔥 Революция и Гражданская война
Большие пожары - Первая мировая, революция и Гражданская война
Пространство перемен - эпоха войн и революций
Революционный пантеон - вожди и культура
🚩 СССР
Архивы без пыли - ранний советский период и другие находки
Структура наносит ответный удар - советское востоковедение и холодная война.
Кинофикация - советское кино
Культура неудавшегося транзита - культурные феномены перестройки.
🧠 Память
Мемори и другие стадиз - исследования памяти и история идей
Читательский дневник историка - история в музеях
Габитус камня - нации и память
Оказалось, в ТГ появился кластер каналов выпускников ЕУ: про Империю, СССР и их соседей в ХХ веке. Это полноценный курс истории, за качество которого можно ручаться.
🎓 Введение
- История только начинается - исторический подкаст
- Центр "Прожито" - дневники и документы
🏰 Российская империя
Османлы - российско-османские отношения и черноморский регион
Невский часовой - поздняя Российская империя
PETROWORKERS - рабочее движение
🔥 Революция и Гражданская война
Большие пожары - Первая мировая, революция и Гражданская война
Пространство перемен - эпоха войн и революций
Революционный пантеон - вожди и культура
🚩 СССР
Архивы без пыли - ранний советский период и другие находки
Структура наносит ответный удар - советское востоковедение и холодная война.
Кинофикация - советское кино
Культура неудавшегося транзита - культурные феномены перестройки.
🧠 Память
Мемори и другие стадиз - исследования памяти и история идей
Читательский дневник историка - история в музеях
Габитус камня - нации и память
👍38
Coming Out as a Hegelian, часть первая
Биографы Евгения Примакова часто отмечают тот факт, что он скрывал личность своего рано ушедшего отца. Есть версии, что из-за еврейства или из-за расстрела того как троцкиста, а может быть, из-за и того и другого. Я не буду строить свои догадки, тем более что мне в биографии Примакова кажется куда любопытнее другая вещь, которую он долго про себя скрывал. Видимо, где-то с 1970-х он перестал считать свой взгляд на развитие общественных конфликтов в странах Востока марксистско-ленинским. Официальные формулы он, конечно, продолжал использовать, но реальные его концепции прячутся за намеками и эвфемизмами. (То же поступали и члены его команды из ИВ типа Нодари Симонии, или ученые, параллельно занимающиеся сходными вопросами в Институте США и Канады, типа Дмитрия Фурмана. Но сегодня только про Примуса.)
Примаков, как и многие другие советские обществоведы, считал, что главным противоречием глобальных международных отношений после Второй мировой является противостояние двух общественно-экономических систем: капитализма и социализма. Однако – и здесь он начинает радикально отходить от партийной догмы – ни одна из этих систем не является принципиально более прогрессивной, чем другая. Он признает, что свобода предпринимательства при капитализме способна куда эффективнее порождать научно-технические новшества, однако социализм, с его точки зрения, куда надежнее может стабилизировать экономику и справедливо перераспределять богатства от высших классов к низшим. Короче говоря, обе системы принципиально ограничены и представляют только одну сторону развития человечества.
Другой важный пункт Примакова в том, что противостояние двух систем никогда не носило только характер конкуренции экономических моделей. Оно давно стало в первую очередь антагонизмом военно-политических лагерей. Примаков, много путешествуя по арабским странам и Израилю, видит, что этот антагонизм не ведет ни к чему хорошему. Тотальная милитаризация и идеологическая поляризация – это путь к Третьей и Последней мировой войне. Вместе с тем, когда одни регионы Третьего мира показывают грозящую всему миру катастрофу, другие демонстрируют и потенциал к ее преодолению. Многие постколониальные государства – Индия, Китай, Бразилия – строят смешанные экономики на свой лад и одновременно становятся важными дипломатическими посредниками между СССР и США. (Эта идея станет для него еще важнее через много лет, когда он уже после распада Союза с энтузиазмом будет укреплять BRICS.)
Примаков считает, что для спасения систем Первого и Второго миров они должны следовать за лучшими образцами Третьего мира и осознанно начинать экономическую конвергенцию друг с другом, объединив свои прогрессивные стороны и отбросив реакционные. Он не мог совсем уж открыто использовать термин, который был популярен среди западных кейнсианцев типа Гэлбрейта или советских диссидентов типа Сахарова. Поэтому в своих текстах 1980-х годов он использует его с иронией: «так называемая конвергенция», «пресловутая конвергенция». Тем более, что экономической конвергенции должно предшествовать взаимное признание обоими антагонистическими системами своих ограничений на уровне лидеров государств. Политика первичнее экономики!
Идею Примакова не стоит рассматривать как что-то наивное, типа «мира во всем мире» или бессильного «давайте жить дружно». Признание своего поражения стало бы еще большей глупостью. Нет, за мир нужно активно бороться, продолжая сдерживание капитализма и добиваясь у соперников признания определенных преимуществ социалистического общества. В то же время Примаков не отрицает и за визави право бороться с советским лагерем. У него нет самонадеянной убежденности в правоте только одной стороны. Но хитрость здесь состоит в том, что и капитализм, и социализм перестанут в конечном счете существовать. Они себя полностью перестроят во что-то третье; во что-то, что рождается в Третьем мире, но и там пока носит зачаточный характер.
Биографы Евгения Примакова часто отмечают тот факт, что он скрывал личность своего рано ушедшего отца. Есть версии, что из-за еврейства или из-за расстрела того как троцкиста, а может быть, из-за и того и другого. Я не буду строить свои догадки, тем более что мне в биографии Примакова кажется куда любопытнее другая вещь, которую он долго про себя скрывал. Видимо, где-то с 1970-х он перестал считать свой взгляд на развитие общественных конфликтов в странах Востока марксистско-ленинским. Официальные формулы он, конечно, продолжал использовать, но реальные его концепции прячутся за намеками и эвфемизмами. (То же поступали и члены его команды из ИВ типа Нодари Симонии, или ученые, параллельно занимающиеся сходными вопросами в Институте США и Канады, типа Дмитрия Фурмана. Но сегодня только про Примуса.)
Примаков, как и многие другие советские обществоведы, считал, что главным противоречием глобальных международных отношений после Второй мировой является противостояние двух общественно-экономических систем: капитализма и социализма. Однако – и здесь он начинает радикально отходить от партийной догмы – ни одна из этих систем не является принципиально более прогрессивной, чем другая. Он признает, что свобода предпринимательства при капитализме способна куда эффективнее порождать научно-технические новшества, однако социализм, с его точки зрения, куда надежнее может стабилизировать экономику и справедливо перераспределять богатства от высших классов к низшим. Короче говоря, обе системы принципиально ограничены и представляют только одну сторону развития человечества.
Другой важный пункт Примакова в том, что противостояние двух систем никогда не носило только характер конкуренции экономических моделей. Оно давно стало в первую очередь антагонизмом военно-политических лагерей. Примаков, много путешествуя по арабским странам и Израилю, видит, что этот антагонизм не ведет ни к чему хорошему. Тотальная милитаризация и идеологическая поляризация – это путь к Третьей и Последней мировой войне. Вместе с тем, когда одни регионы Третьего мира показывают грозящую всему миру катастрофу, другие демонстрируют и потенциал к ее преодолению. Многие постколониальные государства – Индия, Китай, Бразилия – строят смешанные экономики на свой лад и одновременно становятся важными дипломатическими посредниками между СССР и США. (Эта идея станет для него еще важнее через много лет, когда он уже после распада Союза с энтузиазмом будет укреплять BRICS.)
Примаков считает, что для спасения систем Первого и Второго миров они должны следовать за лучшими образцами Третьего мира и осознанно начинать экономическую конвергенцию друг с другом, объединив свои прогрессивные стороны и отбросив реакционные. Он не мог совсем уж открыто использовать термин, который был популярен среди западных кейнсианцев типа Гэлбрейта или советских диссидентов типа Сахарова. Поэтому в своих текстах 1980-х годов он использует его с иронией: «так называемая конвергенция», «пресловутая конвергенция». Тем более, что экономической конвергенции должно предшествовать взаимное признание обоими антагонистическими системами своих ограничений на уровне лидеров государств. Политика первичнее экономики!
Идею Примакова не стоит рассматривать как что-то наивное, типа «мира во всем мире» или бессильного «давайте жить дружно». Признание своего поражения стало бы еще большей глупостью. Нет, за мир нужно активно бороться, продолжая сдерживание капитализма и добиваясь у соперников признания определенных преимуществ социалистического общества. В то же время Примаков не отрицает и за визави право бороться с советским лагерем. У него нет самонадеянной убежденности в правоте только одной стороны. Но хитрость здесь состоит в том, что и капитализм, и социализм перестанут в конечном счете существовать. Они себя полностью перестроят во что-то третье; во что-то, что рождается в Третьем мире, но и там пока носит зачаточный характер.
👍58👌9👎5🙏1
Coming Out as a Hegelian, часть вторая
Приведенная схема конъюнктуры глобального общества, как мне кажется, родом не из классиков марксизма-ленинизма и не из модных западных политологов или экономистов. Сознательно или бессознательно Примаков взял ее у автора, которого в советской академии одновременно чтили и считали устаревшим – Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Когда я понял это некоторое время назад, многое вдруг уложилось в голове – и про советское востоковедение, и про трудности, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь изучать его сегодня. С тех пор мой старый любимец Кант постепенно уступил место великому другому немцу в качестве собеседника выходного дня.
В отличие от Примакова, мне скрывать от цензуры нечего. Я скажу прямо: Гегель is uniquely qualified как мыслитель, который может помочь нам разобраться в скотобойне Холодной войны. Прежде всего – благодаря своим конкретным и поразительно современным размышлениям о революциях, войнах, структуре отношений между государствами и о связи идей с политикой. Эти размышления не лишены морали, но при этом не морализаторские; они всерьез воспринимают трагедию применения голой силы, но не скатываются в циничный realpolitik.
Взгляд Гегеля на историю всегда сравнительный и всегда глобальный. Ему был интересен весь мир от Гаити до Гонконга. Идея общества как планетарного феномена, которую, как мне кажется, берут у него люди из ИВ и ИМЭМО, до сих пор не особенно популярна в мейнстримных гуманитарных и социальных исследованиях. Говорят, что Гегеля как бы снял Маркс. Но нет, я так не думаю. Потерь от переноса схем первого в мышление второго было слишком много. Советские академики это хорошо понимали.
Отдельно стоит сказать о гегелевской диалектике. Меня не особенно интересует ее метафизическое толкование – такое чтение уже сломало жизнь не одной прекрасной душе, и я не хочу следовать за ними. Не для того я годами сижу на таблетосах. Диалектику, как мне кажется, стоит понимать социологически – как набор практических эвристик, которые помогают ориентироваться в динамике коллективных конфликтов, на каких бы полях они ни происходили: в науке, в искусстве или в политике. Именно так, на мой взгляд, применяет гегелевскую диалектику в своем анализе США, СССР и Третьего мира Примаков. И я предлагаю следовать его примеру.
Приведенная схема конъюнктуры глобального общества, как мне кажется, родом не из классиков марксизма-ленинизма и не из модных западных политологов или экономистов. Сознательно или бессознательно Примаков взял ее у автора, которого в советской академии одновременно чтили и считали устаревшим – Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Когда я понял это некоторое время назад, многое вдруг уложилось в голове – и про советское востоковедение, и про трудности, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь изучать его сегодня. С тех пор мой старый любимец Кант постепенно уступил место великому другому немцу в качестве собеседника выходного дня.
В отличие от Примакова, мне скрывать от цензуры нечего. Я скажу прямо: Гегель is uniquely qualified как мыслитель, который может помочь нам разобраться в скотобойне Холодной войны. Прежде всего – благодаря своим конкретным и поразительно современным размышлениям о революциях, войнах, структуре отношений между государствами и о связи идей с политикой. Эти размышления не лишены морали, но при этом не морализаторские; они всерьез воспринимают трагедию применения голой силы, но не скатываются в циничный realpolitik.
Взгляд Гегеля на историю всегда сравнительный и всегда глобальный. Ему был интересен весь мир от Гаити до Гонконга. Идея общества как планетарного феномена, которую, как мне кажется, берут у него люди из ИВ и ИМЭМО, до сих пор не особенно популярна в мейнстримных гуманитарных и социальных исследованиях. Говорят, что Гегеля как бы снял Маркс. Но нет, я так не думаю. Потерь от переноса схем первого в мышление второго было слишком много. Советские академики это хорошо понимали.
Отдельно стоит сказать о гегелевской диалектике. Меня не особенно интересует ее метафизическое толкование – такое чтение уже сломало жизнь не одной прекрасной душе, и я не хочу следовать за ними. Не для того я годами сижу на таблетосах. Диалектику, как мне кажется, стоит понимать социологически – как набор практических эвристик, которые помогают ориентироваться в динамике коллективных конфликтов, на каких бы полях они ни происходили: в науке, в искусстве или в политике. Именно так, на мой взгляд, применяет гегелевскую диалектику в своем анализе США, СССР и Третьего мира Примаков. И я предлагаю следовать его примеру.
👍48👎2🤝2
Commiefornia
Случайно заглянули с женой в бар при местной крафтовой пивоварне. Смотрю, у них на кране пиво «Sickle & Hammer». Обращаюсь к мощному патлатому металистообразному бармену, который оказался хозяином заведения:
– Привет, я из России! Стало интересно, почему ваше пиво называется так?
– Потому что я коммунист.
– ??
– Моя пивоварня давно не приносит никакой прибыли.
– Окей, а какой это сорт?
– Это красная ипа.
– Честно, я не особо врубаюсь в калифорнийские ипы. Они все на вкус такие, как будто жуешь сосновую смолу или грейпфрутовую корку.
– Эту ты должен попробовать. Только сварили. Она тебе точно понравится.
– Ладно, уговорили, беру.
Купил, пробую, и реально нравится эта ваша красная ипа. Чуть сладковатая, чуть горькая. Баланс отличный. Даже едва уловимо пахнет кленом.
Допил,включаю музыку из Red Alert, возвращаюсь на стойку сказать хозяину, что он был прав: пиво сварили и правда топовое. Он мне в ответ: «Чувак, у меня есть кое-что специально для тебя». Идет, наливает целую бутылку этой красной ипы и протягивает мне:
– Эта для тебя будет бесплатной!
– Spasibo! Na zdorovie!
Случайно заглянули с женой в бар при местной крафтовой пивоварне. Смотрю, у них на кране пиво «Sickle & Hammer». Обращаюсь к мощному патлатому металистообразному бармену, который оказался хозяином заведения:
– Привет, я из России! Стало интересно, почему ваше пиво называется так?
– Потому что я коммунист.
– ??
– Моя пивоварня давно не приносит никакой прибыли.
– Окей, а какой это сорт?
– Это красная ипа.
– Честно, я не особо врубаюсь в калифорнийские ипы. Они все на вкус такие, как будто жуешь сосновую смолу или грейпфрутовую корку.
– Эту ты должен попробовать. Только сварили. Она тебе точно понравится.
– Ладно, уговорили, беру.
Купил, пробую, и реально нравится эта ваша красная ипа. Чуть сладковатая, чуть горькая. Баланс отличный. Даже едва уловимо пахнет кленом.
Допил,
– Эта для тебя будет бесплатной!
– Spasibo! Na zdorovie!
👍137💅39🤝13
Обращение к коллективному разуму
Друзья, я хочу попросить у вас совета. Вы знаете, что я давний популяризатор такой области, как социология гуманитарного и социального знания. В том числе ее центральной проблемы – отношений знания о людях с властью над ними. Я вел на эту тему курс в ЕУСПб, соорганизовывал конференцию в Шанинке и начал писать диссертацию в НИУ ВШЭ, которую, к сожалению, так и не закончил по независящим от меня причинам. Также я создатель, возможно, самой большой библиографической базы по этой теме в мире с более чем 5000 работ, которая постоянно обновляется с опорой на главные международные академические журналы.
Хотя я развиваю это направление как предметный исследователь на конкретном материале послевоенного советского востоковедения, за годы чтения и преподавания у меня накопилось очень много черновиков и заметок с разбором ключевых методологических и концептуальных дебатов в этой области. Мне хотелось бы, чтобы они не потерялись в недрах моего ноутбука, а стали практическим руководством для молодых ученых, которые интересуются похожими проблемами и хотят решать их в своих собственных работах. Так что я задумал написать книгу!
По задумке это должно быть популярное введение в социологию социального и гуманитарного знания в форме краткой интеллектуальной истории области, состоящей из пяти глав: начиная с зарождения области в Германии 1920-х (Вебер, Шеллер, Маннгейм), с эмиграцией в Британию и пересоздания направления там (Маккензи, Шейпин, Куш). Потом про независимое открытие проблематики во Франции 1960-х (Фуко, Бурдье, Каллон) и США 1970-х (Гулднер, Коллинз, Эбботт) и, наконец, к глобализации области с 2000-х (Хейлброн, Краузе, Баерт). Каждая глава будет состоять из аналитического пересказа ключевых дебатов между школами и емкого описания общественно-политического фона, на котором они происходили. И все этой с широкой аннотированной библиографией.
а) Как вы думаете, в какое издательство стоит обратиться с таким проектом? Чем стоит сопроводить письмо: проспектусом, черновиками глав или чем-то другим? Я, увы, совершенно плохо представляю себе издательское дело и его законы.
б) Реально ли получить гонорар от издательства или сторонний грант под такой проект? По примерным расчетам, мне предстоит как минимум полгода плотной работы по написанию текста. К сожалению, у меня нет накоплений, чтобы настолько выпасть из мир-системы капитализма, а написание ее в свободное от основных заработков время отложит выход книги примерно навсегда.
Друзья, я хочу попросить у вас совета. Вы знаете, что я давний популяризатор такой области, как социология гуманитарного и социального знания. В том числе ее центральной проблемы – отношений знания о людях с властью над ними. Я вел на эту тему курс в ЕУСПб, соорганизовывал конференцию в Шанинке и начал писать диссертацию в НИУ ВШЭ, которую, к сожалению, так и не закончил по независящим от меня причинам. Также я создатель, возможно, самой большой библиографической базы по этой теме в мире с более чем 5000 работ, которая постоянно обновляется с опорой на главные международные академические журналы.
Хотя я развиваю это направление как предметный исследователь на конкретном материале послевоенного советского востоковедения, за годы чтения и преподавания у меня накопилось очень много черновиков и заметок с разбором ключевых методологических и концептуальных дебатов в этой области. Мне хотелось бы, чтобы они не потерялись в недрах моего ноутбука, а стали практическим руководством для молодых ученых, которые интересуются похожими проблемами и хотят решать их в своих собственных работах. Так что я задумал написать книгу!
По задумке это должно быть популярное введение в социологию социального и гуманитарного знания в форме краткой интеллектуальной истории области, состоящей из пяти глав: начиная с зарождения области в Германии 1920-х (Вебер, Шеллер, Маннгейм), с эмиграцией в Британию и пересоздания направления там (Маккензи, Шейпин, Куш). Потом про независимое открытие проблематики во Франции 1960-х (Фуко, Бурдье, Каллон) и США 1970-х (Гулднер, Коллинз, Эбботт) и, наконец, к глобализации области с 2000-х (Хейлброн, Краузе, Баерт). Каждая глава будет состоять из аналитического пересказа ключевых дебатов между школами и емкого описания общественно-политического фона, на котором они происходили. И все этой с широкой аннотированной библиографией.
а) Как вы думаете, в какое издательство стоит обратиться с таким проектом? Чем стоит сопроводить письмо: проспектусом, черновиками глав или чем-то другим? Я, увы, совершенно плохо представляю себе издательское дело и его законы.
б) Реально ли получить гонорар от издательства или сторонний грант под такой проект? По примерным расчетам, мне предстоит как минимум полгода плотной работы по написанию текста. К сожалению, у меня нет накоплений, чтобы настолько выпасть из мир-системы капитализма, а написание ее в свободное от основных заработков время отложит выход книги примерно навсегда.
👍91👏12💅11✍4
«Наследство Черепашки» (набросок киносценария)
Персонажи: бабушка – основательница и CEO крупнейшей телевизионной корпорации. Уже много лет страдает Альцгеймером. Мать, начинавшая карьеру в фирме бабушки, основала собственный благотворительный фонд по спасению дикой природы. На публике притворяется идеалисткой, но сама подворовывает деньги фонда и пытается признать недееспособность бабушки ради доли в компании. Старшая дочь – политтехнолог с прогрессивными взглядами, но работающая с крайне правыми политиками из любви к высокоуровневым властным манипуляциям. Средняя дочь – домохозяйка с многомиллионными аккаунтами в социальных сетях про примерную семью, львиная часть доходов которой приходится на рекламу мошеннических схем. Обе давно ушли из семьи и стараются избежать общения с мамой, бабушкой и друг с другом.
Центральный персонаж – самая младшая дочь. Ей чуть меньше тридцати. С детства в семье ее называют Черепашка. (Ее должна обязательно играть Флоренс Пью!) Она вылетела из двух университетов подряд, не может ни с кем завести отношения и работает баристой на минимальную зарплату. В своем блоге она делится с немногочисленными подписчиками историями о разговорах с прикованной к постели в шикарном хосписе бабушкой; о едких покровительственных насмешках матери; о скучных визитах на семейные ужины к сестрам, которые уговаривают ее просто найти нормальную работу и/или выгодно жениться. Впрочем, Черепашка умалчивает, что мама оплачивает ей ренту в дорогой квартире в центре города с видом из окна, а сестры все-таки периодически выслушивают ее жалобы на жизнь.
Однажды бабушка во сне бормочет, что уже завещала всю свою медиа-империю любимой Черепашке. В предвкушении огромной власти внучка начинает сливать своим читателям сведения о злоупотреблениях в фонде матери, коррупции старшей сестры и мошеннических схемах средней. Блог залетает в топ, и кто-то пересылает посты в офис городского прокурора. Одновременно бабушка умирает у радостной Черепашки на руках. Все остальные члены семьи спешат в больницу для оглашения завещания. Оказывается, медиа-империя переходит... любимой черепахе бабушки. Питомцу, а не внучке!
В палату вламывается прокурор, который грозится устроить проверку на всех коррумпированных родственников Черепашки. Три громких дела одновременно – прямая дорога к повышению до федерального судьи. Главная героиня осознает, что натворила, и стирает все свои записи. Обвинителям больше нечего предъявить в суде. Мама и сестры спасены! После этого все четверо идут в дешевую шаурмешную. Это первый раз, когда они собрались вместе и серьезно разговаривают друг с другом за многие-многие годы. Фильм заканчивается на том, что они никак не могут перестать смеяться, обсуждая последнюю волю бабушки.
P.S. Окей-окей, чтоб вы долго не гадали, чего я тут снова разошелся: конечно, это все аллегория на университетские дисциплины. Бабушка – теология. Мама – философия. Три сестры – экономика, психология и социология. А личный блог Черепашки – это и есть, собственно, социология знания. Такой сценарий я бы писал, если бы родился и вырос в солнечной Bay Area. Но я – из промозглого Новосибирска. Поэтому вместо сценария буду писать серьезную интеллектуальную историю. Хотя эту задумку можно использовать как предисловие.
Персонажи: бабушка – основательница и CEO крупнейшей телевизионной корпорации. Уже много лет страдает Альцгеймером. Мать, начинавшая карьеру в фирме бабушки, основала собственный благотворительный фонд по спасению дикой природы. На публике притворяется идеалисткой, но сама подворовывает деньги фонда и пытается признать недееспособность бабушки ради доли в компании. Старшая дочь – политтехнолог с прогрессивными взглядами, но работающая с крайне правыми политиками из любви к высокоуровневым властным манипуляциям. Средняя дочь – домохозяйка с многомиллионными аккаунтами в социальных сетях про примерную семью, львиная часть доходов которой приходится на рекламу мошеннических схем. Обе давно ушли из семьи и стараются избежать общения с мамой, бабушкой и друг с другом.
Центральный персонаж – самая младшая дочь. Ей чуть меньше тридцати. С детства в семье ее называют Черепашка. (Ее должна обязательно играть Флоренс Пью!) Она вылетела из двух университетов подряд, не может ни с кем завести отношения и работает баристой на минимальную зарплату. В своем блоге она делится с немногочисленными подписчиками историями о разговорах с прикованной к постели в шикарном хосписе бабушкой; о едких покровительственных насмешках матери; о скучных визитах на семейные ужины к сестрам, которые уговаривают ее просто найти нормальную работу и/или выгодно жениться. Впрочем, Черепашка умалчивает, что мама оплачивает ей ренту в дорогой квартире в центре города с видом из окна, а сестры все-таки периодически выслушивают ее жалобы на жизнь.
Однажды бабушка во сне бормочет, что уже завещала всю свою медиа-империю любимой Черепашке. В предвкушении огромной власти внучка начинает сливать своим читателям сведения о злоупотреблениях в фонде матери, коррупции старшей сестры и мошеннических схемах средней. Блог залетает в топ, и кто-то пересылает посты в офис городского прокурора. Одновременно бабушка умирает у радостной Черепашки на руках. Все остальные члены семьи спешат в больницу для оглашения завещания. Оказывается, медиа-империя переходит... любимой черепахе бабушки. Питомцу, а не внучке!
В палату вламывается прокурор, который грозится устроить проверку на всех коррумпированных родственников Черепашки. Три громких дела одновременно – прямая дорога к повышению до федерального судьи. Главная героиня осознает, что натворила, и стирает все свои записи. Обвинителям больше нечего предъявить в суде. Мама и сестры спасены! После этого все четверо идут в дешевую шаурмешную. Это первый раз, когда они собрались вместе и серьезно разговаривают друг с другом за многие-многие годы. Фильм заканчивается на том, что они никак не могут перестать смеяться, обсуждая последнюю волю бабушки.
P.S. Окей-окей, чтоб вы долго не гадали, чего я тут снова разошелся: конечно, это все аллегория на университетские дисциплины. Бабушка – теология. Мама – философия. Три сестры – экономика, психология и социология. А личный блог Черепашки – это и есть, собственно, социология знания. Такой сценарий я бы писал, если бы родился и вырос в солнечной Bay Area. Но я – из промозглого Новосибирска. Поэтому вместо сценария буду писать серьезную интеллектуальную историю. Хотя эту задумку можно использовать как предисловие.
👍46💅15👏6✍3👎1👌1
Во вторник в 21-30 МСК мы с товарищем Сюткиным возвращаемся к разговору о ценностях в политике. Только теперь с приставкой «гео-». Будем нещадно критиковать теоретиков realpolitik и столкновения цивилизаций. Ждем ваши вопросы в комментариях!
https://youtube.com/live/7Ah-MSAkKWQ
https://youtube.com/live/7Ah-MSAkKWQ
YouTube
Спор факультетов №8: О ценностях в международных отношениях
00:00:50 Новости за месяц
00:03:20 Геополитика: от андерграунда 1990-х в мейнстрим 2020-х гг.
00:05:33 Почему международные отношения больше геополитики
00:07:50 Реалисты как разочарованные цивилизационщики
00:11:03 Цивилизационщики как уверовавшие реалисты…
00:03:20 Геополитика: от андерграунда 1990-х в мейнстрим 2020-х гг.
00:05:33 Почему международные отношения больше геополитики
00:07:50 Реалисты как разочарованные цивилизационщики
00:11:03 Цивилизационщики как уверовавшие реалисты…
👍14✍7👏6👎2🖕1
Несколько малосвязанных мыслей, предваряющих стрим про геополитику
Благодаря проекту книжки я наконец-то хорошо осознал собственную традицию мысли, которую можно упростить до линии Гегель–Маннгейм–Бурдье. Давайте порассуждаем, в чем заключается ее рациональная утопия? Пожалуй, в создании двух взаимосвязанных метаструктур: а) социологической теории, которая объясняла бы генезис разных типов знания без редукции их к примитивным материальным интересам; б) социального государства, которое впитывало бы силу социальных движений, а не подавляло их силой.
(Конечно, тут сразу же придут разные утописты с жалобами на холодную систему, которая не может предсказать событие, и критические теоретики с выпадами про тоталитаризм объективности, но это perfectly fine. Выдадим им именные профессуры в самом престижном университете – пусть рассуждают, но подчиняются.)
Реальная угроза для такой рациональной утопии – это структура международных отношений, которая тяготеет к состояниям: а) анархии в геополитике; б) игнорирования чуждых интеллектуальных традиций в геокультуре. Условно говоря, даже если к власти в двух соседних странах придут условные просвещенные социал-демократы, есть опасность скатывания в священную войну между ними. Собственно, примеров из XX века, которые подсказывают именно такое развитие событий, можно привести много. Вот именно этот ворох проблем, мне кажется, представляет наибольший интерес и для социологии знания, и для истории Холодной войны.
(Простите, что сумбурно. Пока никак не могу нащупать нужный язык для разговора о подобных междисциплинарных вещах, которые не сводятся ни к социологии, ни к истории, ни к философии. Возможно, это знак, что нужно придумывать очередной набросок сценария! Теперь для антиутопии!)
Благодаря проекту книжки я наконец-то хорошо осознал собственную традицию мысли, которую можно упростить до линии Гегель–Маннгейм–Бурдье. Давайте порассуждаем, в чем заключается ее рациональная утопия? Пожалуй, в создании двух взаимосвязанных метаструктур: а) социологической теории, которая объясняла бы генезис разных типов знания без редукции их к примитивным материальным интересам; б) социального государства, которое впитывало бы силу социальных движений, а не подавляло их силой.
(Конечно, тут сразу же придут разные утописты с жалобами на холодную систему, которая не может предсказать событие, и критические теоретики с выпадами про тоталитаризм объективности, но это perfectly fine. Выдадим им именные профессуры в самом престижном университете – пусть рассуждают, но подчиняются.)
Реальная угроза для такой рациональной утопии – это структура международных отношений, которая тяготеет к состояниям: а) анархии в геополитике; б) игнорирования чуждых интеллектуальных традиций в геокультуре. Условно говоря, даже если к власти в двух соседних странах придут условные просвещенные социал-демократы, есть опасность скатывания в священную войну между ними. Собственно, примеров из XX века, которые подсказывают именно такое развитие событий, можно привести много. Вот именно этот ворох проблем, мне кажется, представляет наибольший интерес и для социологии знания, и для истории Холодной войны.
(Простите, что сумбурно. Пока никак не могу нащупать нужный язык для разговора о подобных междисциплинарных вещах, которые не сводятся ни к социологии, ни к истории, ни к философии. Возможно, это знак, что нужно придумывать очередной набросок сценария! Теперь для антиутопии!)
👍30💅5🤝4
Структура наносит ответный удар pinned «Во вторник в 21-30 МСК мы с товарищем Сюткиным возвращаемся к разговору о ценностях в политике. Только теперь с приставкой «гео-». Будем нещадно критиковать теоретиков realpolitik и столкновения цивилизаций. Ждем ваши вопросы в комментариях! https://yout…»
Трудовой лагер
Советская номенклатура пивных сортов сильно отличается от современной международной BJCP. Значит ли это, что в СССР варили какое-то свое особенное пиво? Скорее, нет, чем да. Давайте разбираться.
Практически все ключевые советские пивоварни были национализированными частными предприятиями, которые, в свою очередь, открывались либо самими немцами, либо при их непосредственном участии в производстве. Поэтому пивоварение в СССР по своим традициям сохранило генетическую связь с центральноевропейским, а не, допустим, с бельгийским или британским (кроме маловыброженного и малоохмеленного «черного» или «бархатного», которое было собственным изобретением). Практически все основные сорта – лагеры, не эли.
Во время второй пятилетки в 1936 году все популярные сорта упорядочили в единую номенклатуру: то, что мы сегодня называем венским лагером, назвали «Жигулевским», богемский пильзнер – «Московским», дункель – «Украинским», а балтийский портер... оставили просто как «Портер» и т. п. Почему эта система сортов настолько по-борхесовски бессистемна, сказать трудно. Протокол конференции руководителей пищевой промышленности не сохранился. Ходит легенда, что якобы Микоян велел убрать все буржуазные названия, но она не имеет архивных подтверждений. Да и вряд ли «венское» звучит более буржуазно, чем «портер».
В оттепельном 1957 году с советской пивной индустрией произошло другое важное событие, которое историк Павел Егоров называет первой крафтовой революцией. Расслабили стандарты ГОСТ, и в разных городах, где после войны понаоткрывали новые заводы, стали варить сорта по собственным оригинальным рецептам. Появилось пиво с добавлением не только кукурузы и риса, но даже хвои и меда. Возникли сорта с повышенным качеством и количеством сырья, вроде «Столичного» от Бадаевского завода с 20% плотностью и 8% алкоголя. С этого момента «Жигулевское» и другие изначально стандартизированные всесоюзные сорта начинают постепенно размываться, потому что на каждом заводе им давали свою интерпретацию. Правда почувствовать разницу было дано только редким командировочникам и туристам – из города в город пиво практически не возили.
В целом, на протяжении всего существования СССР хмель выращивали только в ограниченном количестве регионов, выбраживали пиво мало, надежных технологий пастеризации, которые бы не искажали вкус напитка, еще не существовало. Так что если сегодня какая-нибудь крафтовая пивоварня попробует сделатьпломбир пиво по оригинальному рецепту 1957 года от условного Ташкентского пивзавода, это, пожалуй, мало кому придется по вкусу: габитус современного потребителя адаптировался под куда менее сладкие и куда более крепкие сорта. Кроме того, такое пиво, вероятно, прокиснет, даже не добравшись до покупателя.
Советская номенклатура пивных сортов сильно отличается от современной международной BJCP. Значит ли это, что в СССР варили какое-то свое особенное пиво? Скорее, нет, чем да. Давайте разбираться.
Практически все ключевые советские пивоварни были национализированными частными предприятиями, которые, в свою очередь, открывались либо самими немцами, либо при их непосредственном участии в производстве. Поэтому пивоварение в СССР по своим традициям сохранило генетическую связь с центральноевропейским, а не, допустим, с бельгийским или британским (кроме маловыброженного и малоохмеленного «черного» или «бархатного», которое было собственным изобретением). Практически все основные сорта – лагеры, не эли.
Во время второй пятилетки в 1936 году все популярные сорта упорядочили в единую номенклатуру: то, что мы сегодня называем венским лагером, назвали «Жигулевским», богемский пильзнер – «Московским», дункель – «Украинским», а балтийский портер... оставили просто как «Портер» и т. п. Почему эта система сортов настолько по-борхесовски бессистемна, сказать трудно. Протокол конференции руководителей пищевой промышленности не сохранился. Ходит легенда, что якобы Микоян велел убрать все буржуазные названия, но она не имеет архивных подтверждений. Да и вряд ли «венское» звучит более буржуазно, чем «портер».
В оттепельном 1957 году с советской пивной индустрией произошло другое важное событие, которое историк Павел Егоров называет первой крафтовой революцией. Расслабили стандарты ГОСТ, и в разных городах, где после войны понаоткрывали новые заводы, стали варить сорта по собственным оригинальным рецептам. Появилось пиво с добавлением не только кукурузы и риса, но даже хвои и меда. Возникли сорта с повышенным качеством и количеством сырья, вроде «Столичного» от Бадаевского завода с 20% плотностью и 8% алкоголя. С этого момента «Жигулевское» и другие изначально стандартизированные всесоюзные сорта начинают постепенно размываться, потому что на каждом заводе им давали свою интерпретацию. Правда почувствовать разницу было дано только редким командировочникам и туристам – из города в город пиво практически не возили.
В целом, на протяжении всего существования СССР хмель выращивали только в ограниченном количестве регионов, выбраживали пиво мало, надежных технологий пастеризации, которые бы не искажали вкус напитка, еще не существовало. Так что если сегодня какая-нибудь крафтовая пивоварня попробует сделать
👍58👏8
Совсем не хватает времени следить за американской политикой, но дебаты между кандидатами в мэры Нью-Йорка посмотрел. Как же Зоран Мамдани грамотно разматывает засидевшегося и забронзовевшего бывшего губернатора! Как точно кто-то написал в комментах: «Человек-паук против Зеленого гоблина». Последний раз, когда я с такой же однозначной симпатией следил за чьей-то избирательной кампанией, был в 2021 году. Тогда Человеком-пауком был Михаил Лобанов, но против, увы, был не только Гоблин, а вся Зловещая шестерка.
👍47👎3👌3🖕3💅1
К участию в конференции приглашаются не только философы, но и историки с социологами. Я бы и сам поучаствовал, если б у моих востоковедов были эмоции. Однако они были холодными аналитиками Холодной войны. (Почти не шутка!)
👍14👏3👌1
Forwarded from Стасис
Чувства снова дают сдачи! 🥊
Объявляем старт приема заявок на Междисциплинарную конференцию «Чувства дают сдачи 3.0»
Кого мы ждем?
Если ваши научные интересы связаны с:
• Теорией аффекта и философией эмоций
• Психоанализом и психотерапией
• Историей эмоций, эмоциональных сообществ и телесностью
• Любовью, бесчувственностью и цифровыми технологиями
📅 Когда: 19-20 декабря 2025
📍 Где: Европейский университет в Санкт-Петербурге
⏳ Дедлайн подачи заявки: 25 ноября 2025
Объявляем старт приема заявок на Междисциплинарную конференцию «Чувства дают сдачи 3.0»
Кого мы ждем?
Если ваши научные интересы связаны с:
• Теорией аффекта и философией эмоций
• Психоанализом и психотерапией
• Историей эмоций, эмоциональных сообществ и телесностью
• Любовью, бесчувственностью и цифровыми технологиями
📅 Когда: 19-20 декабря 2025
📍 Где: Европейский университет в Санкт-Петербурге
⏳ Дедлайн подачи заявки: 25 ноября 2025
EUSP
Старт приема заявок. Междисциплинарная конференция «Чувства дают сдачи 3.0»
Третья междисциплинарная конференция «Чувства дают сдачи 3.0» состоится 19-20 декабря 2025 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем к участию философов, историков, социологов, психологов и всех исследователей, для которых тема чувственности…
👍18