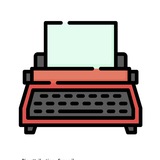Умерла Ирина Панкратова
Журналистка Нина Абросимова написала, что от рака умерла корреспондентка The Bell Ирина Панкратова.
Я не был знаком с Ирой лично, но я хорошо помню, как я впервые прочитал ее текст. Это был еще печатный журнал РБК, июльский выпуск 2018 года про героев новых медиа.
У Иры вышло расследование про то, кто стоит за нелегальным казино Azino777 (помните, приставучую рекламу «а как поднять бабла? Азино-три-топора»).
Для меня, на тот момент первокурсника, это был какой-то иной уровень деловой журналистики — тогда, в целом, была очень сильная редакция РБК.
Я хочу сказать спасибо Ире за расследование про бизнес-империю Константина Малофеева, за тексты про то, как «ВКонтакте» сошелся с пропагандой вместе с другими прихлебателями госбюджета. И, конечно, за текст про схемы владельцев «Пробизнесбанка».
Еще у Иры на сайте The Bell был целый курс про то, как делать онлайн-расследования — он доступен по этой ссылке. Это буквально готовая методичка для начинающего журналиста.
В теории я должен был развиртуализироваться с Ирой этим летом, и очень грустно, что этого не произойдет.
Мои соболезнования ее коллегам, родным и друзьям
Журналистка Нина Абросимова написала, что от рака умерла корреспондентка The Bell Ирина Панкратова.
Я не был знаком с Ирой лично, но я хорошо помню, как я впервые прочитал ее текст. Это был еще печатный журнал РБК, июльский выпуск 2018 года про героев новых медиа.
У Иры вышло расследование про то, кто стоит за нелегальным казино Azino777 (помните, приставучую рекламу «а как поднять бабла? Азино-три-топора»).
Для меня, на тот момент первокурсника, это был какой-то иной уровень деловой журналистики — тогда, в целом, была очень сильная редакция РБК.
Я хочу сказать спасибо Ире за расследование про бизнес-империю Константина Малофеева, за тексты про то, как «ВКонтакте» сошелся с пропагандой вместе с другими прихлебателями госбюджета. И, конечно, за текст про схемы владельцев «Пробизнесбанка».
Еще у Иры на сайте The Bell был целый курс про то, как делать онлайн-расследования — он доступен по этой ссылке. Это буквально готовая методичка для начинающего журналиста.
В теории я должен был развиртуализироваться с Ирой этим летом, и очень грустно, что этого не произойдет.
Мои соболезнования ее коллегам, родным и друзьям
💔42❤11
📰 Дайджест. О чем рассказывали русскоязычные медиа в мае: 23 материала
Собрал все материалы, вышедшие за почти первую половину мая, потому что из-за праздников издания почти не выпускали что-то крупное
🧐 Мой выбор
▪️Медуза, Лилия Яппарова. Как устроен теневой бизнес, основанный на взятках для уклонения от мобилизации и службы в армии — и кто готов платить миллионы за это ~ 19 минут
▪️Кедр, Мария Залужная. Истории трех человек, которые решили подружиться с медведями и в итоге погибли ~ 15 минут
▪️Окно. Как складывается жизнь забайкальской журналистки Ники Новак в заключении после приговора за сотрудничество с Радио Свобода ~ 14 минут
🗞 Репортаж
▪️Медиазона, Софья Крылова. Как тверскому активисту Андрею Трофимову, осужденному на 10 лет колонии, дали еще 3 года сверху за антивоенное выступление в последнем слове ~ 17 минут
По теме: последнее слово Трофимова перед новым приговором.
▪️Такие дела, Ева Елисеева, Дарья Асланян. Как петербургского стрит-арт художника отправили в психиатрическую больницу из-за «акции ко Дню победы» ~ 17 минут
▪️Кедр, Анна Садовина. Как жители рязанского села противостоят свиноферме на 80 тысяч голов, которую хочет открыть приближенный сына Патрушева ~ 16 минут
▪️Грати, Анастасия Москвичева. Как похищенные украинцы после освобождения на месяцы попадают в российские депортационные центры ~ 15 минут
▪️161.ru, Ирина Бабичева, Евгений Игнатенко. Как в Ростовской области в годы войны с Германией появился концлагерь — и что находится сейчас на его месте ~ 14 минут
По теме: еще один текст Ирины Бабичевой — о 20-летнем ветеране ВОВ Сергее Оганяне.
▪️Вот так, Ирина Новик. Как вернувшиеся из украинского плена россияне сталкиваются с заключением и допросами ФСБ ~ 13 минут
▪️Медиазона/Astra. Что известно про убийство многодетной матери в курской деревне российским солдатом ~ 11 минут
▪️Idel.Реалии. Как жителей Татарстана вербуют на службу в Африке ~ 11 минут
▪️Грати, Лутфие Зудиева. Как шестерым крымским татарам дали до 14 лет заключения из-за двухчасового разговора в 2015 году ~ 11 минут
▪️Сибирь.Реалии. Как люди, оказавшиеся в рабстве, потом принудительно попадают в армию ~ 10 минут
🗞 Исследование
▪️Север.Реалии. Кого и как судят по статье о реабилитации нацизма — и о скольки приговорах уже известно в 2025 году ~ 16 минут
▪️Новая-Европа, Соня Рихтер, Денис Морохин. О чем говорят многочисленные новости про возвращение иностранных брендов в Россию — и можно ли им доверять ~ 12 минут
▪️7х7, Игорь Сажин. Как менялся подход к описанию Великой Отечественной войны в советских и российских учебниках истории ~ 11 минут
🗞 Портрет
📹 Такие дела. Как жительница Екатеринбурга Ольга Бахтина создала единственный в городе приют для бездомных ~ 20 минут
▪️Медуза. Как московская судья Наталья Дударь стала символом несправедливых приговоров по политическим делам ~ 15 минут
🗞 Прямая речь
▪️Холод, Маша Матвеева. История пары, в которой жена решила сделать транспереход ~ 16 минут
▪️Такие дела, Маша Ковальковская. Рассказ девушки, которая живет с параноидной шизофренией и галлюцинациями ~ 13 минут
▪️Люди Байкала, Маргарита Иванова. Монолог матери из Забайкалья, чей 12-летний сын находится в кадетском классе — о взрослении в период войны ~ 12 минуты
***
Отдельно хочу обратить внимание на трогательный некролог редакции The Bell журналистке Ирине Панкратовой и подборку ее главных материалов
Собрал все материалы, вышедшие за почти первую половину мая, потому что из-за праздников издания почти не выпускали что-то крупное
🧐 Мой выбор
▪️Медуза, Лилия Яппарова. Как устроен теневой бизнес, основанный на взятках для уклонения от мобилизации и службы в армии — и кто готов платить миллионы за это ~ 19 минут
▪️Кедр, Мария Залужная. Истории трех человек, которые решили подружиться с медведями и в итоге погибли ~ 15 минут
▪️Окно. Как складывается жизнь забайкальской журналистки Ники Новак в заключении после приговора за сотрудничество с Радио Свобода ~ 14 минут
🗞 Репортаж
▪️Медиазона, Софья Крылова. Как тверскому активисту Андрею Трофимову, осужденному на 10 лет колонии, дали еще 3 года сверху за антивоенное выступление в последнем слове ~ 17 минут
По теме: последнее слово Трофимова перед новым приговором.
▪️Такие дела, Ева Елисеева, Дарья Асланян. Как петербургского стрит-арт художника отправили в психиатрическую больницу из-за «акции ко Дню победы» ~ 17 минут
▪️Кедр, Анна Садовина. Как жители рязанского села противостоят свиноферме на 80 тысяч голов, которую хочет открыть приближенный сына Патрушева ~ 16 минут
▪️Грати, Анастасия Москвичева. Как похищенные украинцы после освобождения на месяцы попадают в российские депортационные центры ~ 15 минут
▪️161.ru, Ирина Бабичева, Евгений Игнатенко. Как в Ростовской области в годы войны с Германией появился концлагерь — и что находится сейчас на его месте ~ 14 минут
По теме: еще один текст Ирины Бабичевой — о 20-летнем ветеране ВОВ Сергее Оганяне.
▪️Вот так, Ирина Новик. Как вернувшиеся из украинского плена россияне сталкиваются с заключением и допросами ФСБ ~ 13 минут
▪️Медиазона/Astra. Что известно про убийство многодетной матери в курской деревне российским солдатом ~ 11 минут
▪️Idel.Реалии. Как жителей Татарстана вербуют на службу в Африке ~ 11 минут
▪️Грати, Лутфие Зудиева. Как шестерым крымским татарам дали до 14 лет заключения из-за двухчасового разговора в 2015 году ~ 11 минут
▪️Сибирь.Реалии. Как люди, оказавшиеся в рабстве, потом принудительно попадают в армию ~ 10 минут
🗞 Исследование
▪️Север.Реалии. Кого и как судят по статье о реабилитации нацизма — и о скольки приговорах уже известно в 2025 году ~ 16 минут
▪️Новая-Европа, Соня Рихтер, Денис Морохин. О чем говорят многочисленные новости про возвращение иностранных брендов в Россию — и можно ли им доверять ~ 12 минут
▪️7х7, Игорь Сажин. Как менялся подход к описанию Великой Отечественной войны в советских и российских учебниках истории ~ 11 минут
🗞 Портрет
📹 Такие дела. Как жительница Екатеринбурга Ольга Бахтина создала единственный в городе приют для бездомных ~ 20 минут
▪️Медуза. Как московская судья Наталья Дударь стала символом несправедливых приговоров по политическим делам ~ 15 минут
🗞 Прямая речь
▪️Холод, Маша Матвеева. История пары, в которой жена решила сделать транспереход ~ 16 минут
▪️Такие дела, Маша Ковальковская. Рассказ девушки, которая живет с параноидной шизофренией и галлюцинациями ~ 13 минут
▪️Люди Байкала, Маргарита Иванова. Монолог матери из Забайкалья, чей 12-летний сын находится в кадетском классе — о взрослении в период войны ~ 12 минуты
***
Отдельно хочу обратить внимание на трогательный некролог редакции The Bell журналистке Ирине Панкратовой и подборку ее главных материалов
❤5👎1
📰 Дополнительный дайджест. Что русскоязычные медиа писали про события в мире
🇩🇪 Новая газета, Ирина Тумакова. Репортаж с мест главных концлагерей в Европе — о людях, которым важно помнить об узниках ~ 36 минут
🇦🇷 Insider, Екатерина Базанова. Как в Аргентине россиян обвиняют по делу о торговле людьми и рабском труде — и при чем тут секта «Ашрам Шамбала» ~ 16 минут
🇺🇦 Вот так, Владимир Кириллов. Как в Украине бывшим военнослужащим легиона «Свобода России» не дают статус участника войны ~ 16 минут
🇮🇳 Медуза, Микита Кучински. Интервью с аналитиком международной политики Апарной Панде о причинах конфликта между Пакистаном и Индией ~ 15 минут
🇹🇯 Новости Донбасса. Как граждане Таджикистана попадают на войну с российской стороны ~ 8 минут
🇧🇾 Медиазона.Беларусь. Как гражданку Беларуси отправили в изолятор после проверки на границе ~ 8 минут
🇺🇦 Новости Донбасса. Как боец «Азова» получил пулевое ранение в шею, попал в российский плен, но все равно вернулся домой ~ 7 минут
🇩🇪 Новая газета, Ирина Тумакова. Репортаж с мест главных концлагерей в Европе — о людях, которым важно помнить об узниках ~ 36 минут
🇦🇷 Insider, Екатерина Базанова. Как в Аргентине россиян обвиняют по делу о торговле людьми и рабском труде — и при чем тут секта «Ашрам Шамбала» ~ 16 минут
🇺🇦 Вот так, Владимир Кириллов. Как в Украине бывшим военнослужащим легиона «Свобода России» не дают статус участника войны ~ 16 минут
🇮🇳 Медуза, Микита Кучински. Интервью с аналитиком международной политики Апарной Панде о причинах конфликта между Пакистаном и Индией ~ 15 минут
🇹🇯 Новости Донбасса. Как граждане Таджикистана попадают на войну с российской стороны ~ 8 минут
🇺🇦 Новости Донбасса. Как боец «Азова» получил пулевое ранение в шею, попал в российский плен, но все равно вернулся домой ~ 7 минут
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
🏆 Медиазона и Би-би-си стали победителями Sigma Awards — и другие лауреаты премии по дата-журналистике
Сегодня Международная сеть журналистов-расследователей (GIJN) объявила победителей премии по дата-журналистике Sigma Awards.
Среди российских медиа победили Медиазона и Русская служба Би-би-си — за материал «Цена Бахмута» о том, сколько заключенных было завербовано в «ЧВК Вагнера» и сколько из них погибло в Украине.
Почему редакциям дали премию:
Другие победители. Проекты
▪️Center for Public Integrity, Reveal, Mother Jones — 40 Acres and a Mule (США)
Я уже кратко писал об этой работе, когда перечислял лауреатов National Magazine Award.
Журналисты установили личности 1250 ранее порабощённых чернокожих людей, которым была выделена земля в качестве формы репараций (те самые «40 акров») — однако впоследствии у многих из них эта земля была просто отобрана и передана их бывшим белым рабовладельцам.
Проект создал 100 семейных древ, благодаря чему журналисты установили и уведомили 41 живого потомка освобождённых рабов, которым после Гражданской войны в США была положена земля.
▪️Reuters — Buildings Wrapped in Solid Gasoline (Испания)
Объяснение того, чем опасны легковоспламеняющиеся облицовочные панели зданий. В 2017 году из-за них быстро загорелось лондонская башня Grenfell, из-за чего погибли более 70 человек.
Reuters на примере Испании показывает, что выводы из этой истории почти никто не сделал, и опасные материалы все еще используются в облицовке зданий.
▪️Texty — Carousel of Emotions (Украина)
Исследование о том, как украинские телеграм-каналы используют структуру языка и техники прокремлевской пропаганды.
▪️Unidad de Investigación Tierra de Nadie, CONNECTAS — Terranexus Durán (Эквадор)
Расследование о том, как устроена схема махинаций с землей, благодаря которым преступные группировки Эквадора получили контроль над значительными частями прибрежного города Дуран.
▪️Le Monde и другие проекты — Under the Surface (Франция)
Расследование на тему экологии — как изменения климата повлияли на подземные воды, питающие страны Европы. Оказалось, что запасы пресной подземной воды истощаются, а остатки сталкиваются с загрязнением
▪️Data Cívica, Animal Político, México Evalúa — Vote Between the Bullets (Мексика)
Проект о том, как нападения на политиков влияют на общественную жизнь в Мексике. Журналисты разработали инструмент, который отслеживает сообщения о случаях такого насилия, и создали базу данных — она доступна для всех.
Портфолио
▪️Проект Last Story о гуманитарном кризисе в секторе Газа.
▪️Материалы перуанской Salud Con Lupa о схемах обхода санкций, беременности среди детей и провалах в регулировании, которые способствуют широкому использованию опасных пестицидов.
▪️Графика гонконгской SCMP, которая рассказывает о сложных проблемах, как нелегальное строительство или война в Украине, на примере доступной визуализации.
Сегодня Международная сеть журналистов-расследователей (GIJN) объявила победителей премии по дата-журналистике Sigma Awards.
Среди российских медиа победили Медиазона и Русская служба Би-би-си — за материал «Цена Бахмута» о том, сколько заключенных было завербовано в «ЧВК Вагнера» и сколько из них погибло в Украине.
Почему редакциям дали премию:
В великолепном примере документального расследования и анализа данных, Медиазона и Русская служба Би-би-си раскрыли мрачную тайну самой кровопролитной битвы войны России против Украины.
Основываясь на таких источниках данных, как документы о выплатах семьям погибших солдат, команда смогла показать, как организация Вагнера под руководством Евгения Пригожина набрала армию заключённых для безрассудных атак в 20-месячной битве за Бахмут, длившейся с января 2022 года по август 2023 года.
Проекту также пришлось тщательно защищать личности некоторых источников и членов команды, учитывая драконовские законы против инакомыслия и утечек информации о войне внутри России.
«"Цена Бахмута" показала, как армия наёмников Вагнера вербовала тысячи заключённых и отправляла их на смерть в жестоких «мясных штурмах», — написал один из судей премии Sigma. — Используя данные, включая выплаты семьям погибших, обсуждения в чатах, судебные иски и жетоны, журналисты подробно показали порочную систему вербовки и смертельную эксплуатацию “бесплатных” рекрутов. Потрясающая и вдохновляющая работа».
В дополнение к десяткам тысяч просмотров на сайте, материал привлёк внимание более миллиона зрителей на YouTube.
Другие победители. Проекты
▪️Center for Public Integrity, Reveal, Mother Jones — 40 Acres and a Mule (США)
Я уже кратко писал об этой работе, когда перечислял лауреатов National Magazine Award.
Журналисты установили личности 1250 ранее порабощённых чернокожих людей, которым была выделена земля в качестве формы репараций (те самые «40 акров») — однако впоследствии у многих из них эта земля была просто отобрана и передана их бывшим белым рабовладельцам.
Проект создал 100 семейных древ, благодаря чему журналисты установили и уведомили 41 живого потомка освобождённых рабов, которым после Гражданской войны в США была положена земля.
▪️Reuters — Buildings Wrapped in Solid Gasoline (Испания)
Объяснение того, чем опасны легковоспламеняющиеся облицовочные панели зданий. В 2017 году из-за них быстро загорелось лондонская башня Grenfell, из-за чего погибли более 70 человек.
Reuters на примере Испании показывает, что выводы из этой истории почти никто не сделал, и опасные материалы все еще используются в облицовке зданий.
▪️Texty — Carousel of Emotions (Украина)
Исследование о том, как украинские телеграм-каналы используют структуру языка и техники прокремлевской пропаганды.
▪️Unidad de Investigación Tierra de Nadie, CONNECTAS — Terranexus Durán (Эквадор)
Расследование о том, как устроена схема махинаций с землей, благодаря которым преступные группировки Эквадора получили контроль над значительными частями прибрежного города Дуран.
▪️Le Monde и другие проекты — Under the Surface (Франция)
Расследование на тему экологии — как изменения климата повлияли на подземные воды, питающие страны Европы. Оказалось, что запасы пресной подземной воды истощаются, а остатки сталкиваются с загрязнением
▪️Data Cívica, Animal Político, México Evalúa — Vote Between the Bullets (Мексика)
Проект о том, как нападения на политиков влияют на общественную жизнь в Мексике. Журналисты разработали инструмент, который отслеживает сообщения о случаях такого насилия, и создали базу данных — она доступна для всех.
Портфолио
▪️Проект Last Story о гуманитарном кризисе в секторе Газа.
▪️Материалы перуанской Salud Con Lupa о схемах обхода санкций, беременности среди детей и провалах в регулировании, которые способствуют широкому использованию опасных пестицидов.
▪️Графика гонконгской SCMP, которая рассказывает о сложных проблемах, как нелегальное строительство или война в Украине, на примере доступной визуализации.
🔥5
🤝 Дружеский пост
На прошлой неделе появилось две интересных инициативы: для начинающих и уже опытных журналистов.
▪️Стажировка в «Таких делах», «Гласной» и «Кедре»
Проект «Четвертый сектор» приглашает на отбор для стажировки в этих редакциях.
Кого ждут: учащихся журфаков, начинающих авторов и активистов, которые понимают, как устроены медиа, но хотят стать ближе к журналистике (не завидую!).
Что надо: жить в России, сделать тестовое задание — новостную заметку с комментарием — и предложить тему для материала.
Как попасть: нужно подать заявку, после отбора сделать тестовое задание, и если все ок, перейдете в основной набор.
С июля по январь вы будете работать с редактором-ментором, слушать онлайн-лекции и общаться с другими стажерами.
Что еще: за тексты платят гонорары (сумму не знаю) и есть шанс после выпуска писать для редакций как фрилансер.
Податься на стажировку можно по этой ссылке.
На всякий случай — примеры работ стажеров прошлого набора: Такие дела, Кедр, Гласная
Если есть вопросы, пишите на почту [email protected] или в телеграм-бот «Четвертого сектора».
▪️Вакансия в «Важных историях»
Если вы уже старичок для стажировок и знаете, для чего нужны кавычки и тег filetype: при поиске в гугле, то посмотрите на вакансию новостника/рисерчера в одном из главных российских расследовательских медиа.
Кого ждут: человека, разбирающегося в OSINT-инструментах, новостной повестке и хорошо знающего английский язык.
Что надо: жить в «безопасной стране» (то есть лучше подальше от СНГ) и интересоваться людьми в России и их судьбой (не шучу, так и написано)
Как попасть: пришлите рассказ о себе, резюме, портфолио и контакты в соцсетях/мессенджерах с темой «Новостник/Рисерчер» на адрес [email protected].
Дедлайн: 9 июня
✨ Всем удачи!
На прошлой неделе появилось две интересных инициативы: для начинающих и уже опытных журналистов.
▪️Стажировка в «Таких делах», «Гласной» и «Кедре»
Проект «Четвертый сектор» приглашает на отбор для стажировки в этих редакциях.
Кого ждут: учащихся журфаков, начинающих авторов и активистов, которые понимают, как устроены медиа, но хотят стать ближе к журналистике (не завидую!).
Что надо: жить в России, сделать тестовое задание — новостную заметку с комментарием — и предложить тему для материала.
Как попасть: нужно подать заявку, после отбора сделать тестовое задание, и если все ок, перейдете в основной набор.
С июля по январь вы будете работать с редактором-ментором, слушать онлайн-лекции и общаться с другими стажерами.
Что еще: за тексты платят гонорары (сумму не знаю) и есть шанс после выпуска писать для редакций как фрилансер.
Податься на стажировку можно по этой ссылке.
На всякий случай — примеры работ стажеров прошлого набора: Такие дела, Кедр, Гласная
Если есть вопросы, пишите на почту [email protected] или в телеграм-бот «Четвертого сектора».
▪️Вакансия в «Важных историях»
Если вы уже старичок для стажировок и знаете, для чего нужны кавычки и тег filetype: при поиске в гугле, то посмотрите на вакансию новостника/рисерчера в одном из главных российских расследовательских медиа.
Кого ждут: человека, разбирающегося в OSINT-инструментах, новостной повестке и хорошо знающего английский язык.
Что надо: жить в «безопасной стране» (то есть лучше подальше от СНГ) и интересоваться людьми в России и их судьбой (не шучу, так и написано)
Как попасть: пришлите рассказ о себе, резюме, портфолио и контакты в соцсетях/мессенджерах с темой «Новостник/Рисерчер» на адрес [email protected].
Дедлайн: 9 июня
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7😁2👍1
Перестройка канала и ваше мнение
Решил прервать молчание, чтобы рассказать, о чем я в последнее время думаю.
Примерно два года назад я начал активно вести этот канал, и, кажется, сейчас наступил момент творческого тупика. Последние две недели я пытался решить, что мне интересно и как это донести до других, то есть до вас.
Одна из идей, которая пришла в голову — отказаться от еженедельных дайджестов с обзором материалов из русскоязычных медиа.
Причин у этого несколько.
Первая — я физически не всегда успеваю все качественно прочитать из вышедшего за неделю.
Вторая — я несколько подустал от чтения однотипных материалов или текстов на так называемые «вечнозеленые» темы.
Репортажи про мусорные полигоны или последствия мобилизации в регионах несомненно важны, потому что это тексты «с земли» — о том, что происходит в России прямо сейчас. Но зачастую они имеют одну и ту же композицию, и в какой-то момент у тебя появляется ощущение, что ты читаешь один и тот же текст — просто в другой локации и с другим набором героев.
Как журналист, который интересуется сторителлингом и нарративными приемами, я мало что могу почерпнуть для себя — но еще раз это никак не умаляет значимость материалов.
И третья — я не уверен, что подборки с ссылками на 20+ текстов сильно удобны. Но у этого тезиса есть свои аргументы за и против.
За — люди, которые не успевают следить за медиаповесткой, могут быстро просмотреть, что выходило на неделе, и выбрать для себя интересную тему или же понять, что они ничего не пропустили (избавляемся от FOMO).
Против — как будто бы несколько текстов, но с более внимательным анализом могут дать больше пищи для размышлений и какого-то читательского интереса. А еще мне не всегда хватает количества знаков в посте, чтобы уместить все ссылки!
Я начинал собирать эти подборки, в первую очередь, для себя. Чтобы понимать, кто и как отрабатывает разные темы. Чтобы использовать канал как базу текстов, к которой можно обратиться, если нужно посмотреть, что выходило до тебя. Ну, и чтобы привлекать больше внимания к талантливым авторам — собственно, поэтому я обычно указываю не только редакции.
В общем, как видите, у меня много сомнений, но нет готового решения — и я буду рад, если вы мне подскажете, нужны ли крупные дайджесты дальше или нет.
Свое мнение можно высказать тут в комментариях или проголосовать в опроснике ниже.
P.S. Если что — типичный дайджест выглядит вот так
Решил прервать молчание, чтобы рассказать, о чем я в последнее время думаю.
Примерно два года назад я начал активно вести этот канал, и, кажется, сейчас наступил момент творческого тупика. Последние две недели я пытался решить, что мне интересно и как это донести до других, то есть до вас.
Одна из идей, которая пришла в голову — отказаться от еженедельных дайджестов с обзором материалов из русскоязычных медиа.
Причин у этого несколько.
Первая — я физически не всегда успеваю все качественно прочитать из вышедшего за неделю.
Вторая — я несколько подустал от чтения однотипных материалов или текстов на так называемые «вечнозеленые» темы.
Репортажи про мусорные полигоны или последствия мобилизации в регионах несомненно важны, потому что это тексты «с земли» — о том, что происходит в России прямо сейчас. Но зачастую они имеют одну и ту же композицию, и в какой-то момент у тебя появляется ощущение, что ты читаешь один и тот же текст — просто в другой локации и с другим набором героев.
Как журналист, который интересуется сторителлингом и нарративными приемами, я мало что могу почерпнуть для себя — но еще раз это никак не умаляет значимость материалов.
И третья — я не уверен, что подборки с ссылками на 20+ текстов сильно удобны. Но у этого тезиса есть свои аргументы за и против.
За — люди, которые не успевают следить за медиаповесткой, могут быстро просмотреть, что выходило на неделе, и выбрать для себя интересную тему или же понять, что они ничего не пропустили (избавляемся от FOMO).
Против — как будто бы несколько текстов, но с более внимательным анализом могут дать больше пищи для размышлений и какого-то читательского интереса. А еще мне не всегда хватает количества знаков в посте, чтобы уместить все ссылки!
Я начинал собирать эти подборки, в первую очередь, для себя. Чтобы понимать, кто и как отрабатывает разные темы. Чтобы использовать канал как базу текстов, к которой можно обратиться, если нужно посмотреть, что выходило до тебя. Ну, и чтобы привлекать больше внимания к талантливым авторам — собственно, поэтому я обычно указываю не только редакции.
В общем, как видите, у меня много сомнений, но нет готового решения — и я буду рад, если вы мне подскажете, нужны ли крупные дайджесты дальше или нет.
Свое мнение можно высказать тут в комментариях или проголосовать в опроснике ниже.
P.S. Если что — типичный дайджест выглядит вот так
❤7
Нужны ли вам длинные дайджесты c материалами за неделю?
Anonymous Poll
55%
Да, мне они подходят
45%
Нет, лучше делать детальные разборы лучших текстов
Чего мне не хватает в наших медиа — личные истории и эссе
Я часто читаю американские медиа, и так сложилось, что один из моих любимых жанров — это эссе, или personal history, как его именуют в New Yorker.
Мне нравятся работы, которые находятся где-то на стыке мемуаров, автобиографии и социального комментария.
Когда автор вроде бы описывает личную историю, но через нее можно взглянуть на опыт целого поколения или определенной группы людей.
Когда я читаю эссе редакторки Atlantic Джениши Уоттс об опыте взросления в дисфункциональной семье и достижении успеха — что называется, с низов — я в то же время знакомлюсь с болью целого поколения детей, выросших во времена эпидемии крэка в США.
Когда я читаю историю журналистки New Yorker Цзиян Фань о миграции из Китая в США и травле госпропаганды в период ковида, я могу представить, что таких семей в стране, совмещающих в себе две разных идентичности, — огромное количество.
Алекс Тизон в посмертном очерке «Рабыня моей семьи» (перевод) рассказывает мне историю филиппинки Лолы, попавшей в бесправное положение в США, и одновременно показывает, как устроен американский колониализм и как можно попытаться исправить ошибку прошлого поколения.
Еще примеры вдохновляющих работ можно посмотреть тут, но я думаю, посыл понятен.
И если честно, я мало вижу подобных историй в русскоязычных массовых медиа. Точнее так — у нас это совершенно не регулярный жанр.
Сейчас лучше всех, на мой взгляд, в жанре личных историй работает «Холод». Из последнего, что меня сильно впечатлило — монологи про борьбу с наркотической зависимостью и опыт переживания смерти взрослой дочери от рака.
Структурно материалы «Холода» выглядят несколько иначе, чем у американских коллег: автором указывается журналист, поговоривший с человеком, а не сам носитель истории. И акцент делается все же больше на личный опыт, чем на попытку осмыслить нечто большее за ним.
И тут мы подходим к моему вопросу: а почему личными историями регулярно занимается только «Холод»?
Один из коллег, с которым я обсуждал эту тему, предположил, что в российской традиции эссеистика относится больше к литературе — мол, это жанр, в котором упражняются писатели, — чем к журналистике.
Я с ним в чем-то согласен. Мы как будто настолько привыкли к традиции «Ведомостей/Коммерсанта» писать о событиях в третьем лице, с чьих-то слов, «только о важном» ©, что перестали воспринимать себя как авторов, которым вообще-то есть что рассказать о боли. А эти рассказы, если бывают, почему-то достаются книжкам, а не страницам интернет-СМИ.
Личное мнение ютится где-то в разделах «Колумнистика» и «Мнение» или, что хуже, мешается с чисто документальными жанрами. Зачем писать отдельный материал со своими мыслями, если можно мимоходом запихнуть их в текст про других людей?
Я люблю текст Юлии Дудкиной, где она размышляет о своей травле в школе и обсуждает эту проблему с уже повзрослевшими одноклассниками. Но он вышел в 2018 году.
Что-то похожее встречалось в цикле «Та самая история» у «Батеньки, да вы трансформер»: авторы самиздата рассказывали, как война в Чечне повлияла на семью или как можно пойти на убийство ради денег. Но они выходили до 2020 года.
Окей, может быть, не каждый из нас способен размышлять и писать, как Джоан Дидион в «Годе магического мышления», но как же, блин, не хватает сейчас не очередных аналитических текстов «что там в Украине/Палестине/Кремле», а рефлексии через личный опыт. Не анализа события, а своей реакции на него.
Недавно я прочитал текст преподавательницы томского журфака Марины Сенинг «Родовая боль» — это автобиографическая проза с элементами эссеистики и мемуаров
Он никак не связан с современной повесткой, он о чем-то более вечном: о связи с семьей, исторической родиной, поиске идентичности и ностальгии.
Я легко могу представить этот текст на страницах New Yorker или Paris Review, но, к сожалению, не у нас.
Я часто читаю американские медиа, и так сложилось, что один из моих любимых жанров — это эссе, или personal history, как его именуют в New Yorker.
Мне нравятся работы, которые находятся где-то на стыке мемуаров, автобиографии и социального комментария.
Когда автор вроде бы описывает личную историю, но через нее можно взглянуть на опыт целого поколения или определенной группы людей.
Когда я читаю эссе редакторки Atlantic Джениши Уоттс об опыте взросления в дисфункциональной семье и достижении успеха — что называется, с низов — я в то же время знакомлюсь с болью целого поколения детей, выросших во времена эпидемии крэка в США.
Когда я читаю историю журналистки New Yorker Цзиян Фань о миграции из Китая в США и травле госпропаганды в период ковида, я могу представить, что таких семей в стране, совмещающих в себе две разных идентичности, — огромное количество.
Алекс Тизон в посмертном очерке «Рабыня моей семьи» (перевод) рассказывает мне историю филиппинки Лолы, попавшей в бесправное положение в США, и одновременно показывает, как устроен американский колониализм и как можно попытаться исправить ошибку прошлого поколения.
Еще примеры вдохновляющих работ можно посмотреть тут, но я думаю, посыл понятен.
И если честно, я мало вижу подобных историй в русскоязычных массовых медиа. Точнее так — у нас это совершенно не регулярный жанр.
Сейчас лучше всех, на мой взгляд, в жанре личных историй работает «Холод». Из последнего, что меня сильно впечатлило — монологи про борьбу с наркотической зависимостью и опыт переживания смерти взрослой дочери от рака.
Структурно материалы «Холода» выглядят несколько иначе, чем у американских коллег: автором указывается журналист, поговоривший с человеком, а не сам носитель истории. И акцент делается все же больше на личный опыт, чем на попытку осмыслить нечто большее за ним.
И тут мы подходим к моему вопросу: а почему личными историями регулярно занимается только «Холод»?
Один из коллег, с которым я обсуждал эту тему, предположил, что в российской традиции эссеистика относится больше к литературе — мол, это жанр, в котором упражняются писатели, — чем к журналистике.
Я с ним в чем-то согласен. Мы как будто настолько привыкли к традиции «Ведомостей/Коммерсанта» писать о событиях в третьем лице, с чьих-то слов, «только о важном» ©, что перестали воспринимать себя как авторов, которым вообще-то есть что рассказать о боли. А эти рассказы, если бывают, почему-то достаются книжкам, а не страницам интернет-СМИ.
Личное мнение ютится где-то в разделах «Колумнистика» и «Мнение» или, что хуже, мешается с чисто документальными жанрами. Зачем писать отдельный материал со своими мыслями, если можно мимоходом запихнуть их в текст про других людей?
Я люблю текст Юлии Дудкиной, где она размышляет о своей травле в школе и обсуждает эту проблему с уже повзрослевшими одноклассниками. Но он вышел в 2018 году.
Что-то похожее встречалось в цикле «Та самая история» у «Батеньки, да вы трансформер»: авторы самиздата рассказывали, как война в Чечне повлияла на семью или как можно пойти на убийство ради денег. Но они выходили до 2020 года.
Окей, может быть, не каждый из нас способен размышлять и писать, как Джоан Дидион в «Годе магического мышления», но как же, блин, не хватает сейчас не очередных аналитических текстов «что там в Украине/Палестине/Кремле», а рефлексии через личный опыт. Не анализа события, а своей реакции на него.
Недавно я прочитал текст преподавательницы томского журфака Марины Сенинг «Родовая боль» — это автобиографическая проза с элементами эссеистики и мемуаров
Он никак не связан с современной повесткой, он о чем-то более вечном: о связи с семьей, исторической родиной, поиске идентичности и ностальгии.
Я легко могу представить этот текст на страницах New Yorker или Paris Review, но, к сожалению, не у нас.
❤29👍6❤🔥3🔥3🤔2💔2
Чего мне не хватает в наших медиа — прозрачности перед читателем
Решил написать серию постов с размышлениями о нашей бренной медиажизни перед трансформацией канала (об этом — в отдельном посте).
Сегодня хочу поговорить про прозрачность и открытость медиа перед аудиторией. И начну снова с западных примеров.
Как у них
Я очень люблю рубрику New York Times Times Insider. По сути, это корпоративный блог, в котором журналисты редакции рассказывают о том, как они работали над материалами, или же размышляют о своей работе (опция для мэтров-корифеев).
Фотодокументалистка Линси Аддарио рассказывала, как провела неделю с украинской семьей, живущей у линии фронта. Майкл Форсайт описывал работу над расследованием о пропаже картины ван Гога. Директор отдела безопасности Таг Вилсон объяснял, как вывозили журналистов московского бюро после начала вторжения в Украину.
Times Insider — это один из разделов секции Reader Center, которую NYT запустила в 2017 году, что относительно недавно.
Вот с какими целями придумывался Reader Center:
▪️Улучшение взаимодействия с читателями
▪️Повышение прозрачности и помощь в объяснении редакционной политики и принципов.
▪️Новый формат взаимодействия с аудиторией.
▪️Поддержка журналистов в создании сообщества, которое интересуется определенными темами.
«Мы хотим, чтобы читатели поняли: у нас по всему миру работают выдающиеся люди, которые порой сталкиваются с трудностями, но испытывают и радость от своей работы», — объясняет редакторка Times Insider Дженнифер Краус.
Еще у NYT есть аналог Times Insider для команды разработчиков и дизайнеров — NYT Open. Там они периодически рассказывают, как делают разные технические штуки: игры и кроссворды, инструменты для освещения выборов или карту лесных пожаров.
Это я не говорю про относительно недавнюю идею NYT кратко рассказывать о том, что именно сделал журналист, в самом материале — куда съездил, что прочитал, с кем поговорил.
И NYT — это не какой-то уникальный случай, привычка рассказывать о себе своей же аудитории есть и у других медиа.
Marshall Project при публикации исследования о преступлениях сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка не только рассказали о работе над ним, но и опубликовали пять выводов, которые появились за два года работы над темой.
Получается схема: «вот что мы сделали» — «вот как мы это сделали» — «вот что мы поняли».
Редакция ProPublica, которая недавно получила очередную Пулитцеровскую премию за освещение последствий антиабортной политики в США, объясняла, каких принципов они придерживаются в этой теме.
У Washington Post некоторые журналисты ведут инстаграмы, в которых показывают закулисье работы. Одна из них — журналистка пула Белого дома Эмили Дэвис (я когда-то писал, как она пришла к этому).
Решил написать серию постов с размышлениями о нашей бренной медиажизни перед трансформацией канала (об этом — в отдельном посте).
Сегодня хочу поговорить про прозрачность и открытость медиа перед аудиторией. И начну снова с западных примеров.
Как у них
Я очень люблю рубрику New York Times Times Insider. По сути, это корпоративный блог, в котором журналисты редакции рассказывают о том, как они работали над материалами, или же размышляют о своей работе (опция для мэтров-корифеев).
Фотодокументалистка Линси Аддарио рассказывала, как провела неделю с украинской семьей, живущей у линии фронта. Майкл Форсайт описывал работу над расследованием о пропаже картины ван Гога. Директор отдела безопасности Таг Вилсон объяснял, как вывозили журналистов московского бюро после начала вторжения в Украину.
Times Insider — это один из разделов секции Reader Center, которую NYT запустила в 2017 году, что относительно недавно.
Вот с какими целями придумывался Reader Center:
▪️Улучшение взаимодействия с читателями
▪️Повышение прозрачности и помощь в объяснении редакционной политики и принципов.
▪️Новый формат взаимодействия с аудиторией.
▪️Поддержка журналистов в создании сообщества, которое интересуется определенными темами.
«Мы хотим, чтобы читатели поняли: у нас по всему миру работают выдающиеся люди, которые порой сталкиваются с трудностями, но испытывают и радость от своей работы», — объясняет редакторка Times Insider Дженнифер Краус.
Еще у NYT есть аналог Times Insider для команды разработчиков и дизайнеров — NYT Open. Там они периодически рассказывают, как делают разные технические штуки: игры и кроссворды, инструменты для освещения выборов или карту лесных пожаров.
Это я не говорю про относительно недавнюю идею NYT кратко рассказывать о том, что именно сделал журналист, в самом материале — куда съездил, что прочитал, с кем поговорил.
И NYT — это не какой-то уникальный случай, привычка рассказывать о себе своей же аудитории есть и у других медиа.
Marshall Project при публикации исследования о преступлениях сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка не только рассказали о работе над ним, но и опубликовали пять выводов, которые появились за два года работы над темой.
Получается схема: «вот что мы сделали» — «вот как мы это сделали» — «вот что мы поняли».
Редакция ProPublica, которая недавно получила очередную Пулитцеровскую премию за освещение последствий антиабортной политики в США, объясняла, каких принципов они придерживаются в этой теме.
У Washington Post некоторые журналисты ведут инстаграмы, в которых показывают закулисье работы. Одна из них — журналистка пула Белого дома Эмили Дэвис (я когда-то писал, как она пришла к этому).
❤13👍3
Как у нас
В российских СМИ примеров такой прозрачности как будто раз-два и обчёлся.
Самая заметная попытка была у «Медузы»: редакция рассказывала о своей работе сначала на Medium, а потом на отдельной вкладке на сайте. Но с декабря 2022 года она не обновляется. Почему блог для читателей закрылся, читателям, что забавно, так и не объяснили.
Еще хороший пример — канал «Мастерская» Важных историй. Из последнего: редакция рассказывала о разных подходах к фактчекингу и о работе с данными в своих расследованиях. А еще у них есть отдельный ютуб-канал, в котором журналисты рассказывают о том, как собирать данные с помощью кода.
В основном, в российских медиа о своей работе рассказывают только корреспонденты, выпустившие новый материал. Отвлеченные размышления о самой профессии как будто бы редкость, а если они есть, то без какой-либо рубрикации или систематизации. И, конечно, чуть не забыл про мой «любимый» жанр «Заявление редакции» по поводу и без.
Пример того, как можно интересно и регулярно рассказывать о своей работе — коммуникационное агентство SETTERS. Компания ведет внутренние блоги в инстаграме и телеграме, в которых сотрудники делятся мыслями про маркетинг и дизайн. Совокупная аудитория блогов — около 25 тысяч подписчиков, что, согласитесь, немало для медиа только про «внутрячки».
Аргументы, которые я предвижу, в пользу того, почему в российских СМИ такие блоги не приживутся — у нас выше риски по безопасности, Кремль и ФСБ следуют по пятам, а еще нет денег и людей на эти писульки о себе.
Окей, если это так, то почему все еще не закрылась ютуб-программа «Прослушка» Андрея Захарова, который приглашает к себе на эфиры журналистов, чтобы они рассказали о своих материалах? Почему премия «Редколлегия» все еще публикует речи лауреатов, где они пишут о подготовке своих работ?
К сожалению, я как будто знаю ответ на свои вопросы — редакциям просто пофиг. Мы все расследовали, мы знаем все и лучше всех, просто поверь нам, а если не понимаешь и сомневаешься, то «сочувствую». «Если надо объяснять, то не надо объяснять» — это слабая позиция.
Я согласен, что после 2022 года (да даже раньше) быть российским журналистом и сохранять прежние стандарты прозрачности стало сложнее. Но никто не просит рассказывать о том, как вы получаете финансирование или работаете с фрилансерами в России.
Расскажите про свое отношение к AI-технологиям. Расскажите, почему вы употребляете феминитивы и следите за гендерной лексикой. Расскажите, как проверяете анонимные источники. Расскажите, как вы освещали вторжение в Курскую область или теракт в «Крокусе»: как не спали, ничего не успевали, переживали. Расскажите, что вы обычные люди.
Если чувствуете, что к материалу будет много вопросов даже у лояльной аудитории, подготовьтесь заранее — выпустите вместе с основным текстом объяснялку: как мы работали и что мы про это думаем. У нас, как правило, такие тексты появляются уже пост-фактум, когда срач случился и игнорировать его невозможно.
При желании быть прозрачным все еще возможно. И тут я сошлюсь на пример знакомого мне как внешне, так и изнутри продукта — Медиазону (на всякий случай: ниже приведено мое мнение, а не редакции).
Когда Трамп зарубил зарубежную грантовую помощь, я то и дело слышал от коллег из разных изданий о том, какой это пиздец и как все плохо.
Открыто и подробно о новой для себя реальности, кажется, рассказала только Медиазона. Своих сотрудников увольняла и когда-то прозрачная Медуза, но об этом мне, читателю, сообщила почему-то не сама редакция, а невзлинская SOTA. Похожая история была и с сокращениями в «Радио Свобода» и «Голосе Америки».
Недавно на ютуб-канале Медиазоны вышли видео, из которых можно узнать, как ведется подсчет погибших на войне в Украине и кто вообще есть в редакции. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться и дальше.
***
И напоследок, если вдруг еще есть сомнения, должны ли редакции открываться перед читателем, советую почитать недавний материал Reuters Institute о том, как на проблему смотрят западные журналисты.
В российских СМИ примеров такой прозрачности как будто раз-два и обчёлся.
Самая заметная попытка была у «Медузы»: редакция рассказывала о своей работе сначала на Medium, а потом на отдельной вкладке на сайте. Но с декабря 2022 года она не обновляется. Почему блог для читателей закрылся, читателям, что забавно, так и не объяснили.
Еще хороший пример — канал «Мастерская» Важных историй. Из последнего: редакция рассказывала о разных подходах к фактчекингу и о работе с данными в своих расследованиях. А еще у них есть отдельный ютуб-канал, в котором журналисты рассказывают о том, как собирать данные с помощью кода.
В основном, в российских медиа о своей работе рассказывают только корреспонденты, выпустившие новый материал. Отвлеченные размышления о самой профессии как будто бы редкость, а если они есть, то без какой-либо рубрикации или систематизации. И, конечно, чуть не забыл про мой «любимый» жанр «Заявление редакции» по поводу и без.
Пример того, как можно интересно и регулярно рассказывать о своей работе — коммуникационное агентство SETTERS. Компания ведет внутренние блоги в инстаграме и телеграме, в которых сотрудники делятся мыслями про маркетинг и дизайн. Совокупная аудитория блогов — около 25 тысяч подписчиков, что, согласитесь, немало для медиа только про «внутрячки».
Аргументы, которые я предвижу, в пользу того, почему в российских СМИ такие блоги не приживутся — у нас выше риски по безопасности, Кремль и ФСБ следуют по пятам, а еще нет денег и людей на эти писульки о себе.
Окей, если это так, то почему все еще не закрылась ютуб-программа «Прослушка» Андрея Захарова, который приглашает к себе на эфиры журналистов, чтобы они рассказали о своих материалах? Почему премия «Редколлегия» все еще публикует речи лауреатов, где они пишут о подготовке своих работ?
К сожалению, я как будто знаю ответ на свои вопросы — редакциям просто пофиг. Мы все расследовали, мы знаем все и лучше всех, просто поверь нам, а если не понимаешь и сомневаешься, то «сочувствую». «Если надо объяснять, то не надо объяснять» — это слабая позиция.
Я согласен, что после 2022 года (да даже раньше) быть российским журналистом и сохранять прежние стандарты прозрачности стало сложнее. Но никто не просит рассказывать о том, как вы получаете финансирование или работаете с фрилансерами в России.
Расскажите про свое отношение к AI-технологиям. Расскажите, почему вы употребляете феминитивы и следите за гендерной лексикой. Расскажите, как проверяете анонимные источники. Расскажите, как вы освещали вторжение в Курскую область или теракт в «Крокусе»: как не спали, ничего не успевали, переживали. Расскажите, что вы обычные люди.
Если чувствуете, что к материалу будет много вопросов даже у лояльной аудитории, подготовьтесь заранее — выпустите вместе с основным текстом объяснялку: как мы работали и что мы про это думаем. У нас, как правило, такие тексты появляются уже пост-фактум, когда срач случился и игнорировать его невозможно.
При желании быть прозрачным все еще возможно. И тут я сошлюсь на пример знакомого мне как внешне, так и изнутри продукта — Медиазону (на всякий случай: ниже приведено мое мнение, а не редакции).
Когда Трамп зарубил зарубежную грантовую помощь, я то и дело слышал от коллег из разных изданий о том, какой это пиздец и как все плохо.
Открыто и подробно о новой для себя реальности, кажется, рассказала только Медиазона. Своих сотрудников увольняла и когда-то прозрачная Медуза, но об этом мне, читателю, сообщила почему-то не сама редакция, а невзлинская SOTA. Похожая история была и с сокращениями в «Радио Свобода» и «Голосе Америки».
Недавно на ютуб-канале Медиазоны вышли видео, из которых можно узнать, как ведется подсчет погибших на войне в Украине и кто вообще есть в редакции. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться и дальше.
***
И напоследок, если вдруг еще есть сомнения, должны ли редакции открываться перед читателем, советую почитать недавний материал Reuters Institute о том, как на проблему смотрят западные журналисты.
❤16👍2
Кому я благодарен в профессии
Продолжаю писать свои размышления о журналистике и нас в ней.
Когда я составлял пост об Ирине Панкратовой и читал слова коллег о ней, я задумался о том, как важно быть благодарным. Даже так: вовремя благодарным.
К сожалению, я давно привык к атмосфере медиасрачей, сплетен обо всех и вся, конкуренции за какие-то эксклюзивы и еще тлеющим огонькам тщеславия, которые не приносят ничего кроме FOMO.
Но, блин, я так от этого устал. Раньше, если я читал чей-то потрясный текст, я мог прийти в личку к автору/авторам, чтобы виртуально пожать руку, потому что я тупо хорошо провел время и узнал что-то новое как профессионал.
И меня удивляло, что для многих людей обычная благодарность, за которой не стояло какого-либо желания получить выгоду — что-то из ряда вон.
Это все к чему: мне кажется, надо говорить банальное «спасибо» чаще. Чем я сейчас и займусь.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы я не написал Пете Маняхину перед началом первого курса с просьбой поработать в журнале НГУ «УЖ».
Если честно, я боюсь открывать то сообщение, потому что оно было где-то на грани с кринжем и наивностью 17-летнего человека, который не то что пороха, а даже бальзама «Звездочка» не нюхал.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы я не написал Рите Логиновой после первой зимней сессии с предложением написать заметку для Тайги.инфо с конференции «Тотального диктанта».
Разумеется, Рита ее переписала, но не бросила меня и поручила потом более важное задание — сходить в гости к «Руси сидящей».
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы в Новосибирске не было расследовательского проекта ТакТакТак и Виктора Юкечева.
Расследователем я не стал, но хотя бы понял на первом курсе, что для этого нужно. Книжка «Какие медиа, такое и общество», кстати, ездит со мной с 2018 года и переживает уже вторую эмиграцию.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Иван Голунов не согласился поговорить со мной для учебного проекта.
Я херово подготовился к разговору, потому что кроме любопытства к человеку у меня ничего и не было, но после интервью я понял, что любопытство — возможно, самая важная штука в профессии.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Ярослав Власов не переписывал мои новости на первой летней практике и не отправил на первое в жизни судебное заседание.
Скорее всего, я тогда думал, что он чересчур придирчив, но иначе я бы не узнал, что такое въедливость и внимание к деталям — иногда память на них злит чиновников больше, чем сама новость. Я как-то раз одной заметкой уволил двух человек и вынудил оправдываться пресс-службу Мишустина (че???).
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Султан Сулейманов из Медузы не ответил на мою заявку о стажировке.
Я написал для Медузы несколько новостей и один большой текст, который с горем пополам собрал в самый сложный тогда для себя период жизни, но получил кое-что более важное — понимание, как устроено федеральное медиа.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Андрей Шарый и Юлия Мучник не утвердили бы мою заявку на стажировку в Радио Свобода и работу в Сибирь.Реалиях, а редакция грузинского бюро не приняла бы меня у себя.
Первый серьезный опыт эмиграции, знакомство с плюсами и минусами работы в международной корпорации, первый опыт в дата-журналистике и переосмысление себя как регионального журналиста — это все оттуда.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы я не решил случайно послушать голосовое сообщение в телеграм-канале Сергея Смирнова, из которого я узнал, что Медиазона ищет человека в отдел новостей.
За семь-восемь лет я прошел как будто бы полный профессиональный цикл: студенческий журнал, региональное интернет-издание, федеральное СМИ, международная корпорация — все из них уже либо закрыты, либо сводят концы с концами под гнетом репрессий.
Всего этого у меня бы не было, если бы я не встретил людей выше и еще многих других, которые о важности для меня, может быть, и не знают. А кого-то я не могу назвать по соображениям безопасности, в том числе своей.
Я хочу сказать всем им большое спасибо, потому что они — мои университеты.
Продолжаю писать свои размышления о журналистике и нас в ней.
Когда я составлял пост об Ирине Панкратовой и читал слова коллег о ней, я задумался о том, как важно быть благодарным. Даже так: вовремя благодарным.
К сожалению, я давно привык к атмосфере медиасрачей, сплетен обо всех и вся, конкуренции за какие-то эксклюзивы и еще тлеющим огонькам тщеславия, которые не приносят ничего кроме FOMO.
Но, блин, я так от этого устал. Раньше, если я читал чей-то потрясный текст, я мог прийти в личку к автору/авторам, чтобы виртуально пожать руку, потому что я тупо хорошо провел время и узнал что-то новое как профессионал.
И меня удивляло, что для многих людей обычная благодарность, за которой не стояло какого-либо желания получить выгоду — что-то из ряда вон.
Это все к чему: мне кажется, надо говорить банальное «спасибо» чаще. Чем я сейчас и займусь.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы я не написал Пете Маняхину перед началом первого курса с просьбой поработать в журнале НГУ «УЖ».
Если честно, я боюсь открывать то сообщение, потому что оно было где-то на грани с кринжем и наивностью 17-летнего человека, который не то что пороха, а даже бальзама «Звездочка» не нюхал.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы я не написал Рите Логиновой после первой зимней сессии с предложением написать заметку для Тайги.инфо с конференции «Тотального диктанта».
Разумеется, Рита ее переписала, но не бросила меня и поручила потом более важное задание — сходить в гости к «Руси сидящей».
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы в Новосибирске не было расследовательского проекта ТакТакТак и Виктора Юкечева.
Расследователем я не стал, но хотя бы понял на первом курсе, что для этого нужно. Книжка «Какие медиа, такое и общество», кстати, ездит со мной с 2018 года и переживает уже вторую эмиграцию.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Иван Голунов не согласился поговорить со мной для учебного проекта.
Я херово подготовился к разговору, потому что кроме любопытства к человеку у меня ничего и не было, но после интервью я понял, что любопытство — возможно, самая важная штука в профессии.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Ярослав Власов не переписывал мои новости на первой летней практике и не отправил на первое в жизни судебное заседание.
Скорее всего, я тогда думал, что он чересчур придирчив, но иначе я бы не узнал, что такое въедливость и внимание к деталям — иногда память на них злит чиновников больше, чем сама новость. Я как-то раз одной заметкой уволил двух человек и вынудил оправдываться пресс-службу Мишустина (че???).
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Султан Сулейманов из Медузы не ответил на мою заявку о стажировке.
Я написал для Медузы несколько новостей и один большой текст, который с горем пополам собрал в самый сложный тогда для себя период жизни, но получил кое-что более важное — понимание, как устроено федеральное медиа.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы Андрей Шарый и Юлия Мучник не утвердили бы мою заявку на стажировку в Радио Свобода и работу в Сибирь.Реалиях, а редакция грузинского бюро не приняла бы меня у себя.
Первый серьезный опыт эмиграции, знакомство с плюсами и минусами работы в международной корпорации, первый опыт в дата-журналистике и переосмысление себя как регионального журналиста — это все оттуда.
— Моя карьера сложилась бы иначе, если бы я не решил случайно послушать голосовое сообщение в телеграм-канале Сергея Смирнова, из которого я узнал, что Медиазона ищет человека в отдел новостей.
За семь-восемь лет я прошел как будто бы полный профессиональный цикл: студенческий журнал, региональное интернет-издание, федеральное СМИ, международная корпорация — все из них уже либо закрыты, либо сводят концы с концами под гнетом репрессий.
Всего этого у меня бы не было, если бы я не встретил людей выше и еще многих других, которые о важности для меня, может быть, и не знают. А кого-то я не могу назвать по соображениям безопасности, в том числе своей.
Я хочу сказать всем им большое спасибо, потому что они — мои университеты.
❤36💔12🔥6👍2
🗞 Дайджест. О чем писали русскоязычные медиа на этой неделе
Я вернулся! И в обновленном формате. Больше не будет постов с рубрикацией и 30 ссылками за раз. Я решил ограничить число материалов, но делать комментарии к наиболее понравившимся. Посмотрим, приживется ли
▪️Новая-Европа, Илья Азар. «Я всегда просчитываю, что я делаю»
О чем: История российского активиста Дмитрия Баграша, осуждённого почти на 5,5 лет в Германии по обвинению в попытке поджога дома, где жили сотрудники российских государственных СМИ
Время чтения: 50 минут
Очерк, в котором рассказывается, как некогда бизнесмен стал политическим активистом, в одиночку организовал антипутинский палаточный лагерь (кэмп) в Берлине, а потом попал под уголовное дело, где есть улики, но и нестыковки тоже.
Азар поговорил с другими эмигрантами, которые знают Баграша и с которыми он конфликтовал, адвокатами и даже с самим активистом — оказывается, в Германии можно говорить по телефону прямо из камеры изолятора.
Получился портрет человека, которому ты вроде сочувствуешь из-за его искренности и энтузиазма, но его поведение все равно отталиквает. Отчасти это и портрет современной политической эмиграции.
▪️Гласная, Вика Солькина. «Твоя мама нас бросила»
О чем: Как устроено родительство женщин, которые ушли из семьи и оставили детей
Время чтения: 30 минут
Истории трех женщин и одновременно трех несчастливых браков, после которых героини стали, так сказать, «мамами выходного дня».
У каждой из женщин были разные мотивы для такого решения — кто-то боялся не справиться с ребенком финансово, а кто-то просто устал и захотел пожить для себя.
Мне понравилась редактура материала: читается легко, нет перегруза цитатами. Легко могу представить его в формате монолога, и он совершенно ничего не потеряет — это комплимент про качество работы с текстом.
А еще посмотрите на стилистику подзаголовков: женщины в них — акторки действий, а не просто жертвы обстоятельств. Очень крутая, на мой взгляд, деталь.
Еще в тексте есть лаконичные комментарии консультантки по родительскому выгоранию и психолога.
Я считаю этот текст своего рода сиквелом ранее вышедшего на «Гласной» материала — про отцов, которые после развода воспитывают детей одни.
▪️Верстка, Иван Жадаев, Юлия Селихова. «Он не хотел на войну»
О чем: История студента из Чувашии, который почти вступил в ВСУ, но его вернули в Россию в рамках обмена пленными
Время чтения: 17 минут
Текст про то, как часто бывает «слепа» государственная система к людям — особенно не самым осознанным.
20-летний Алексей Герасимов перешел границу с Россией, чтобы воевать за Украину, но потом то ли передумал, то ли не захотел что-то делать без контракта на руках, поссорился с командованием и попал в украинскую миграционную тюрьму.
А в конце мая его как гражданское лицо вернули в Россию в рамках обмена пленными — прямо в руки ФСБ. Теперь у парня есть уголовка по террористической статье.
История Герасимова показывает, что иностранные добровольцы в украинской армии существуют в серой правовой зоне — крепких гарантий почти что нет.
Для идейных бойцов — это вроде бы не проблема, но эпизод с выдачей обратно России человека, который, кстати, так и не взял в руки оружие, все равно оказал деморализующий эффект, признаются другие россияне.
Минус у этого материала один: не все данные в нем поддаются проверке, поэтому местами придется верить на слово, но эти моменты помечены в тексте.
Что еще интересного выходило на этой неделе:
— Новая-Европа, Юлия Парамонова. Кто устраивает и ездит туры из России в Афганистан
— Би-би-си, Софья Вольянова. Почему в России не работает система помощи военным с ПТСР
— Новая газета, Иван Жилин. Как живет алтайское село, где на войну призвали каждого седьмого
— Люди Байкала, Анастасия Иванова. Как в Иркутской области работает госпрограмма «Вызов» — по ней подопечных детдомов возвращают в родные семьи
— Такие дела, Ирина Гильфанова. Портрет женщины-инспектора в уральском заповеднике «Денежкин камень»
Я вернулся! И в обновленном формате. Больше не будет постов с рубрикацией и 30 ссылками за раз. Я решил ограничить число материалов, но делать комментарии к наиболее понравившимся. Посмотрим, приживется ли
▪️Новая-Европа, Илья Азар. «Я всегда просчитываю, что я делаю»
О чем: История российского активиста Дмитрия Баграша, осуждённого почти на 5,5 лет в Германии по обвинению в попытке поджога дома, где жили сотрудники российских государственных СМИ
Время чтения: 50 минут
Очерк, в котором рассказывается, как некогда бизнесмен стал политическим активистом, в одиночку организовал антипутинский палаточный лагерь (кэмп) в Берлине, а потом попал под уголовное дело, где есть улики, но и нестыковки тоже.
Азар поговорил с другими эмигрантами, которые знают Баграша и с которыми он конфликтовал, адвокатами и даже с самим активистом — оказывается, в Германии можно говорить по телефону прямо из камеры изолятора.
Получился портрет человека, которому ты вроде сочувствуешь из-за его искренности и энтузиазма, но его поведение все равно отталиквает. Отчасти это и портрет современной политической эмиграции.
▪️Гласная, Вика Солькина. «Твоя мама нас бросила»
О чем: Как устроено родительство женщин, которые ушли из семьи и оставили детей
Время чтения: 30 минут
Истории трех женщин и одновременно трех несчастливых браков, после которых героини стали, так сказать, «мамами выходного дня».
У каждой из женщин были разные мотивы для такого решения — кто-то боялся не справиться с ребенком финансово, а кто-то просто устал и захотел пожить для себя.
Мне понравилась редактура материала: читается легко, нет перегруза цитатами. Легко могу представить его в формате монолога, и он совершенно ничего не потеряет — это комплимент про качество работы с текстом.
А еще посмотрите на стилистику подзаголовков: женщины в них — акторки действий, а не просто жертвы обстоятельств. Очень крутая, на мой взгляд, деталь.
Еще в тексте есть лаконичные комментарии консультантки по родительскому выгоранию и психолога.
Я считаю этот текст своего рода сиквелом ранее вышедшего на «Гласной» материала — про отцов, которые после развода воспитывают детей одни.
▪️Верстка, Иван Жадаев, Юлия Селихова. «Он не хотел на войну»
О чем: История студента из Чувашии, который почти вступил в ВСУ, но его вернули в Россию в рамках обмена пленными
Время чтения: 17 минут
Текст про то, как часто бывает «слепа» государственная система к людям — особенно не самым осознанным.
20-летний Алексей Герасимов перешел границу с Россией, чтобы воевать за Украину, но потом то ли передумал, то ли не захотел что-то делать без контракта на руках, поссорился с командованием и попал в украинскую миграционную тюрьму.
А в конце мая его как гражданское лицо вернули в Россию в рамках обмена пленными — прямо в руки ФСБ. Теперь у парня есть уголовка по террористической статье.
История Герасимова показывает, что иностранные добровольцы в украинской армии существуют в серой правовой зоне — крепких гарантий почти что нет.
Для идейных бойцов — это вроде бы не проблема, но эпизод с выдачей обратно России человека, который, кстати, так и не взял в руки оружие, все равно оказал деморализующий эффект, признаются другие россияне.
Минус у этого материала один: не все данные в нем поддаются проверке, поэтому местами придется верить на слово, но эти моменты помечены в тексте.
Что еще интересного выходило на этой неделе:
— Новая-Европа, Юлия Парамонова. Кто устраивает и ездит туры из России в Афганистан
— Би-би-си, Софья Вольянова. Почему в России не работает система помощи военным с ПТСР
— Новая газета, Иван Жилин. Как живет алтайское село, где на войну призвали каждого седьмого
— Люди Байкала, Анастасия Иванова. Как в Иркутской области работает госпрограмма «Вызов» — по ней подопечных детдомов возвращают в родные семьи
— Такие дела, Ирина Гильфанова. Портрет женщины-инспектора в уральском заповеднике «Денежкин камень»
❤7👍5🔥4
Поговорим об этике, стандартах и прозрачности
На прошлой неделе у Insider вышло расследование о том, как школьников привлекают к сборке беспилотников.
Материал любопытный, подумал я, и мне стало интересно, а как авторы работали над ним.
Журналистка из Беларуси Татьяна Ашуркевич пришла в передачу «Прослушка» Андрея Захарова, в которой расследователи и репортеры рассказывают о своих работах — и ее комментарий меня просто поразил.
Дело вот в этой цитате (полная цитата под катом, таймкод на видео тут):
Еще Ашуркевич рассказывала, как она под видом других людей, лояльных Кремлю, разговаривала уже со взрослыми.
Андрей спросил: был ли это единственный способ добыть информацию, и как ты оцениваешь свой метод с точки зрения этики?
Теперь взглянем на вторую цитату:
Я не готов рассуждать, насколько уместно оправдывать такие методы работы реалиями, которые установились в Беларуси после 2020 года — у нас текст про Россию и ее реалии, напомню.
Просто возникает два вопроса:
1. Все-таки это был единственный возможный способ добыть информацию? Без «мне кажется» — просто «да, другие не сработали» или «нет, нам просто так было удобно». И если да, то как была тогда устроена редактура и верификация этих сведений?
2. Предупреждена ли аудитория издания, что информация была добыта не самым честным способом?
Ответ на второй вопрос можно получить, если открыть само расследование. В начале материала нет какого-либо предупреждения для читателей, которое обычно ставят в таких случаях.
О том, что журналистка представлялась кем-то другим можно понять лишь по ходу чтения:
То, как были опрошены дети, подается лаконично: «The Insider связался с тремя финалистами заключительного этапа «Больших вызовов» (их имена изменены в тексте) от лица государственной газеты».
Этого объяснения достаточно? На мой взгляд, нет.
Немного не в тему, но напомню: в 2017 году журналистке «Медузы» Саше Сулим пришлось заплатить убийце Михаилу Попкову, чтобы он согласился на интервью.
Редакция дала три абзаца перед самой беседой, в которых объяснила, почему они пошли на это и какие журналистские принципы пришлось нарушить.
Всё, вопросов у меня как у читателя нет. Я предупрежден и могу сам решить, верю ли я Попкову. У меня нет чувства, что меня пытаются напарить.
Продолжение ниже ⬇️
На прошлой неделе у Insider вышло расследование о том, как школьников привлекают к сборке беспилотников.
Материал любопытный, подумал я, и мне стало интересно, а как авторы работали над ним.
Журналистка из Беларуси Татьяна Ашуркевич пришла в передачу «Прослушка» Андрея Захарова, в которой расследователи и репортеры рассказывают о своих работах — и ее комментарий меня просто поразил.
Дело вот в этой цитате (полная цитата под катом, таймкод на видео тут):
«Я очень переживала из-за звонков, я думала, что все откажутся говорить, но с детьми получилось все отлично. Если они в начале переживали, затем они стали раскрываться.
Я звонила им как государственная журналистка, журналистка газеты «Звезда», поменяла аватарку в телеграме на «Звезду», так что это сработало.
Я сказала, что я пишу текст о том, как молодежь помогает фронту, вы такие талантливые, и хотелось бы узнать, если среди вас кто-то, кто вот это делает.
И потом они раскрылись. Мне пришлось сказать, что я не буду указывать это в тексте, мне это просто для своего понимания, чтобы я передала редактору.
И здесь такой моральный аспект, что я не очень себя чувствовала, естественно, потому что это дети.
<...>
Мне было немного не по себе, но я понимала, что это единственный способ узнать какую-то информацию, и это сработало.
Еще Ашуркевич рассказывала, как она под видом других людей, лояльных Кремлю, разговаривала уже со взрослыми.
Андрей спросил: был ли это единственный способ добыть информацию, и как ты оцениваешь свой метод с точки зрения этики?
Теперь взглянем на вторую цитату:
«Я в принципе следила во время разговора, чтобы не хармить именно детей. Мне кажется, что это единственный способ. <...>
Я не претендую на 100% правоту, но мне кажется, что сейчас мы находимся уже в той ситуации, когда получать подобную информацию, ну, можно только оригинальными способами. <...>
Мне кажется, что информацию, которую они рассказали, это информация действительно огромной общественной важности для того, чтобы хотя бы, не знаю, западные страны обратили внимание на то, что вообще себе позволяет Россия. <...>
Мне кажется, что я сделала, что могла, и я бы не получила это другим способом. Просто из моего опыта работы после 20-го года в Беларуси, это просто, да, это просто невозможно.
Я не готов рассуждать, насколько уместно оправдывать такие методы работы реалиями, которые установились в Беларуси после 2020 года — у нас текст про Россию и ее реалии, напомню.
Просто возникает два вопроса:
1. Все-таки это был единственный возможный способ добыть информацию? Без «мне кажется» — просто «да, другие не сработали» или «нет, нам просто так было удобно». И если да, то как была тогда устроена редактура и верификация этих сведений?
2. Предупреждена ли аудитория издания, что информация была добыта не самым честным способом?
Ответ на второй вопрос можно получить, если открыть само расследование. В начале материала нет какого-либо предупреждения для читателей, которое обычно ставят в таких случаях.
О том, что журналистка представлялась кем-то другим можно понять лишь по ходу чтения:
«Федосеев, поговоривший с корреспондентом The Insider, думая, что общается с методисткой АСИ», «корреспондентка The Insider позвонила министру под видом методистки», «поговорила корреспондент The Insider, представившись сотрудницей Движения первых»
То, как были опрошены дети, подается лаконично: «The Insider связался с тремя финалистами заключительного этапа «Больших вызовов» (их имена изменены в тексте) от лица государственной газеты».
Этого объяснения достаточно? На мой взгляд, нет.
Немного не в тему, но напомню: в 2017 году журналистке «Медузы» Саше Сулим пришлось заплатить убийце Михаилу Попкову, чтобы он согласился на интервью.
Редакция дала три абзаца перед самой беседой, в которых объяснила, почему они пошли на это и какие журналистские принципы пришлось нарушить.
Всё, вопросов у меня как у читателя нет. Я предупрежден и могу сам решить, верю ли я Попкову. У меня нет чувства, что меня пытаются напарить.
Продолжение ниже ⬇️
❤3🔥3
🔽 Продолжение
В 2022 году Сеть журналистов-расследователей (GIJN) выпустила памятку об этических сложностях, если репортер работает «под прикрытием» (undercover reporting).
Вот какие рекомендации дает Бен Шапиро из Columbia Journalism School — о том, что должна сделать редакция, если ей пришлось пойти на обман собеседников при сборе информации:
А редакция GIJN добавляет: «В вашем финальном материале важно компенсировать это исключительной, даже радикальной, прозрачностью перед читателями или аудиторией».
Давайте посмотрим, как западные редакции комментируют свои решения работать «под прикрытием».
В 2017 году репортер Mother Jones Шэйн Бауэр получил National Magazine Award (что это?) за репортаж о том, как он четыре месяца работал охранником в частной тюрьме. Главред Клара Джеффри написала отдельную колонку о том, почему они решили пойти на это.
Репортаж Бауэра привел к том, что Минюст США закрыл частные тюрьмы как институцию. Эффект материала, на мой взгляд, полностью оправдал этические нарушения, которые были допущены при его создании, хотя некоторые вопросы все же есть.
Колумнистка Барбара Эренрайх в 2001 году выпустила книгу Nickel and Dimed — о том, как американская реформа социального обеспечения в конце 1990-х повлияла на жизнь бедных.
Эренрайх устраивалась на низкооплачиваемые работы, чтобы разобраться, реально ли прожить в США на минимальную зарплату с ресурсами, которые доступны бедным.
«Чтобы облегчить чувство вины за обман, я всегда "признавалась" самым близким коллегам перед уходом с работы. Они реагировали на это на удивление спокойно», — писала она в 2006-м.
Сама Эренрайх упоминала другую книгу, которую написал журналист под прикрытием — Lowest of the Low Гюнтера Вальрафа, который два года работал в ФРГ, представляясь эмигрантом из Турции.
Я не уверен, что опыт, который получили Эренрайх и Уолрофф, можно получить, представляясь журналистом. Они кучу месяцев вели наблюдение, и это позже привело к дискуссии о положении уязвимых слоев населения.
К сожалению, в российских редакциях привычка объясняться перед читателем — все еще редкость.
Даже в известном репортаже Елены Костюченко про устройство психоневрологических интернатов, который произвел мощный эффект, была скупая ремарка:
«Новая газета» благодарит проект ОНФ «Регион заботы» и лично Нюту Федермессер за помощь в организации доступа наших корреспондентов в это и другие учреждения.
А как кто они были, думайте уже сами. Да, возможно, это не столь важно, общественный интерес к теме действительно превалирует, но напишите чуть-чуть поподробнее, почему вы решили так сделать — и все, ноль вопросов.
Алексей Навальный мог позвонить сотруднику ФСБ и представиться кем угодно, потому что он политик, у него другие цели, даже если итоговый результат похож на журналистский. А с журналистов, простите, спрос вообще-то больше. По крайней мере я в это верю.
Не согласиться и поспорить со мной можно в комментариях
В 2022 году Сеть журналистов-расследователей (GIJN) выпустила памятку об этических сложностях, если репортер работает «под прикрытием» (undercover reporting).
Вот какие рекомендации дает Бен Шапиро из Columbia Journalism School — о том, что должна сделать редакция, если ей пришлось пойти на обман собеседников при сборе информации:
«Полностью объясните своё решение работать под прикрытием и использованные вами методы».
А редакция GIJN добавляет: «В вашем финальном материале важно компенсировать это исключительной, даже радикальной, прозрачностью перед читателями или аудиторией».
Давайте посмотрим, как западные редакции комментируют свои решения работать «под прикрытием».
В 2017 году репортер Mother Jones Шэйн Бауэр получил National Magazine Award (что это?) за репортаж о том, как он четыре месяца работал охранником в частной тюрьме. Главред Клара Джеффри написала отдельную колонку о том, почему они решили пойти на это.
Репортаж Бауэра привел к том, что Минюст США закрыл частные тюрьмы как институцию. Эффект материала, на мой взгляд, полностью оправдал этические нарушения, которые были допущены при его создании, хотя некоторые вопросы все же есть.
Колумнистка Барбара Эренрайх в 2001 году выпустила книгу Nickel and Dimed — о том, как американская реформа социального обеспечения в конце 1990-х повлияла на жизнь бедных.
Эренрайх устраивалась на низкооплачиваемые работы, чтобы разобраться, реально ли прожить в США на минимальную зарплату с ресурсами, которые доступны бедным.
«Чтобы облегчить чувство вины за обман, я всегда "признавалась" самым близким коллегам перед уходом с работы. Они реагировали на это на удивление спокойно», — писала она в 2006-м.
Сама Эренрайх упоминала другую книгу, которую написал журналист под прикрытием — Lowest of the Low Гюнтера Вальрафа, который два года работал в ФРГ, представляясь эмигрантом из Турции.
Я не уверен, что опыт, который получили Эренрайх и Уолрофф, можно получить, представляясь журналистом. Они кучу месяцев вели наблюдение, и это позже привело к дискуссии о положении уязвимых слоев населения.
К сожалению, в российских редакциях привычка объясняться перед читателем — все еще редкость.
Даже в известном репортаже Елены Костюченко про устройство психоневрологических интернатов, который произвел мощный эффект, была скупая ремарка:
«Новая газета» благодарит проект ОНФ «Регион заботы» и лично Нюту Федермессер за помощь в организации доступа наших корреспондентов в это и другие учреждения.
А как кто они были, думайте уже сами. Да, возможно, это не столь важно, общественный интерес к теме действительно превалирует, но напишите чуть-чуть поподробнее, почему вы решили так сделать — и все, ноль вопросов.
Алексей Навальный мог позвонить сотруднику ФСБ и представиться кем угодно, потому что он политик, у него другие цели, даже если итоговый результат похож на журналистский. А с журналистов, простите, спрос вообще-то больше. По крайней мере я в это верю.
Не согласиться и поспорить со мной можно в комментариях
❤8🔥2🤝2