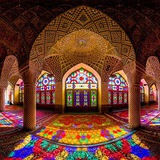Вторая мировая война в исторической памяти иранцев является частью колониальной травмы. Ввод войск Союзников, Тегеранская конференция и послевоенный Азербайджанский кризис видятся проявлениями слабости государства и неспособности противостоять внешним силам, пусть и более мощным. Понятно, что с нашей точки зрения иранский театр военных действий является чем-то второ- или даже третьестепенным, но внутри Ирана эти события даже сейчас воспринимаются болезненно.
Такое отношение подтверждается реакцией иранских соцсетей на недавнюю фотографию, где российский и британский послы пытаются воспроизвести знаменитый снимок Сталина, Черчилля и Рузвельта, сидящих на лестнице советского посольства. Лозунг «Никогда больше», который практически вытеснен из российского публичного поля и заменен более воинственными, для иранцев имеет другой оттенок – не допустить, чтобы судьбу твоей страны решали внешние силы.
На фотографии – британский агитационный плакат времен войны с подписью «Диктаторы будут повержены».
Такое отношение подтверждается реакцией иранских соцсетей на недавнюю фотографию, где российский и британский послы пытаются воспроизвести знаменитый снимок Сталина, Черчилля и Рузвельта, сидящих на лестнице советского посольства. Лозунг «Никогда больше», который практически вытеснен из российского публичного поля и заменен более воинственными, для иранцев имеет другой оттенок – не допустить, чтобы судьбу твоей страны решали внешние силы.
На фотографии – британский агитационный плакат времен войны с подписью «Диктаторы будут повержены».
ОСМЫСЛЕНИЕ МОДЕРНА
Европейская экспансия в Иране XIX века время от времени мыслится как односторонний процесс. Мол, колониальные государства, пользуясь слабостью Ирана, навязывали ему собственные интересы и превратили его в сырьевой придаток и новый рынок сбыта. Хотя в основе этого нарратива лежат вполне достоверные факты, он значительно упрощает картину событий этого периода.
В ту эпоху представители иранской элиты открывали для себя Европу. То, что долгие столетия мыслилось как место обитания фаранги – “франков”, приобретало реальные очертания. Первые иранские путешественники, вернувшись на родину, описывали диковинные достижения европейских народов. Их удивляли больницы и университеты, парламент и суд, в котором любой человек мог выступить даже против правителя.
Иранская действительность диктовала неизбежность перемен. Тяжелые поражения в русско-персидских войнах били не столько по внешнеполитическому престижу, сколько по самоощущению молодой династии Каджаров. Армия повелителя правоверных, “тени Бога на земле”, терпела военные неудачи в боях с неверными. Рецепт виделся простым – шаху нужна современная армия, а для этого необходимы преобразования.
Впрочем, характер этих преобразований был поводом для дискуссий. Некоторые представители иранской аристократии считали, что для усиления государства нужны политические реформы. По их мнению, успехи европейских империй и их колоссальный технический прогресс стали возможными в том числе и благодаря “более совершенной” политической системе.
Зарождавшийся класс иранской интеллигенции, которую позже назовут роушанфекран – “ясно мыслящие”, был проводником идей Просвещения и европейских представлений о нации и государстве. Еврофильская элита Ирана создает новый словарь, в котором на смену подданным пришли граждане, составлявшие нацию, вводились понятия народовластия, ответственного правительства, парламента…
Новые идеи распространялись благодаря деятельности тайных обществ и активному развитию печатного дела и прессы. Первое тайное общество было основано литератором Мальком-ханом в 1858 г. и получило название “дом забвения” (по одной из версий, такое название – фарамуш-хане – является персидской переработкой слова Franc-maçonnerie). В это общество входили видные сановники того времени, а закрыто оно было уже спустя три года указом шаха, которого беспокоила деятельность иранских просветителей.
Наряду с Мальком-ханом свои воззрения о преобразовании Ирана в современное государство выражали Фатхали Ахундзаде и Ага-хан Кермани. В их работах большое внимание уделяется иранской национальной истории, которую оба они рассматривали как основу будущего государства. По их представлениям, иранцам необходимо обратиться к доисламскому наследию – именно в ту пору Иран был великим, а арабское завоевание и исламизация помешали дальнейшему развитию иранской нации.
Предыдущие части: Идея Ирана, Два лица “Шах-наме”, Открытие Ирана
Европейская экспансия в Иране XIX века время от времени мыслится как односторонний процесс. Мол, колониальные государства, пользуясь слабостью Ирана, навязывали ему собственные интересы и превратили его в сырьевой придаток и новый рынок сбыта. Хотя в основе этого нарратива лежат вполне достоверные факты, он значительно упрощает картину событий этого периода.
В ту эпоху представители иранской элиты открывали для себя Европу. То, что долгие столетия мыслилось как место обитания фаранги – “франков”, приобретало реальные очертания. Первые иранские путешественники, вернувшись на родину, описывали диковинные достижения европейских народов. Их удивляли больницы и университеты, парламент и суд, в котором любой человек мог выступить даже против правителя.
Иранская действительность диктовала неизбежность перемен. Тяжелые поражения в русско-персидских войнах били не столько по внешнеполитическому престижу, сколько по самоощущению молодой династии Каджаров. Армия повелителя правоверных, “тени Бога на земле”, терпела военные неудачи в боях с неверными. Рецепт виделся простым – шаху нужна современная армия, а для этого необходимы преобразования.
Впрочем, характер этих преобразований был поводом для дискуссий. Некоторые представители иранской аристократии считали, что для усиления государства нужны политические реформы. По их мнению, успехи европейских империй и их колоссальный технический прогресс стали возможными в том числе и благодаря “более совершенной” политической системе.
Зарождавшийся класс иранской интеллигенции, которую позже назовут роушанфекран – “ясно мыслящие”, был проводником идей Просвещения и европейских представлений о нации и государстве. Еврофильская элита Ирана создает новый словарь, в котором на смену подданным пришли граждане, составлявшие нацию, вводились понятия народовластия, ответственного правительства, парламента…
Новые идеи распространялись благодаря деятельности тайных обществ и активному развитию печатного дела и прессы. Первое тайное общество было основано литератором Мальком-ханом в 1858 г. и получило название “дом забвения” (по одной из версий, такое название – фарамуш-хане – является персидской переработкой слова Franc-maçonnerie). В это общество входили видные сановники того времени, а закрыто оно было уже спустя три года указом шаха, которого беспокоила деятельность иранских просветителей.
Наряду с Мальком-ханом свои воззрения о преобразовании Ирана в современное государство выражали Фатхали Ахундзаде и Ага-хан Кермани. В их работах большое внимание уделяется иранской национальной истории, которую оба они рассматривали как основу будущего государства. По их представлениям, иранцам необходимо обратиться к доисламскому наследию – именно в ту пору Иран был великим, а арабское завоевание и исламизация помешали дальнейшему развитию иранской нации.
Предыдущие части: Идея Ирана, Два лица “Шах-наме”, Открытие Ирана
Telegram
Pax Iranica
ИДЕЯ ИРАНА
Поскольку само по себе понятие патриотизма связано с возникшими в эпоху модерности понятиями «нация» и «национализм», то точка отсчета в изучении этой проблемы находится в первой половине XIX в., когда иранские интеллектуалы, опираясь на идеи…
Поскольку само по себе понятие патриотизма связано с возникшими в эпоху модерности понятиями «нация» и «национализм», то точка отсчета в изучении этой проблемы находится в первой половине XIX в., когда иранские интеллектуалы, опираясь на идеи…
Каждый год в известную дату так или иначе на просторах интернета всплывает «легенда о гробнице Тамерлана». Вот фрагмент из воспоминаний Камола Айни, сына филолога и писателя Садриддина Айни, который был в составе группы ученых, исследовавших и вскрывавших гробницу в Гур Эмир.
Когда все вышли из склепа, я увидел трех старцев, разговаривавших по-таджикски с отцом, с А.А. Семеновым и Т. Н. Кары-Ниязовым. Один из старцев держал в руке какую-то старинную книгу. Он раскрыл ее и сказал по-таджикски: "Вот эта книга старописьменная. В ней сказано, что кто тронет могилу Тимурлана, всех настигнет несчастье, война". Все присутствующие воскликнули: "О, Аллах, сохрани нас от бед!". С. Айни взял эту книгу, надел очки, внимательно просмотрел ее и обратился к старцу по-таджикски: "Уважаемый, вы верите в эту книгу?"
Ответ: "Как же, она ведь начинается именем Аллаха!"
С.Айни: "А что за книга эта, вы знаете?"
Ответ: "Важная мусульманская книга, начинающаяся именем Аллаха и оберегающая народ от бедствий".
Этой книгой, написанной на фарси оказалась "Джангнома" - книга о битвах и поединках, сборник фантастических рассказов о неких героях. Она была составлена конце XIX в.
С.Айни: "А те слова, что вы говорите о могиле Тимурлана, написаны на полях книги другой рукой. Кстати, вы наверняка знаете, что по мусульманским традициям вообще считается грехом вскрывать могилы и священные места - мазары. А те слова о могиле Тимурлана – это традиционные изречения, которые аналогично имеются и в отношении захоронений Исмаила Самани, и Ходжа Ахрара, и Хазрати Богоутдина Балогардон, и других, чтобы уберечь захоронений от искателей легкой наживы, ищущих ценности в могилах исторических личностей. Но ради научных целей в разных странах, как и у нас, вскрывали древние могильники и могилы исторических личностей. Вот ваша книга, изучайте ее и думайте головой".
Когда все вышли из склепа, я увидел трех старцев, разговаривавших по-таджикски с отцом, с А.А. Семеновым и Т. Н. Кары-Ниязовым. Один из старцев держал в руке какую-то старинную книгу. Он раскрыл ее и сказал по-таджикски: "Вот эта книга старописьменная. В ней сказано, что кто тронет могилу Тимурлана, всех настигнет несчастье, война". Все присутствующие воскликнули: "О, Аллах, сохрани нас от бед!". С. Айни взял эту книгу, надел очки, внимательно просмотрел ее и обратился к старцу по-таджикски: "Уважаемый, вы верите в эту книгу?"
Ответ: "Как же, она ведь начинается именем Аллаха!"
С.Айни: "А что за книга эта, вы знаете?"
Ответ: "Важная мусульманская книга, начинающаяся именем Аллаха и оберегающая народ от бедствий".
Этой книгой, написанной на фарси оказалась "Джангнома" - книга о битвах и поединках, сборник фантастических рассказов о неких героях. Она была составлена конце XIX в.
С.Айни: "А те слова, что вы говорите о могиле Тимурлана, написаны на полях книги другой рукой. Кстати, вы наверняка знаете, что по мусульманским традициям вообще считается грехом вскрывать могилы и священные места - мазары. А те слова о могиле Тимурлана – это традиционные изречения, которые аналогично имеются и в отношении захоронений Исмаила Самани, и Ходжа Ахрара, и Хазрати Богоутдина Балогардон, и других, чтобы уберечь захоронений от искателей легкой наживы, ищущих ценности в могилах исторических личностей. Но ради научных целей в разных странах, как и у нас, вскрывали древние могильники и могилы исторических личностей. Вот ваша книга, изучайте ее и думайте головой".
Telegram
Салам, училка!
Статья из газеты «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» от 22.06.1941 г. № 146(7522)
Когда вскрываешь чью-то гробницу, будь готов к маленькому апокалипсису (с) голливудская мудрость
Легенда гласит, что если бы не раскопки в гробнице Тамерлана 21 июня…
Когда вскрываешь чью-то гробницу, будь готов к маленькому апокалипсису (с) голливудская мудрость
Легенда гласит, что если бы не раскопки в гробнице Тамерлана 21 июня…
НОВЫЙ ЯЗЫК
Иранские интеллектуалы, распространявшие в стране идеалы европейского Просвещения, создавали в своих произведениях новый язык, который должен был выразить доселе неизвестные иранцам концепции и термины. Процесс усвоения новых идей давал начало дискуссиям о роли, статусе и назначении персидского языка, а также о бытовании этих новых идей на иранской почве.
Дискуссии начинались с самого понятия «нация» и его определения. Пионеры иранского национализма – Фатхали Ахундзаде, Ага-хан Кермани и Джалал ад-дин Мирза – использовали для обозначения этого слова персидское меллат. До этого момента меллат имело отчетливо религиозные коннотации, восходящие к Корану. Так называли общину верующих и отдельно религиозные сообщества «людей писания»: мусульман, христиан, иудеев, зороастрийцев…
Новое значение слова меллат предполагало объединение другого рода – это было сообщество людей, объединенных не вероисповеданием, а общим происхождением или принадлежностью к одной земле. Впрочем, это не снимало вопросов о религиозной идентичности иранцев. С начала XVI века Сефевиды укрепляют на этих землях шиизм, который за несколько столетий начинает ассоциироваться с именно с Ираном. Но должна ли новая «нация» состоять только из шиитов? Или в ней есть место другим мусульманам? А что делать с иранскими общинами христиан, зороастрийцев или иудеев?
Этим вопросом задается Ахундзаде, критикуя используемую в официальных документах фразу «мусульманская нация Ирана». Известный своим антиклерикализмом интеллектуал утверждал, что не вера, но принадлежность к «иранскому роду» является основным критерием принадлежности к нации. Ахундзаде был известен своим пренебрежительным отношением не только к исламу и мусульманскому духовенству, но и к завоевателям разных мастей. Воспевая доисламское величие Ирана, он называл арабское завоевание и нашествие монголов величайшими потрясениями за всю историю Ирана. Антиарабская риторика (известная еще со времен Фирдоуси) становилась важной частью инструментария иранских националистов.
Рассуждения о пагубном арабском влиянии порождали мысли о необходимости реформы персидского языка. Напомню, что новоперсидский язык, расцветший в Мавераннахре и Хорасане в IX веке, записывался и продолжает записываться модифицированной арабской графикой, а добрую половину лексики составляли арабские заимствования. Различия между семитской и иранской фонетикой, в частности, привели к тому, что в персидском языке есть несколько букв, которые обозначают одни и те же звуки (например, звуки с, т, или х).
Не было какого-то единого проекта реформ языка. Джалал ад-дин Мирза, очевидно вдохновляясь эпосом Фирдоуси, создал весьма влиятельное сочинение «Книга царей», лексика которого была лишена арабизмов. Ахундзаде вместе с другим просветителем Мальком-ханом обсуждали возможность «облегчения» персидской графики или вообще перехода на латиницу. Эти проекты так и не состоялись, но нашли свое отражение в инициативах ХХ века, когда идеи интеллектуалов по очищению персидского языка от заимствований взяло на вооружение государство.
Предыдущие части: Идея Ирана, Два лица “Шах-наме”, Открытие Ирана, Осмысление модерна
Иранские интеллектуалы, распространявшие в стране идеалы европейского Просвещения, создавали в своих произведениях новый язык, который должен был выразить доселе неизвестные иранцам концепции и термины. Процесс усвоения новых идей давал начало дискуссиям о роли, статусе и назначении персидского языка, а также о бытовании этих новых идей на иранской почве.
Дискуссии начинались с самого понятия «нация» и его определения. Пионеры иранского национализма – Фатхали Ахундзаде, Ага-хан Кермани и Джалал ад-дин Мирза – использовали для обозначения этого слова персидское меллат. До этого момента меллат имело отчетливо религиозные коннотации, восходящие к Корану. Так называли общину верующих и отдельно религиозные сообщества «людей писания»: мусульман, христиан, иудеев, зороастрийцев…
Новое значение слова меллат предполагало объединение другого рода – это было сообщество людей, объединенных не вероисповеданием, а общим происхождением или принадлежностью к одной земле. Впрочем, это не снимало вопросов о религиозной идентичности иранцев. С начала XVI века Сефевиды укрепляют на этих землях шиизм, который за несколько столетий начинает ассоциироваться с именно с Ираном. Но должна ли новая «нация» состоять только из шиитов? Или в ней есть место другим мусульманам? А что делать с иранскими общинами христиан, зороастрийцев или иудеев?
Этим вопросом задается Ахундзаде, критикуя используемую в официальных документах фразу «мусульманская нация Ирана». Известный своим антиклерикализмом интеллектуал утверждал, что не вера, но принадлежность к «иранскому роду» является основным критерием принадлежности к нации. Ахундзаде был известен своим пренебрежительным отношением не только к исламу и мусульманскому духовенству, но и к завоевателям разных мастей. Воспевая доисламское величие Ирана, он называл арабское завоевание и нашествие монголов величайшими потрясениями за всю историю Ирана. Антиарабская риторика (известная еще со времен Фирдоуси) становилась важной частью инструментария иранских националистов.
Рассуждения о пагубном арабском влиянии порождали мысли о необходимости реформы персидского языка. Напомню, что новоперсидский язык, расцветший в Мавераннахре и Хорасане в IX веке, записывался и продолжает записываться модифицированной арабской графикой, а добрую половину лексики составляли арабские заимствования. Различия между семитской и иранской фонетикой, в частности, привели к тому, что в персидском языке есть несколько букв, которые обозначают одни и те же звуки (например, звуки с, т, или х).
Не было какого-то единого проекта реформ языка. Джалал ад-дин Мирза, очевидно вдохновляясь эпосом Фирдоуси, создал весьма влиятельное сочинение «Книга царей», лексика которого была лишена арабизмов. Ахундзаде вместе с другим просветителем Мальком-ханом обсуждали возможность «облегчения» персидской графики или вообще перехода на латиницу. Эти проекты так и не состоялись, но нашли свое отражение в инициативах ХХ века, когда идеи интеллектуалов по очищению персидского языка от заимствований взяло на вооружение государство.
Предыдущие части: Идея Ирана, Два лица “Шах-наме”, Открытие Ирана, Осмысление модерна
Telegram
Pax Iranica
ИДЕЯ ИРАНА
Поскольку само по себе понятие патриотизма связано с возникшими в эпоху модерности понятиями «нация» и «национализм», то точка отсчета в изучении этой проблемы находится в первой половине XIX в., когда иранские интеллектуалы, опираясь на идеи…
Поскольку само по себе понятие патриотизма связано с возникшими в эпоху модерности понятиями «нация» и «национализм», то точка отсчета в изучении этой проблемы находится в первой половине XIX в., когда иранские интеллектуалы, опираясь на идеи…
Самое время порекомендовать отличную возможность для тех, кто хочет получить прекрасное академическое историческое образование с фокусом на мусульманских обществах на территории бывшей Российской империи.
В НИУ ВШЭ продолжается набор на магистерскую программу «Мусульманские миры в России (история и культура)». Дедлайн подачи документов – 26 июля. Все подробности – на странице программы, там же можно задать вопросы о программе и подать документы. Здесь можно почитать интервью руководителя программы. А вот здесь – посмотреть преподавательский состав программы.
В НИУ ВШЭ продолжается набор на магистерскую программу «Мусульманские миры в России (история и культура)». Дедлайн подачи документов – 26 июля. Все подробности – на странице программы, там же можно задать вопросы о программе и подать документы. Здесь можно почитать интервью руководителя программы. А вот здесь – посмотреть преподавательский состав программы.
www.hse.ru
Магистерская программа «Мусульманские миры в России (История и культура)»
В ноябре 1976 г. Amnesty International выпустила доклад о нарушениях прав человека в Иране, в котором рассказывалось о многочисленных незаконных арестах политических оппонентов режима Пехлеви, нечеловеческих условиях содержания в тюрьмах и систематических пытках. Интерес западной публики к иранской теме подогревался критическими публикациями в Times и New York Times и вышедшей в том же году книгой Резы Барахени «Коронованные каннибалы», где автор рассказывал о своем тюремном опыте.
Иранская сторона не могла оставить такие обвинения без ответа. Недавно созданная партия «Растахиз» (напомню, что шах к тому моменту распустил все партии и все должны были вступать в одну) в своем пресс-релизе под названием «Новые признаки заговора империалистов против Ирана» раскритиковала доклад, назвав его «пропагандистским крестовым походом против Ирана». Вот выдержка из этого пресс-релиза:
«Amnesty International создала международную сеть, которая в любое время может начать пропагандистскую войну против любой страны Третьего мира, стремящейся защитить свои национальные интересы перед лицом империализма. Таким образом, старые империалисты показали, что они извлекли урок из методов, используемых новым империализмом. Поэтому они предпочитают скрываться за привлекательными названиями вроде Amnesty International для прямого политического и военного давления во имя достижения своих целей. Используемые Западом методы аналогичны методам коммунистов и саботажников, и, подобно им, Amnesty International работает против нашей родины»
В течение нескольких месяцев после публикации доклада тема антииранского заговора империалистов часто возникала в официальной риторике. Шахиня Фарах обвиняла западные страны в том, что они намереваются свергнуть шаха и поставить во главе Ирана более лояльное и идеологически близкое им правительство. Публикации официального печатного органа «Растахиз» рассказывали о секретных документах из Западного Берлина с тайными планами борьбы против Ирана. Иранская пропаганда обвиняла Запад в двойных стандартах – почему империалисты льют крокодиловы слезы, причитая о правах человека в Иране, и молчат о «миллионе убитых камбоджийцев»? Шах был возмущен тем, что западная пресса говорит плохо об Иране, будто бы не замечая нарушений прав человека в Саудовской Аравии или Ираке.
Годы спустя, Энтони Парсонс, служивший в то время британским послом в Иране, произнес ответ на этот вопрос. «Я говорил это тогда и верю в это сейчас», – вспоминал он в интервью ВВС – «Ваше величество, пресса так плохо говорит о вас потому, что к вам хотят относиться как к одному из нас, как к части западного мира в отличие от Ирака».
Иранская сторона не могла оставить такие обвинения без ответа. Недавно созданная партия «Растахиз» (напомню, что шах к тому моменту распустил все партии и все должны были вступать в одну) в своем пресс-релизе под названием «Новые признаки заговора империалистов против Ирана» раскритиковала доклад, назвав его «пропагандистским крестовым походом против Ирана». Вот выдержка из этого пресс-релиза:
«Amnesty International создала международную сеть, которая в любое время может начать пропагандистскую войну против любой страны Третьего мира, стремящейся защитить свои национальные интересы перед лицом империализма. Таким образом, старые империалисты показали, что они извлекли урок из методов, используемых новым империализмом. Поэтому они предпочитают скрываться за привлекательными названиями вроде Amnesty International для прямого политического и военного давления во имя достижения своих целей. Используемые Западом методы аналогичны методам коммунистов и саботажников, и, подобно им, Amnesty International работает против нашей родины»
В течение нескольких месяцев после публикации доклада тема антииранского заговора империалистов часто возникала в официальной риторике. Шахиня Фарах обвиняла западные страны в том, что они намереваются свергнуть шаха и поставить во главе Ирана более лояльное и идеологически близкое им правительство. Публикации официального печатного органа «Растахиз» рассказывали о секретных документах из Западного Берлина с тайными планами борьбы против Ирана. Иранская пропаганда обвиняла Запад в двойных стандартах – почему империалисты льют крокодиловы слезы, причитая о правах человека в Иране, и молчат о «миллионе убитых камбоджийцев»? Шах был возмущен тем, что западная пресса говорит плохо об Иране, будто бы не замечая нарушений прав человека в Саудовской Аравии или Ираке.
Годы спустя, Энтони Парсонс, служивший в то время британским послом в Иране, произнес ответ на этот вопрос. «Я говорил это тогда и верю в это сейчас», – вспоминал он в интервью ВВС – «Ваше величество, пресса так плохо говорит о вас потому, что к вам хотят относиться как к одному из нас, как к части западного мира в отличие от Ирака».
Широко известные символы на протяжении столетий не только наделяются новым значением, но и видоизменяются. Так произошло со знаменитым символом «Лев и солнце», который встречается в нумизматике и декоративном искусстве с XIII в., а, начиная со времени Сефевидов, постепенно закрепляется в качестве одного из символов Ирана.
Исследовательница Афсане Наджмабади отмечает изменение иконографии льва в период Каджаров, называя этот процесс «африканизацией». Дело в том, что на изображениях азиатский лев постепенно уступает место льву африканскому, тело и грива которого гораздо крупнее. Считается, что такое изменение произошло из-за распространения европейских изображений льва.
Кроме того, лев и солнце, которые в Сефевидский период скорее обозначали религию и власть как две опоры государства, под влиянием националистических нарративов начинают трактоваться как маскулинный и феминный образы правителя и родины соответственно. Лев становится более воинственным – чаще его изображают стоящим, а не лежащим, а в одной из лап возникает меч. Разнообразится и иконография меча: на некоторых изображениях лев держит важный для шиитов меч Зу-л-фикар, который принадлежал пророку Мухаммаду, а потом перешел по наследству Али.
Забавно, что у обширного использования этого символа были свои противники. Филолог Моджтаба Минови в 1929 г. сделал доклад, в котором утверждал (отчасти справедливо), что «Лев и солнце» – символ не такой уж древний, и к тому же тюркского происхождения. Минови считал, что его нужно заменить на знамя Кавиев в качестве эмблемы иранской монархии.
Исследовательница Афсане Наджмабади отмечает изменение иконографии льва в период Каджаров, называя этот процесс «африканизацией». Дело в том, что на изображениях азиатский лев постепенно уступает место льву африканскому, тело и грива которого гораздо крупнее. Считается, что такое изменение произошло из-за распространения европейских изображений льва.
Кроме того, лев и солнце, которые в Сефевидский период скорее обозначали религию и власть как две опоры государства, под влиянием националистических нарративов начинают трактоваться как маскулинный и феминный образы правителя и родины соответственно. Лев становится более воинственным – чаще его изображают стоящим, а не лежащим, а в одной из лап возникает меч. Разнообразится и иконография меча: на некоторых изображениях лев держит важный для шиитов меч Зу-л-фикар, который принадлежал пророку Мухаммаду, а потом перешел по наследству Али.
Забавно, что у обширного использования этого символа были свои противники. Филолог Моджтаба Минови в 1929 г. сделал доклад, в котором утверждал (отчасти справедливо), что «Лев и солнце» – символ не такой уж древний, и к тому же тюркского происхождения. Минови считал, что его нужно заменить на знамя Кавиев в качестве эмблемы иранской монархии.
Иконография «Льва и солнца» от монет правителя Конийского султаната Кейхусрава II и образцов Ильханидского периода. География тоже весьма обширна – медресе Шердор в Самарканде и монета Шах-Джахана из династии Великих Моголов. Интересны также гравюра, изображающая сефевидскую делегацию в Версале и фрагмент картины со сценой битвы Русско-персидской войны. В эпоху Каджаров и Пехлеви количество изображений увеличивается.
25 августа 1941 г. началась операция "Согласие" - советские и британские войска вошли в Иран, взяли страну под контроль и добились отречения Резы Пехлеви в пользу своего сына Мохаммеда Резы.
На Западе и в России роль Ирана во Второй мировой войне сводилась к роли транспортной артерии, пусть и важнейшей, по которой техника, амуниция и продовольствие доставлялись в СССР по программе ленд-лиза. В Иране эти события воспринимались как унижение, серьезный удар по национальному самосознанию. Иран виделся слабым государством, ставшим игрушкой в руках империалистов.
Антиимпериалистическая риторика стала частью государственного нарратива в 1970-е годы, последнее десятилетие правления Пехлеви. На картинке – страница комикса «Возвращенное величие», посвященного возрождению Ирана под руководством последнего шаха. Эта страница повествует о военных событиях, представляя их как время бедности народа и тяжелого выбора для молодого шаха.
На Западе и в России роль Ирана во Второй мировой войне сводилась к роли транспортной артерии, пусть и важнейшей, по которой техника, амуниция и продовольствие доставлялись в СССР по программе ленд-лиза. В Иране эти события воспринимались как унижение, серьезный удар по национальному самосознанию. Иран виделся слабым государством, ставшим игрушкой в руках империалистов.
Антиимпериалистическая риторика стала частью государственного нарратива в 1970-е годы, последнее десятилетие правления Пехлеви. На картинке – страница комикса «Возвращенное величие», посвященного возрождению Ирана под руководством последнего шаха. Эта страница повествует о военных событиях, представляя их как время бедности народа и тяжелого выбора для молодого шаха.
Британская хроника о визите Елизаветы II в Иран в 1961 году https://www.youtube.com/watch?v=M2t0YFbztCo&ab_channel=BritishPath%C3%A9
YouTube
Queen In Persia (1961)
Technicolor.
Queen in Persia (Iran).
C/U of Persian Flag. L/S of the Shah and Queen Farah waiting of the arrival of Queen Elizabeth II at Tehran airport. L/S of Queen's plane taxiing on runway. L/S of Shah. Queen and Duke walking down steps of aircraft.…
Queen in Persia (Iran).
C/U of Persian Flag. L/S of the Shah and Queen Farah waiting of the arrival of Queen Elizabeth II at Tehran airport. L/S of Queen's plane taxiing on runway. L/S of Shah. Queen and Duke walking down steps of aircraft.…
КОРАН ИЛИ КОНСТИТУЦИЯ?
Рассуждения о преобразованиях Ирана в XIX–ХХ вв. занимали умы не только представителей новой интеллектуальной элиты государства – европейски образованных государственных деятелей, писателей и публицистов. Традиционная элита, духовенство, тоже сыграла важную роль в подъеме конституционного движения и предлагала собственные идеи устройства будущего Ирана.
В ту эпоху, когда авторитет суннитского духовенства в Османской и Российской империях оспаривался представителями разного рода исламских обновленческих движений, шиитское духовенство в Иране продолжало пользоваться исключительной поддержкой правящей династии Каджаров. Двор и финансовая элита государства покровительствовали шиитским институциям, праздникам и ритуалам, а представители духовенства обладали широкими связями с торговой средой и большим влиянием среди населения. Степень их влияния отчетливо проявилась, например, во время табачных протестов 1890-91 гг.
Одним из первых событий Конституционной революции 1905-1911 гг. считается баст ведущих законоведов государства. Баст – это укрытие человека в священном месте (мечети или усыпальнице, хотя в эту эпоху люди укрывались и в посольствах), где он находится под защитой от действий властей. Наиболее авторитетные представители духовенства в знак протеста против жесткого подавления первых выступлений укрылись в усыпальнице Шах Абдульазим, расположенной недалеко от Тегерана, и вынудили шаха уступить требованиям протестующих. Шах Музаффар ад-дин согласился созвать парламент и учредить конституцию.
На первых порах иранские конституционалисты использовали заимствованное из французского слово констетусьон, однако впоследствии главным термином, обозначающим основной закон стало, слово машруте – «обусловленный». Забавно, что для этого слова предлагается две этимологии: общепринятая гласит, что оно связано с арабским словом шарт – «условие». А менее популярная гласит, что машруте восходит к слову charta, что связывает его, например, с Великой хартией вольностей и отражает еврофильский характер преобразований. Это понятие, как и многие другие подобные термины, было взято ими из лексикона «Новых османов», тайного общества, членами которого были реформистски настроенные представители османской элиты.
Одной из главных тем для обсуждения был сам характер конституции – должны ли новые законы базироваться на представлениях еврофилов о разделении властей, равноправии и народном представительстве или они должны соответствовать нормам шариата? Ряд представителей духовенства настаивал, что новый порядок должен быть машру’е – то есть основанным на религиозных законах. В 1906 г. был даже создан специальный комитет, состоявший из пяти авторитетных законоведов, которые должны были проверять все принимаемые законы на соответствие их шариату, однако этот комитет никогда не собирался.
Многие представители духовенства поддерживали конституционалистов – одним из лидеров движения был Абдаллах Бехбахани. Он был одним из организаторов баста, послужившего началом революции, а после созыва парламента имел огромное влияние на его умеренную часть и, сам не будучи депутатом, участвовал во многих сессиях. Его соперником был Фазлаллах Нури, который первоначально примкнул к конституционалистам, однако впоследствии отказался от своих симпатий. Он считал, что депутаты не имеют подходящей правоведческой квалификации, чтобы принимать законы. Свобода печати и собраний, по мнению Нури, противоречит исламскому принципу «запрета совершать дурное», а равноправие противоречит установкам Корана, так как иноверцы не могут стоять на том же уровне, что и мусульмане.
Рассуждения о преобразованиях Ирана в XIX–ХХ вв. занимали умы не только представителей новой интеллектуальной элиты государства – европейски образованных государственных деятелей, писателей и публицистов. Традиционная элита, духовенство, тоже сыграла важную роль в подъеме конституционного движения и предлагала собственные идеи устройства будущего Ирана.
В ту эпоху, когда авторитет суннитского духовенства в Османской и Российской империях оспаривался представителями разного рода исламских обновленческих движений, шиитское духовенство в Иране продолжало пользоваться исключительной поддержкой правящей династии Каджаров. Двор и финансовая элита государства покровительствовали шиитским институциям, праздникам и ритуалам, а представители духовенства обладали широкими связями с торговой средой и большим влиянием среди населения. Степень их влияния отчетливо проявилась, например, во время табачных протестов 1890-91 гг.
Одним из первых событий Конституционной революции 1905-1911 гг. считается баст ведущих законоведов государства. Баст – это укрытие человека в священном месте (мечети или усыпальнице, хотя в эту эпоху люди укрывались и в посольствах), где он находится под защитой от действий властей. Наиболее авторитетные представители духовенства в знак протеста против жесткого подавления первых выступлений укрылись в усыпальнице Шах Абдульазим, расположенной недалеко от Тегерана, и вынудили шаха уступить требованиям протестующих. Шах Музаффар ад-дин согласился созвать парламент и учредить конституцию.
На первых порах иранские конституционалисты использовали заимствованное из французского слово констетусьон, однако впоследствии главным термином, обозначающим основной закон стало, слово машруте – «обусловленный». Забавно, что для этого слова предлагается две этимологии: общепринятая гласит, что оно связано с арабским словом шарт – «условие». А менее популярная гласит, что машруте восходит к слову charta, что связывает его, например, с Великой хартией вольностей и отражает еврофильский характер преобразований. Это понятие, как и многие другие подобные термины, было взято ими из лексикона «Новых османов», тайного общества, членами которого были реформистски настроенные представители османской элиты.
Одной из главных тем для обсуждения был сам характер конституции – должны ли новые законы базироваться на представлениях еврофилов о разделении властей, равноправии и народном представительстве или они должны соответствовать нормам шариата? Ряд представителей духовенства настаивал, что новый порядок должен быть машру’е – то есть основанным на религиозных законах. В 1906 г. был даже создан специальный комитет, состоявший из пяти авторитетных законоведов, которые должны были проверять все принимаемые законы на соответствие их шариату, однако этот комитет никогда не собирался.
Многие представители духовенства поддерживали конституционалистов – одним из лидеров движения был Абдаллах Бехбахани. Он был одним из организаторов баста, послужившего началом революции, а после созыва парламента имел огромное влияние на его умеренную часть и, сам не будучи депутатом, участвовал во многих сессиях. Его соперником был Фазлаллах Нури, который первоначально примкнул к конституционалистам, однако впоследствии отказался от своих симпатий. Он считал, что депутаты не имеют подходящей правоведческой квалификации, чтобы принимать законы. Свобода печати и собраний, по мнению Нури, противоречит исламскому принципу «запрета совершать дурное», а равноправие противоречит установкам Корана, так как иноверцы не могут стоять на том же уровне, что и мусульмане.