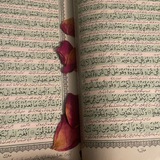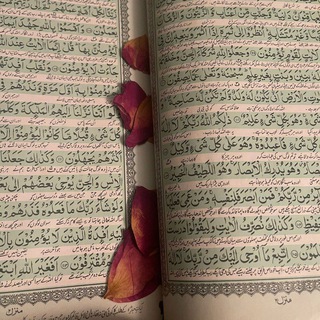Forwarded from Kertí
В серии мировой классики издательства Penguin вышла книга ибн Хаджара аль-Аскаляни Badhu al-māʿūn fī faḍli aṭ-ṭāʿūn, посвященная теме чумы. Приятным бонусом стал красивый арт на обложке.
#books #ibn_hajar
#books #ibn_hajar
Forwarded from Kertí
#ibn_hajar
"Первый ребенок [ибн Хаджара и его первой жены - прим. пер.], дочь по имени Зейн Хатун, родилась почти четырьмя годами позднее. Ибн Хаджар обучал ее чтению и письму и следил за тем, чтобы она также слышала хадисы от тех же светил, у которых учился он. [...]
В том же году ученая взрослая дочь и первенец ибн Хаджара, Зейн Хатун, умерла от чумы, будучи беременной, и, таким образом, по мнению ибн Хаджара, чума принесла ей «два мученичества». В самом деле, хотя он прямо не упоминает о ее смерти в «Достоинствах чумы», практически невозможно читать отрывки, которые ибн Хаджар посвящает статусу женщин, умерших от чумы во время беременности, не принимая во внимание его непосредственное столкновение с этой потерей. [...]
Последние годы жизни ибн Хаджара снова были отмечены чумой. Весной 1444 года, когда в Египте разразилась эпидемия чумы, сам ибн Хаджар заметил что-то у себя под мышкой:
«В ночь на воскресенье, 5-го сафара [24 мая], я почувствовал боль под правой подмышкой и обнаружил источник колющего дискомфорта, но, несмотря на это, заснул. На следующий день боль немного усилилась. Я снова заснул, принимая и полностью осознавая, что болезнь осталась неизменной. К 10-му она проявилась у меня под мышкой как мягкая слива. После этого она понемногу облегчалась, пока не осталась только последняя ее часть».
Столь будничное описание его борьбы с болезнью, унесшей жизни такого большого числа его соотечественников, трех его дочерей, его нерожденного внука и иждивенцев, следует понимать в меньшей мере как описание того, что было мучительной схваткой со смертельной болезнью, и больше как пример основного аргумента «Достоинств чумы»: что нужно встречать болезнь с принятием и терпением. То, что он одолел эту болезнь в возрасте семидесяти двух лет, должно быть, было особенно вдохновляющим для его многочисленных учеников и последователей, а исцеление ибн Хаджара было воспринято как доказательство его праведности и высокого положения перед Богом".
📚 Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī . Merits of the Plague. Penguin Books, 2023. Foreword and translation by Joel Blecher & Mairaj Syed.
"Первый ребенок [ибн Хаджара и его первой жены - прим. пер.], дочь по имени Зейн Хатун, родилась почти четырьмя годами позднее. Ибн Хаджар обучал ее чтению и письму и следил за тем, чтобы она также слышала хадисы от тех же светил, у которых учился он. [...]
В том же году ученая взрослая дочь и первенец ибн Хаджара, Зейн Хатун, умерла от чумы, будучи беременной, и, таким образом, по мнению ибн Хаджара, чума принесла ей «два мученичества». В самом деле, хотя он прямо не упоминает о ее смерти в «Достоинствах чумы», практически невозможно читать отрывки, которые ибн Хаджар посвящает статусу женщин, умерших от чумы во время беременности, не принимая во внимание его непосредственное столкновение с этой потерей. [...]
Последние годы жизни ибн Хаджара снова были отмечены чумой. Весной 1444 года, когда в Египте разразилась эпидемия чумы, сам ибн Хаджар заметил что-то у себя под мышкой:
«В ночь на воскресенье, 5-го сафара [24 мая], я почувствовал боль под правой подмышкой и обнаружил источник колющего дискомфорта, но, несмотря на это, заснул. На следующий день боль немного усилилась. Я снова заснул, принимая и полностью осознавая, что болезнь осталась неизменной. К 10-му она проявилась у меня под мышкой как мягкая слива. После этого она понемногу облегчалась, пока не осталась только последняя ее часть».
Столь будничное описание его борьбы с болезнью, унесшей жизни такого большого числа его соотечественников, трех его дочерей, его нерожденного внука и иждивенцев, следует понимать в меньшей мере как описание того, что было мучительной схваткой со смертельной болезнью, и больше как пример основного аргумента «Достоинств чумы»: что нужно встречать болезнь с принятием и терпением. То, что он одолел эту болезнь в возрасте семидесяти двух лет, должно быть, было особенно вдохновляющим для его многочисленных учеников и последователей, а исцеление ибн Хаджара было воспринято как доказательство его праведности и высокого положения перед Богом".
📚 Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī . Merits of the Plague. Penguin Books, 2023. Foreword and translation by Joel Blecher & Mairaj Syed.
Меня спрашивают, как я выучил английский язык. У всех свой способ это сделать, у меня такой. (Нужно сказать, что я не владею языком в совершенстве. У меня средний английский (intermediate). То есть, я могу слушать любые лекции и выступления, читать книги. Но мне этого достаточно, потому что в других ситуациях я язык не применяю. Выступать на английском мне нигде не нужно, тексты писать тоже. Так что, это вполне достаточный уровень).
В общем, как и у многих после школы у меня в голове ничего не осталось. В университете я старался, но там английского было не достаточно. Поэтому, после университета через какое-то время, я сначала походил по репетиторам (недолго), а потом решил, что буду учить его самостоятельно. В сети я нашел аудиокурсы Эй. Джей Хоуга "Английский без усилий" и решил учить язык по нему (на самом деле мне его посоветовал мой друг). Это реально не сложный курс. Но очень нудный. Каждый день нужно было слушать небольшие тексты и перессказывать их. Главный принцип был - не пропускать ни один день. Одни и те же уроки по этому курсу нужно было слушать минимум неделю, желательно - две. Тексты набивали оскомину, страшно надоедали. Но мне нравился подход. Никакой грамматики. Реальный разговорный язык. И тексты намертво запоминались.
Я занимался полтора года так, не пропуская ни одного дня. Когда не было сил учить, я просто повторял вслух то, что помнил из вчерашнего урока. Главное - не пропускать, ведь дети тоже учат свой первый язык каждый день. Полтора года дали свой результат и я начал понимать на слух язык. Дальше я просто читал интересные мне книги, смотрел сериалы на английском с английскими субтитрами, смотрел выступления и лекции. Непонятные слова старался запоминать. Никуда не торопился. Не старался ускориться. Уровень языка рос, но очень медленно. Однако меня все устраивало.
Главных принципов обучения языку для себя я выделил несколько:
1. Учить каждый божий день.
2. Должна быть основная программа или основная книга, которую вы целенаправленно проходите.
3. Должны быть дополнительные материалы, не сложные или интересные. Детские книги, мультики, сериалы. Чтобы было интересно. В целом, старайтесь развлечь себя при обучении.
4. Если в какой-то день нет сил учить, то нужно хотя бы вслух повторить то, что помните из предыдущего урока. Чтобы не было пропуска.
5. Учите тексты наизусть, а не просто читайте. Слова лучше запоминаются в текстах.
6. Не останавливайтесь. Если какой-то текст или тема не поддаются, не бейтесь головой об стену. Пройдите ее как можете, и идите дальше. Но только если вы реально приложили все усилия, чтобы освоить тему. Потом когда-нибудь вернётесь и все будет понятно.
7. Не надрывайтесь. Не берите себе слишком сложные дополнительные материалы, такие тексты, от которых голова кругом даже у тех, кто владеет свободно.
8. Не торопитесь. Заранее решите, что для вас не проблема учить язык пять лет. Или десять. В противном случае десять лет и так пролетят, а вы останетесь без языка.
9. Не паникуйте и не отчаивайтесь. Когда пройдет шесть месяцев или полтора года и вы встретите очередной текст или видео, в котором вы ничего не поймёте, это вызовет у вас чувство, что все бесполезно. Это ложное чувство. Учите дальше, результат обязательно будет.
Мне это помогло самостоятельно освоить язык. Такие дела.
В общем, как и у многих после школы у меня в голове ничего не осталось. В университете я старался, но там английского было не достаточно. Поэтому, после университета через какое-то время, я сначала походил по репетиторам (недолго), а потом решил, что буду учить его самостоятельно. В сети я нашел аудиокурсы Эй. Джей Хоуга "Английский без усилий" и решил учить язык по нему (на самом деле мне его посоветовал мой друг). Это реально не сложный курс. Но очень нудный. Каждый день нужно было слушать небольшие тексты и перессказывать их. Главный принцип был - не пропускать ни один день. Одни и те же уроки по этому курсу нужно было слушать минимум неделю, желательно - две. Тексты набивали оскомину, страшно надоедали. Но мне нравился подход. Никакой грамматики. Реальный разговорный язык. И тексты намертво запоминались.
Я занимался полтора года так, не пропуская ни одного дня. Когда не было сил учить, я просто повторял вслух то, что помнил из вчерашнего урока. Главное - не пропускать, ведь дети тоже учат свой первый язык каждый день. Полтора года дали свой результат и я начал понимать на слух язык. Дальше я просто читал интересные мне книги, смотрел сериалы на английском с английскими субтитрами, смотрел выступления и лекции. Непонятные слова старался запоминать. Никуда не торопился. Не старался ускориться. Уровень языка рос, но очень медленно. Однако меня все устраивало.
Главных принципов обучения языку для себя я выделил несколько:
1. Учить каждый божий день.
2. Должна быть основная программа или основная книга, которую вы целенаправленно проходите.
3. Должны быть дополнительные материалы, не сложные или интересные. Детские книги, мультики, сериалы. Чтобы было интересно. В целом, старайтесь развлечь себя при обучении.
4. Если в какой-то день нет сил учить, то нужно хотя бы вслух повторить то, что помните из предыдущего урока. Чтобы не было пропуска.
5. Учите тексты наизусть, а не просто читайте. Слова лучше запоминаются в текстах.
6. Не останавливайтесь. Если какой-то текст или тема не поддаются, не бейтесь головой об стену. Пройдите ее как можете, и идите дальше. Но только если вы реально приложили все усилия, чтобы освоить тему. Потом когда-нибудь вернётесь и все будет понятно.
7. Не надрывайтесь. Не берите себе слишком сложные дополнительные материалы, такие тексты, от которых голова кругом даже у тех, кто владеет свободно.
8. Не торопитесь. Заранее решите, что для вас не проблема учить язык пять лет. Или десять. В противном случае десять лет и так пролетят, а вы останетесь без языка.
9. Не паникуйте и не отчаивайтесь. Когда пройдет шесть месяцев или полтора года и вы встретите очередной текст или видео, в котором вы ничего не поймёте, это вызовет у вас чувство, что все бесполезно. Это ложное чувство. Учите дальше, результат обязательно будет.
Мне это помогло самостоятельно освоить язык. Такие дела.
К сожалению, у меня нет ссылки на курс A.J. Hoge "Effortless English". Ведь я скачивал его много лет назад. Возможно, нужно поискать на трекерах.
Прочитал новость, что судьей Верховного суда штата Нью-Джерси назначена мусульманка в хиджабе Надиа Кахф. Присягу она принесла на Коране. Такие дела.
Мне задали вопрос насчёт названия канала, указав, что это похоже на "смесь советской ингушской латиницы, но вместо ghalghaj - ghalghay". Все верно. Это и есть смесь ингушской латиницы советского периода и современного произношения английских букв. Потому что "j" в конце слова сегодня многих запутала бы.
Что касается вопроса: "как ты относишься к латинице и вообще к истории нашей письменности?" То это сложный вопрос. Раньше у меня было увлечение латиницей, но сейчас я не вижу особой разницы между ней и кириллицей. Да, она выглядет как-то свежее, но все же какая нам разница измененные латинские мы буквы используем или измененные греческие? В целом, у меня нет твердой позиции по этому вопросу. Также наша первая письменность все же арабская. Опять же с измененными буквами. Мне сегодня ближе этот вид письменности. В целом, я мало знаю в этом вопросе и открыт для познания.
Что меня напрягает в нашей современной письменности это отсутствие указания на письме длинных и коротких звуков. Например: "Хьона ха деза". И "хьарчун ший ха е". В данном случае, слова "ха" в каждом предложении - это разные слова и произносятся они по-разному. В первом варианте произносится долгая "а" - "ха́" - знать; во втором случае, короткая "а" - получается почти как просто буква "х" без согласной - "время". Почему это нельзя отразить в языке? Но с другой стороны, может быть я цепляюсь к мелочам. В том же английском или французском все вообще произносится не так как пишется. Да и в русском тоже есть множество подобных примеров, хотя не в таких масштабах.
Что касается вопроса: "как ты относишься к латинице и вообще к истории нашей письменности?" То это сложный вопрос. Раньше у меня было увлечение латиницей, но сейчас я не вижу особой разницы между ней и кириллицей. Да, она выглядет как-то свежее, но все же какая нам разница измененные латинские мы буквы используем или измененные греческие? В целом, у меня нет твердой позиции по этому вопросу. Также наша первая письменность все же арабская. Опять же с измененными буквами. Мне сегодня ближе этот вид письменности. В целом, я мало знаю в этом вопросе и открыт для познания.
Что меня напрягает в нашей современной письменности это отсутствие указания на письме длинных и коротких звуков. Например: "Хьона ха деза". И "хьарчун ший ха е". В данном случае, слова "ха" в каждом предложении - это разные слова и произносятся они по-разному. В первом варианте произносится долгая "а" - "ха́" - знать; во втором случае, короткая "а" - получается почти как просто буква "х" без согласной - "время". Почему это нельзя отразить в языке? Но с другой стороны, может быть я цепляюсь к мелочам. В том же английском или французском все вообще произносится не так как пишется. Да и в русском тоже есть множество подобных примеров, хотя не в таких масштабах.
Forwarded from Kertí
#jurisprudence #legal_pluralism #nomocracy
«В основе, правовой централизм является политической доктриной, а не правовой. Он появился как следствие формирования современного Национального Государства с его монополией на закон и распределение прав. Как метко подмечает Джордж Гурвич, «правовой монизм соответствует конкретной политической ситуации, в частности созданию широких в своем охвате современных Государств [States] между шестнадцатым и девятнадцатым веками». Помимо самого закона, эти новые национальные государства по всей видимости подмяли под себя и саму юридическую профессию, как минимум в том смысле, что юристы и прочие работники этой сферы стали рассматривать право как естественную и эксклюзивную вотчину Государства. Этот взгляд усваивается на уровне юридического образования и продолжает влиять на юриста на протяжении всей его карьеры.
[…] юристы регулярно смешивают политическую реальность права как ревностно охраняемой вотчины Государства с самой природой права. Это производит неочевидный эффект, в результате которого появляется некая телеологическая призма, сквозь которую главной составляющей права видится не «народ», а Государство.
Несмотря на то, что сторонники правового централизма, особенно в западных обществах, могут считать эти ценности настолько базовыми, что невозможно представить функционального юридического (а также политического) порядка, который не возводит их в статус основополагающих принципов, нам не стоит вестись на соблазн нелогичного вывода о том, что монополия Государства над законом — это единственный возможный формат. Истории известны примеры как номократий*, так и номократических культур, которые придерживались всех этих правовых принципов, но делали это без приверженности некой правовой философии, которая рассматривает Государство как начало и конец всего права. Ислам является идеальным примером этого.»
📚 Jackson, Sherman A. “Legal Pluralism Between Islam and the Nation-State: Romantic Medievalism or Pragmatic Modernity?” Fordham International Law Journal, vol. 30, no. 1, 2006.
*номократия — буквально, «власть закона». Политический строй, при котором политическая элита руководствуется правом как основополагающим принципом.
«В основе, правовой централизм является политической доктриной, а не правовой. Он появился как следствие формирования современного Национального Государства с его монополией на закон и распределение прав. Как метко подмечает Джордж Гурвич, «правовой монизм соответствует конкретной политической ситуации, в частности созданию широких в своем охвате современных Государств [States] между шестнадцатым и девятнадцатым веками». Помимо самого закона, эти новые национальные государства по всей видимости подмяли под себя и саму юридическую профессию, как минимум в том смысле, что юристы и прочие работники этой сферы стали рассматривать право как естественную и эксклюзивную вотчину Государства. Этот взгляд усваивается на уровне юридического образования и продолжает влиять на юриста на протяжении всей его карьеры.
[…] юристы регулярно смешивают политическую реальность права как ревностно охраняемой вотчины Государства с самой природой права. Это производит неочевидный эффект, в результате которого появляется некая телеологическая призма, сквозь которую главной составляющей права видится не «народ», а Государство.
Несмотря на то, что сторонники правового централизма, особенно в западных обществах, могут считать эти ценности настолько базовыми, что невозможно представить функционального юридического (а также политического) порядка, который не возводит их в статус основополагающих принципов, нам не стоит вестись на соблазн нелогичного вывода о том, что монополия Государства над законом — это единственный возможный формат. Истории известны примеры как номократий*, так и номократических культур, которые придерживались всех этих правовых принципов, но делали это без приверженности некой правовой философии, которая рассматривает Государство как начало и конец всего права. Ислам является идеальным примером этого.»
📚 Jackson, Sherman A. “Legal Pluralism Between Islam and the Nation-State: Romantic Medievalism or Pragmatic Modernity?” Fordham International Law Journal, vol. 30, no. 1, 2006.
*номократия — буквально, «власть закона». Политический строй, при котором политическая элита руководствуется правом как основополагающим принципом.
Я поясню то, что говорит выше доктор Джексон (которого я глубоко уважаю). Есть две, условно говоря, правовые теории. Этатистская (государственная) и собственно правовая. Этатистская теория гласит, что сначала появляется государство, а потом право. То есть, государство - в основе, право же - производная часть. Государство доминирует, право подчиняется. Государство создаёт право.
Эта теория, например, была основной в советской теории права. Она сегодня в основном доминирует в мире.
Правовая теория же гласит, что право первично, а государство - вторично. Что право - феномен более важный, чем государство. Что право может существовать без государства. Что право исторически существует раньше, чем государство. И таких примеров в истории немало.
Зачем вам нужно знать об этих теоретических правовых вопросах? А затем, что эти вопросы непосредственно влияют на вашу жизнь, а также на ваше понимание религии.
Если государство - первично, и если оно создаёт право, то тогда у государства абсолютная власть над правом. Что государство назовет законом, то им и будет. То есть, если государство посчитает, что молиться запрещено, то это будет законно. В этатистской модели государство не только создаёт, изменяют и отменяет законы по своему усмотрению, но и контролирует правовое образование, а также определяет, кто является юристом, а кто нет.
В правовой модели власть государства над правом ограничивается. И более того, это право правит государством. Государство не может отменять или изменять по своему усмотрению законы или по крайней мере основные законы. Государство не определяет кто является юристом или специалистом в праве. Государство является объектом права, а не его субъектом. Это домодерновая, в том числе, шариатская модель.
Когда появились национальные государства, произошли ряд тектонических изменений. Если ранее, право доминировало над государством, потому что право было от Бога, а государство - от людей, то теперь государство стало абсолютным сувереном на своей территории. То есть, если раньше абсолютная власть принадлежала Богу, и никакой король не мог ее попрать, то теперь этой властью было наделено государство. Левиафан. Если государство обладает властью над всем на своей территории, то значит обладает ею и над правом. Так установилась гегемония государства над правом. И естественным следствием этого стала универсализация права. Если раньше в стране право не было подчинено государству, это создавало плюрализм правовых традиций. В англо-саксонской системе права это привело к отсутствию писаной конституции, и к тому, что право состояло из большого количества разных судебных решений, иногда противоречивых (так называемых прецедентов). В исламской системе - это были множества мазхабов.
Когда же домодерновая (в том числе, шариатская) модель государства, будь то на Западе или в Исламском мире, ушли в прошлое, ушел в прошлое и правовой плюрализм. Хотя, как не удивительно, он больше сохранился в англо-саксонской системе права, а вот у нас, когда по всему исламскому миру были скопированы западные nation-states, которые начали бездумно внедрять этатистскую модель и централизацию, то плюрализм права был быстро отменён. Право было универсализировано и подчинено государству. Это привело к тому, что право перестало быть сакральным (ведь источник - не Бог), независимым (теперь власть определяет, кто юрист, и контролирует всю судебную систему), народным (ведь раньше юристы и специалисты права определялись другими специалистами, а все это - народ).
Это в свою очередь приводит к с одной стороны правовому нигилизму (народ не подчиняется законам, не уважает их, не обладает правовой культурой) а с другой стороны - к произволу (государство творит законы как пожелает и применяет их как пожелает).
Эта теория, например, была основной в советской теории права. Она сегодня в основном доминирует в мире.
Правовая теория же гласит, что право первично, а государство - вторично. Что право - феномен более важный, чем государство. Что право может существовать без государства. Что право исторически существует раньше, чем государство. И таких примеров в истории немало.
Зачем вам нужно знать об этих теоретических правовых вопросах? А затем, что эти вопросы непосредственно влияют на вашу жизнь, а также на ваше понимание религии.
Если государство - первично, и если оно создаёт право, то тогда у государства абсолютная власть над правом. Что государство назовет законом, то им и будет. То есть, если государство посчитает, что молиться запрещено, то это будет законно. В этатистской модели государство не только создаёт, изменяют и отменяет законы по своему усмотрению, но и контролирует правовое образование, а также определяет, кто является юристом, а кто нет.
В правовой модели власть государства над правом ограничивается. И более того, это право правит государством. Государство не может отменять или изменять по своему усмотрению законы или по крайней мере основные законы. Государство не определяет кто является юристом или специалистом в праве. Государство является объектом права, а не его субъектом. Это домодерновая, в том числе, шариатская модель.
Когда появились национальные государства, произошли ряд тектонических изменений. Если ранее, право доминировало над государством, потому что право было от Бога, а государство - от людей, то теперь государство стало абсолютным сувереном на своей территории. То есть, если раньше абсолютная власть принадлежала Богу, и никакой король не мог ее попрать, то теперь этой властью было наделено государство. Левиафан. Если государство обладает властью над всем на своей территории, то значит обладает ею и над правом. Так установилась гегемония государства над правом. И естественным следствием этого стала универсализация права. Если раньше в стране право не было подчинено государству, это создавало плюрализм правовых традиций. В англо-саксонской системе права это привело к отсутствию писаной конституции, и к тому, что право состояло из большого количества разных судебных решений, иногда противоречивых (так называемых прецедентов). В исламской системе - это были множества мазхабов.
Когда же домодерновая (в том числе, шариатская) модель государства, будь то на Западе или в Исламском мире, ушли в прошлое, ушел в прошлое и правовой плюрализм. Хотя, как не удивительно, он больше сохранился в англо-саксонской системе права, а вот у нас, когда по всему исламскому миру были скопированы западные nation-states, которые начали бездумно внедрять этатистскую модель и централизацию, то плюрализм права был быстро отменён. Право было универсализировано и подчинено государству. Это привело к тому, что право перестало быть сакральным (ведь источник - не Бог), независимым (теперь власть определяет, кто юрист, и контролирует всю судебную систему), народным (ведь раньше юристы и специалисты права определялись другими специалистами, а все это - народ).
Это в свою очередь приводит к с одной стороны правовому нигилизму (народ не подчиняется законам, не уважает их, не обладает правовой культурой) а с другой стороны - к произволу (государство творит законы как пожелает и применяет их как пожелает).
Forwarded from Kertí
Я бы ещё добавил, что правовой универсализм тесно связан с трактованием тем или иным государством понятия светскости, что совершенно логично: правовой плюрализм – это признание ценностной неоднородности населения, а это что-то, на что универсализирующее государство по определению не способно. Потому и норовит, если не откровенно искоренить, то изгнать религиозную практику из публичных пространств.
Честно говоря, не думал, что светскость (а точнее секуляризм, а я не считаю их синонимами) как-то с этим связана. Возьмём КСА. По мне, это nation state. Оно централизирующее, с этатистской моделью. То есть, модерновое государство. Но не светское.
У меня спрашивают, с чего начать освоение логики? И какие работы англоязычных философов вызвали у меня интерес?
Логику можно начать изучать по учебнику Гусева "Удивительная логика". На английском языке есть хороший учебник "Сократическая логика" Питера Крифта (писал об этой книге на канале). Можно учить по учебнику царских времен Челпанова. Ещё можно прокачать мозг и порешать задачи из книги Смаллиана "Как же называется эта книга?". Это если кратко. Главное, достаточно изучить аристотелевскую логику. А то я, в свое время, решил изучать еще и символическую и целый год проходил учебник Дэвида Аглера "Символическая логика" и решал задачи из него. Только после его прохождения понял, что это было не нужно, если только я не собирался становиться аналитическим философом (впрочем я всерьез думал над этим).
Что касается англоязычных философов, сложно так навскидку сказать. Во-первых, за последние пару лет все философы, что мне были интересны так или иначе упоминались на канале. Полистайте. Во-вторых, не так уж и много я читал англоязычных философов. А так, если упомянуть пару имён, которые прям повлияли, это Ваэль Халляк "Impossible state" (не согласен при этом с его выводами) и Мэри Дуглас "Thinking in circles".
Логику можно начать изучать по учебнику Гусева "Удивительная логика". На английском языке есть хороший учебник "Сократическая логика" Питера Крифта (писал об этой книге на канале). Можно учить по учебнику царских времен Челпанова. Ещё можно прокачать мозг и порешать задачи из книги Смаллиана "Как же называется эта книга?". Это если кратко. Главное, достаточно изучить аристотелевскую логику. А то я, в свое время, решил изучать еще и символическую и целый год проходил учебник Дэвида Аглера "Символическая логика" и решал задачи из него. Только после его прохождения понял, что это было не нужно, если только я не собирался становиться аналитическим философом (впрочем я всерьез думал над этим).
Что касается англоязычных философов, сложно так навскидку сказать. Во-первых, за последние пару лет все философы, что мне были интересны так или иначе упоминались на канале. Полистайте. Во-вторых, не так уж и много я читал англоязычных философов. А так, если упомянуть пару имён, которые прям повлияли, это Ваэль Халляк "Impossible state" (не согласен при этом с его выводами) и Мэри Дуглас "Thinking in circles".
Ещё добавлю, что я чистый гуманитарий. Цифры вызывают у меня замешательство. Но логика, она не про цифры. Она о надёжном мышлении. И гуманитарий в ней особенно нуждается.
Forwarded from Kertí
#jurisprudence #legal_pluralism #poli_sci
«В исламском мире проблема начинается с того факта, что исламское право исторически предшествует Государству и превосходит его. Это означает, что существует целая вселенная юридических прав и обязанностей, имеющих вес и находящих отклик в сердцах и умах людей, но полностью независимых от Государства. Политическая теория, лежащая в основе современного Национального Государства, не имеет инструментов для решения этой проблемы. Следовательно, современные мусульманские Государства склонны либо к попыткам кооптировать религиозное право, либо к его подавлению. Результат почти всегда принимает форму той или иной формы исламского «фундаментализма», который по своей сути не имеет ничего общего с «буквальными интерпретациями» (54), а является выражением конфликта монополии современного Государства на право с признанием большими сегментами населения других источников права, предшествующих и, по их мнению, «превосходящих» государственное. Учитывая общую распространенность логических основ Национального Государства, обе стороны исходят из убеждения о нормативности «правового монизма», т. е. представления о том, что может быть только один закон, универсально применяемый ко всем. При таком понимании современные мусульманские общества превращаются в настоящие пороховые бочки, где контроль над Государством считается необходимым условием контроля над правом, и где каждая сторона хочет гарантировать, что если будет существовать только один закон, это будет её закон». (55).
📚 Jackson, Sherman A. “Legal Pluralism Between Islam and the Nation-State: Romantic Medievalism or Pragmatic Modernity?” Fordham International Law Journal, vol. 30, no. 1, 2006.
«В исламском мире проблема начинается с того факта, что исламское право исторически предшествует Государству и превосходит его. Это означает, что существует целая вселенная юридических прав и обязанностей, имеющих вес и находящих отклик в сердцах и умах людей, но полностью независимых от Государства. Политическая теория, лежащая в основе современного Национального Государства, не имеет инструментов для решения этой проблемы. Следовательно, современные мусульманские Государства склонны либо к попыткам кооптировать религиозное право, либо к его подавлению. Результат почти всегда принимает форму той или иной формы исламского «фундаментализма», который по своей сути не имеет ничего общего с «буквальными интерпретациями» (54), а является выражением конфликта монополии современного Государства на право с признанием большими сегментами населения других источников права, предшествующих и, по их мнению, «превосходящих» государственное. Учитывая общую распространенность логических основ Национального Государства, обе стороны исходят из убеждения о нормативности «правового монизма», т. е. представления о том, что может быть только один закон, универсально применяемый ко всем. При таком понимании современные мусульманские общества превращаются в настоящие пороховые бочки, где контроль над Государством считается необходимым условием контроля над правом, и где каждая сторона хочет гарантировать, что если будет существовать только один закон, это будет её закон». (55).
📚 Jackson, Sherman A. “Legal Pluralism Between Islam and the Nation-State: Romantic Medievalism or Pragmatic Modernity?” Fordham International Law Journal, vol. 30, no. 1, 2006.
Друзья, как некоторые из вас заметили, я не отвечаю на некоторые вопросы. За это я прошу у вас прощения. Поверьте, в этом нет никакого неуважения или пренебрежения. Причин того, что я не отвечаю может быть несколько:
1. Либо я не знаю ответа.
2. Либо вы задали личный вопрос.
3. Либо я должен собраться с мыслями, чтобы ответить на ваш вопрос. И мне нужно время.
4. Либо у меня нет обоснованного мнения, а свои домыслы и мнения сообщать я не хочу.
И всем, кто даёт мне салам в анонимных сообщениях я здесь отвечаю: ва алейкум салам ва рахьматуллахи ва баракатуху.
Надеюсь на Ваше понимание.
1. Либо я не знаю ответа.
2. Либо вы задали личный вопрос.
3. Либо я должен собраться с мыслями, чтобы ответить на ваш вопрос. И мне нужно время.
4. Либо у меня нет обоснованного мнения, а свои домыслы и мнения сообщать я не хочу.
И всем, кто даёт мне салам в анонимных сообщениях я здесь отвечаю: ва алейкум салам ва рахьматуллахи ва баракатуху.
Надеюсь на Ваше понимание.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Новообращённый читает азан на свой народный манер. К сожалению, страну установить не смог.
Мне кажется нейронные сети, типа midjourney - это тот же фастфуд, только теперь в живописи. Или как синтетический заменитель парчи и шелка. Как будто взяли всего с миру по нитке, смешали в одну бурду и выдают некий усреднённый продукт. По сути что делает программа? Из тех рисунков и паттернов, что есть у нее в базе выдает нечто среднее. Пусть внешне оно привлекательно, но по сути это доширак.
Меня спрашивали, что такое модерн? Или модернизм. Вот одно из проявлений модерна: универсализация. Стандартизация. Усреднение.
Весь мир прошел через кузню Модерна в 20 веке, поэтому мы одевается одинаково, строим одинаковые города, у нас одинаковые (в основном) меры счета и веса, одинаковые формы национальных государств, одинаковые понятия о правах и законах, одинаковая музыка, тоже усредненная и похожая все время сама на себя. Модерн привел к тому, что мы не только выглядим одинаково, но и думаем все одинаково бедно и банально. Причин так поступать с народами было много, и долго их объяснять. Соответствующая литература есть. Хотя на русском не так уж и много, как всегда.
Единообразие. Вот главная черта модерна. Сделать всех одинаковыми, чтобы всеми было легче управлять и все двигались к одной цели, а какой - мы вам скажем. И мир пошел по этому пути. Кто-то добровольно, а кого-то заставили.
Да, постмодерн потому и пришел на смену, потому что у модернизма выявилось множество недостатков. Слишком много. Постмодерн их увидел, и решил с ними бороться, но этот проект тоже провалился. Постмодерн не понял, что главная проблема модерна была, как говорят наши учёные, в отсутствии Бога. Без него все бессмысленно. Поэтому декларации постмодерна о принятии многообразия, полифонии истин - так и остались декларациями. Да, внешне мы сейчас стали выглядеть чуть-чуть по-разному, отходя от тяжёлого наследия Модерна, но внутри пока остаёмся такими же. Одинаковыми. В отличии от людей до-Модерновых времен. Их ведь не пропускали через фабрики жизни, как нас: одинаковые больницы, одинаковые детские сады, одинаковые школы, одинаковые университеты, одинаковые работы. Поэтому может быть они и выглядели как-то по-простому в своих домодерновых сёлах, зато внутри у них было огромное многообразие индивидуальностей. Богатый внутренний мир. Которым мы сегодня не можем похвастать. Поэтому массовая культура через фильмы рассказывает чаще всего о психических отклонениях. Так как глубины духа нет, разные болезни души принимаются за эту глубину.
В век когда заявленной ценностью является индивидуализм, мы на самом деле, от США до Китая - удручающе одинаковы. Разница может быть в кухнях, что ли. Также разница в тех людях и культурах, которые сознательно хотят отличаться или сохранить свое наследие.
Поэтому является парадоксом, когда современная культура говорит тебе: покинь свое традиционное общество, освободись, будь индивидуален, и мы как дураки за этим идем.
А ведь она так говорит всему миру. И мы все такие миллиарды одинаковых индивидуальностей следуем за этим, превращаясь в одинаковую однообразную массу.
Меня спрашивали, что такое модерн? Или модернизм. Вот одно из проявлений модерна: универсализация. Стандартизация. Усреднение.
Весь мир прошел через кузню Модерна в 20 веке, поэтому мы одевается одинаково, строим одинаковые города, у нас одинаковые (в основном) меры счета и веса, одинаковые формы национальных государств, одинаковые понятия о правах и законах, одинаковая музыка, тоже усредненная и похожая все время сама на себя. Модерн привел к тому, что мы не только выглядим одинаково, но и думаем все одинаково бедно и банально. Причин так поступать с народами было много, и долго их объяснять. Соответствующая литература есть. Хотя на русском не так уж и много, как всегда.
Единообразие. Вот главная черта модерна. Сделать всех одинаковыми, чтобы всеми было легче управлять и все двигались к одной цели, а какой - мы вам скажем. И мир пошел по этому пути. Кто-то добровольно, а кого-то заставили.
Да, постмодерн потому и пришел на смену, потому что у модернизма выявилось множество недостатков. Слишком много. Постмодерн их увидел, и решил с ними бороться, но этот проект тоже провалился. Постмодерн не понял, что главная проблема модерна была, как говорят наши учёные, в отсутствии Бога. Без него все бессмысленно. Поэтому декларации постмодерна о принятии многообразия, полифонии истин - так и остались декларациями. Да, внешне мы сейчас стали выглядеть чуть-чуть по-разному, отходя от тяжёлого наследия Модерна, но внутри пока остаёмся такими же. Одинаковыми. В отличии от людей до-Модерновых времен. Их ведь не пропускали через фабрики жизни, как нас: одинаковые больницы, одинаковые детские сады, одинаковые школы, одинаковые университеты, одинаковые работы. Поэтому может быть они и выглядели как-то по-простому в своих домодерновых сёлах, зато внутри у них было огромное многообразие индивидуальностей. Богатый внутренний мир. Которым мы сегодня не можем похвастать. Поэтому массовая культура через фильмы рассказывает чаще всего о психических отклонениях. Так как глубины духа нет, разные болезни души принимаются за эту глубину.
В век когда заявленной ценностью является индивидуализм, мы на самом деле, от США до Китая - удручающе одинаковы. Разница может быть в кухнях, что ли. Также разница в тех людях и культурах, которые сознательно хотят отличаться или сохранить свое наследие.
Поэтому является парадоксом, когда современная культура говорит тебе: покинь свое традиционное общество, освободись, будь индивидуален, и мы как дураки за этим идем.
А ведь она так говорит всему миру. И мы все такие миллиарды одинаковых индивидуальностей следуем за этим, превращаясь в одинаковую однообразную массу.
Мне очень понравилось, как Абдул Хаким Мурад сказал (произвольно цитирую): В фильме "Матрица" ты должен был выбрать красную или синюю пилюлю. Если ты выберешь синюю, останешься в этой реальности. Если красную - покинешь эту реальность, и увидишь ту, что за ней. Мы же люди зелёной пилюли. Мы остаёмся в этой реальности, но также и видим ту, что за ней. Мы видим обе реальности.