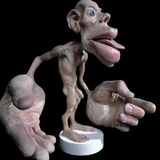Терапия золотыми частицами. Атаксия Фридрейха, неврологическое заболевание, вызывается мутацией в гене FXN. Последствия: дегенерация нервной системы, атрофия мышц, нарушение сердечных сокращений, деменция и другие серьезные осложнения. Лечится плохо.
Только что в Science Translational Medicine вышла статья, в которой показано, что частицы золота нейтрализуют молекулы, которые способствуют окислительному стрессу: частицы улучшили функцию митохондрий и экспрессию FXN в стволовых клетках, взятых у двух пациентов с атаксией Фридрейха. Инъекции также улучшали мышечную силу, выносливость и обращали вспять дефекты сократительной способности сердца в модели атаксии у пожилых мышей.
В марте я уже писал на похожую тему, но там речь шла о синтезе золотых частиц прямо внутри мозга. Как пишут сами авторы, главный плюс терапии в том, что частицы нетоксичны, легко переносятся кровью, способны проникать через ГЭБ и долго оставаться в тканях – в мышцах, сердце и мозге.
Только что в Science Translational Medicine вышла статья, в которой показано, что частицы золота нейтрализуют молекулы, которые способствуют окислительному стрессу: частицы улучшили функцию митохондрий и экспрессию FXN в стволовых клетках, взятых у двух пациентов с атаксией Фридрейха. Инъекции также улучшали мышечную силу, выносливость и обращали вспять дефекты сократительной способности сердца в модели атаксии у пожилых мышей.
В марте я уже писал на похожую тему, но там речь шла о синтезе золотых частиц прямо внутри мозга. Как пишут сами авторы, главный плюс терапии в том, что частицы нетоксичны, легко переносятся кровью, способны проникать через ГЭБ и долго оставаться в тканях – в мышцах, сердце и мозге.
Правительство Великобритании обнародовало в прошлом месяце амбициозную стратегию под названием Life Sciences Vision. В ней сказано, что UK планирует стать научной сверхдержавой и мировым центром инноваций в области здравоохранения (дословно).
Прописан большой комплекс мер. Цель – сделать Королевство лучшим местом в мире для исследований, разработки и внедрения технологий, новых методов лечения и развития медико-биологического бизнеса (снова цитата).
Будут добиваться роста инвестиций в НИОКР. Поощрять новые схемы клинических испытаний. Опираться на свои сильные стороны: в Великобритании успешно идут геномные исследования и налажен сбор данных о состоянии здоровья граждан. А когда много данных, есть где разгуляться искусственному интеллекту.
Главная ориентация на раннюю диагностику, на предупреждение и предотвращение развития заболеваний. Стратегия и разные наборы политик прописаны довольно подробно – выглядит системно, продумано. Как и должно быть. В целом это продолжение взятого курса, о чем я писал не раз, на подъем доли инноваций и новых технологий в экономике UK. Сюда же и недавнее учреждение “британского DARPA” (которое ARIA).
Прописан большой комплекс мер. Цель – сделать Королевство лучшим местом в мире для исследований, разработки и внедрения технологий, новых методов лечения и развития медико-биологического бизнеса (снова цитата).
Будут добиваться роста инвестиций в НИОКР. Поощрять новые схемы клинических испытаний. Опираться на свои сильные стороны: в Великобритании успешно идут геномные исследования и налажен сбор данных о состоянии здоровья граждан. А когда много данных, есть где разгуляться искусственному интеллекту.
Главная ориентация на раннюю диагностику, на предупреждение и предотвращение развития заболеваний. Стратегия и разные наборы политик прописаны довольно подробно – выглядит системно, продумано. Как и должно быть. В целом это продолжение взятого курса, о чем я писал не раз, на подъем доли инноваций и новых технологий в экономике UK. Сюда же и недавнее учреждение “британского DARPA” (которое ARIA).
GOV.UK
Life Sciences Vision
The government and the life science sector’s plan to create a thriving sector, and tackle the major causes of death and disease.
Свежий пример применения ультратонкой нательной электроники – в этот раз для распознавания слов, произносимых без звука. Человек шевелит губами, имитируя речь, а на кожу – там, где лицевые мышцы – нанесены кусочки пленки. Хотя и не пленка это, а электроды, и их нити такие тонкие, что напоминают татуировку. Тату-электроды считывают электрические сигналы с поверхности кожи. Передают их в модуль, он закреплен за ухом. А модуль уже транслирует по Bluetooth в облако.
По характерной миограмме удается различить, какое слово имитирует человек. Зачем это нужно? Ну, например, так можно общаться, если ситуация требует тишины или, наоборот, когда вокруг слишком шумно. Или если кто-то потерял голос. А если развивать идею, то можно расшифровать субвокализацию – микродвижения мышц. Когда мы читаем, они включаются непроизвольно (беззвучная речь), словно слова проговариваются мысленно – как сейчас у вас.
Это не первая попытка угадывать слова, но пока самая удачная. Были варианты считывать сигналы из мозга, были и электроды на коже, но громоздкие. Тату резко повышают usability: они почти не ощущаются на коже, их носили по 10 часов, и людей даже заставляли бегать и потеть. Алгоритм выучил свыше сотни слов, и авторы статьи – китайцы – не упустили заметить, что безголосовое общение может служить интерфейсом взаимодействия человека и машины. И в этой мысли есть здравое зерно.
По характерной миограмме удается различить, какое слово имитирует человек. Зачем это нужно? Ну, например, так можно общаться, если ситуация требует тишины или, наоборот, когда вокруг слишком шумно. Или если кто-то потерял голос. А если развивать идею, то можно расшифровать субвокализацию – микродвижения мышц. Когда мы читаем, они включаются непроизвольно (беззвучная речь), словно слова проговариваются мысленно – как сейчас у вас.
Это не первая попытка угадывать слова, но пока самая удачная. Были варианты считывать сигналы из мозга, были и электроды на коже, но громоздкие. Тату резко повышают usability: они почти не ощущаются на коже, их носили по 10 часов, и людей даже заставляли бегать и потеть. Алгоритм выучил свыше сотни слов, и авторы статьи – китайцы – не упустили заметить, что безголосовое общение может служить интерфейсом взаимодействия человека и машины. И в этой мысли есть здравое зерно.
Nature
All-weather, natural silent speech recognition via machine-learning-assisted tattoo-like electronics
npj Flexible Electronics - All-weather, natural silent speech recognition via machine-learning-assisted tattoo-like electronics
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Одна из демонстраций. На лице четыре пары электродов, они дают точность распознавания 93%. По уверениям авторов с тремя парами точность достигает 85%, а при двух – 70%. Это вполне рабочий показатель, и даже с двумя тату можно сносно коммуницировать.
Да, Университет науки и технологий Хуачжун находится в Ухане.
Да, Университет науки и технологий Хуачжун находится в Ухане.
Эволюционное дерево SARS-CoV-2 с его вариантами. Из недавней заметки в Science.
Если вам вдруг захочется узнать, что с ковидом будет дальше, как вирус поведет себя вдолгую и вернут ли вакцины нам прежнюю жизнь, вы обратитесь, вероятно, к недавней статье в Nature “После пандемии: перспективы будущей траектории COVID-19”. Это большой обстоятельный разбор, написанный группой ученых, и они подробно и терпеливо объясняют, как вирусы ускользают от вакцин, как эволюционирует корона и где возникают риски.
Статья оставит вас в задумчивом состоянии. Потому что внятного прогноза насчет будущей траектории COVID-19 в ней нет. Есть три варианта самого общего толка, они понятны и без статьи, а для более глубокого вывода авторы призывают вести исследования.
Почти целиком текст состоит из констатаций типа “вирус может сделать вот так, но сумеет ли, на сегодня сказать нельзя”. Много разных сценариев. Например, резервуар для его эволюции не только зараженные люди, но и животные: вирус может попасть от больного к животному, смешаться там с другим вирусом, получится гибрид, и уже гибрид перескочит на людей, и так может происходить не один раз. Переходы туда и обратно авторы называют межвидовым “пинг-понгом”. Метафора веселая, а чего реально ждать, не ясно.
Вся статья это развернутая мысль: видите, может быть как угодно, зависит от множества факторов, а данных у нас недостаточно для прогноза. Стоит ли предъявлять ученым за такое? С одной стороны, да, ибо они изучают вирусы много лет, их работа как раз в том, чтобы не просто видеть риски, но и ранжировать их и строить модели, а данных всегда не будет хватать. Но, даже разочаровавшись, я не присоединюсь к обвинителям. Потому что здесь ученые имеют дело со сложной системой. По-настоящему сложной. Шумной и эволюционирующей. И статья дает это прочувствовать.
Мы, человечество, плохо умеем изучать такие системы. У нас почти нет подходящих инструментов. И это серьезный, едва ли не главный, вызов для науки, которая должна научиться работать со сложностью, понимать ее. Оттого и разные теории мозга человека и сознания следует пока воспринимать спокойно (чем бы дитя ни тешилось), равно как и смелые заявления о том, что вскоре их смогут моделировать.
Статья оставит вас в задумчивом состоянии. Потому что внятного прогноза насчет будущей траектории COVID-19 в ней нет. Есть три варианта самого общего толка, они понятны и без статьи, а для более глубокого вывода авторы призывают вести исследования.
Почти целиком текст состоит из констатаций типа “вирус может сделать вот так, но сумеет ли, на сегодня сказать нельзя”. Много разных сценариев. Например, резервуар для его эволюции не только зараженные люди, но и животные: вирус может попасть от больного к животному, смешаться там с другим вирусом, получится гибрид, и уже гибрид перескочит на людей, и так может происходить не один раз. Переходы туда и обратно авторы называют межвидовым “пинг-понгом”. Метафора веселая, а чего реально ждать, не ясно.
Вся статья это развернутая мысль: видите, может быть как угодно, зависит от множества факторов, а данных у нас недостаточно для прогноза. Стоит ли предъявлять ученым за такое? С одной стороны, да, ибо они изучают вирусы много лет, их работа как раз в том, чтобы не просто видеть риски, но и ранжировать их и строить модели, а данных всегда не будет хватать. Но, даже разочаровавшись, я не присоединюсь к обвинителям. Потому что здесь ученые имеют дело со сложной системой. По-настоящему сложной. Шумной и эволюционирующей. И статья дает это прочувствовать.
Мы, человечество, плохо умеем изучать такие системы. У нас почти нет подходящих инструментов. И это серьезный, едва ли не главный, вызов для науки, которая должна научиться работать со сложностью, понимать ее. Оттого и разные теории мозга человека и сознания следует пока воспринимать спокойно (чем бы дитя ни тешилось), равно как и смелые заявления о том, что вскоре их смогут моделировать.
Nature
After the pandemic: perspectives on the future trajectory of COVID-19
Nature - This Perspective discusses possible future patterns of SARS-CoV-2 infection, the development of variants, potential changes in the patterns of spread and the implications for vaccine...
В Университете Генуи разработали такое устройство (назовем его шлемом), чтобы определять инсульт. Вокруг головы ряд антенн, они избирательно включаются и направляют электромагнитные волны по мозгу, затем измеряют возвращаемые сигналы. Два типа инсульта – ишемический и геморрагический – требуют разного лечения, и заодно имеют разные диэлектрические свойства. На том и строится технология. Она помогает не только быстро выявить инсульт, но и определить, какого он типа.
Шлем можно использовать в машине скорой помощи или дома у пациента, что гораздо проще и удобнее, чем делать МРТ/КТ или УЗИ, например. В диагностике инсульта скорость критична, она прямо влияет на шансы больного, и если шлем пройдет клинические испытания, он может спасти тысячи людей. [К слову, один из разработчиков Igor Bisio сотрудник не только Генуи, но российского РУДН]
Шлем можно использовать в машине скорой помощи или дома у пациента, что гораздо проще и удобнее, чем делать МРТ/КТ или УЗИ, например. В диагностике инсульта скорость критична, она прямо влияет на шансы больного, и если шлем пройдет клинические испытания, он может спасти тысячи людей. [К слову, один из разработчиков Igor Bisio сотрудник не только Генуи, но российского РУДН]
Поиск инсульта из предыдущего поста перекликается с другим, весьма похожим, методом – поиском сознания. Его тоже придумали итальянцы. В Oxford University Press даже вышла книга за авторством Марчелло Массимини и Джулио Тонони “Sizing up Consciousness: Towards an objective measure of the capacity for experience” (2018), где Марчелло и Джулио отстаивают идею, что уровень сознания зависит от организованной сложности работы мозга. И они научились эту сложность измерять.
Метод на первый взгляд прост: в кору ‘стреляют’ магнитными импульсами (ТМС) и смотрят на электрический ответ клеток (ЭЭГ). Похоже на изучение кругов на воде от брошенного камня, только узоры волн в данном случае гораздо более причудливые. То, как возмущение от магнитного импульса расходится по мозгу, отражает его текущее состояние – рябь либо просто затухает по мере удаления от эпицентра, либо она хитрым образом изменяется по ходу движения, по-разному в разных направлениях. Второе обычно наблюдают у бодрствующих людей, первое – у спящих глубоким сном. Или под анестезией.
Массимини придумал шкалу от 0 до 1, она отражает уровень ‘возмущаемости’ нервной сети: perturbational complexity index, PCI. В экспериментах с сотнями добровольцев и пациентов он открыл магическое число 0.31 – похоже, этот порог PCI разделяет сознание и его отсутствие. В недавнем Technology Review пишут, что девять из 43 вегетативных пациентов оказались на уровне PCI здоровых людей, видящих сны (REM). Через полгода шестерым пересмотрели диагноз, обнаружив у них минимальное сознание.
Поиски сознания – дело хлопотное и ненадежное, но искать его придется, ибо развитие медицины наращивает популяцию людей, пребывающих месяцами и годами в серой зоне между жизнью и смертью, между мыслящей личностью и пустотой. И тут любые зацепки лучше чем ничего. Раньше я писал о другом герое этой эпопеи, Эйдриане Оуэне, он обходился без магнитных импульсов, и его метод вряд ли поймает слабые проблески сознания. Зато он мог общаться с вегетативными больными напрямую. Его книгу недавно перевели, она хорошо написана, рекомендую (правда, за перевод не скажу, читал в оригинале).
Еще в тему: про наркомана Джейкоба, который выбрался из состояния “запертого сознания”, и о том, почему вегетативные больные мертвее мертвых.
Метод на первый взгляд прост: в кору ‘стреляют’ магнитными импульсами (ТМС) и смотрят на электрический ответ клеток (ЭЭГ). Похоже на изучение кругов на воде от брошенного камня, только узоры волн в данном случае гораздо более причудливые. То, как возмущение от магнитного импульса расходится по мозгу, отражает его текущее состояние – рябь либо просто затухает по мере удаления от эпицентра, либо она хитрым образом изменяется по ходу движения, по-разному в разных направлениях. Второе обычно наблюдают у бодрствующих людей, первое – у спящих глубоким сном. Или под анестезией.
Массимини придумал шкалу от 0 до 1, она отражает уровень ‘возмущаемости’ нервной сети: perturbational complexity index, PCI. В экспериментах с сотнями добровольцев и пациентов он открыл магическое число 0.31 – похоже, этот порог PCI разделяет сознание и его отсутствие. В недавнем Technology Review пишут, что девять из 43 вегетативных пациентов оказались на уровне PCI здоровых людей, видящих сны (REM). Через полгода шестерым пересмотрели диагноз, обнаружив у них минимальное сознание.
Поиски сознания – дело хлопотное и ненадежное, но искать его придется, ибо развитие медицины наращивает популяцию людей, пребывающих месяцами и годами в серой зоне между жизнью и смертью, между мыслящей личностью и пустотой. И тут любые зацепки лучше чем ничего. Раньше я писал о другом герое этой эпопеи, Эйдриане Оуэне, он обходился без магнитных импульсов, и его метод вряд ли поймает слабые проблески сознания. Зато он мог общаться с вегетативными больными напрямую. Его книгу недавно перевели, она хорошо написана, рекомендую (правда, за перевод не скажу, читал в оригинале).
Еще в тему: про наркомана Джейкоба, который выбрался из состояния “запертого сознания”, и о том, почему вегетативные больные мертвее мертвых.
Загадка PCI 0.31. По одну сторону пунктирной линии люди во время глубокого сна либо под седацией/анестезией мидазоламом, ксеноном и пропофолом – сознание отключено. По другую здоровые бодрствующие или спящие, а также люди с травмами мозга, но все с сохраненным сознанием.
В Университет Льежа пригласили опытного фридайвера и попросили его задержать дыхание. Ученые хотели узнать, что происходит с мозгом во время длительного контролируемого апноэ. Дайвер прилег на кушетку, на него навешали датчиков, он закрыл глаза и перестал дышать на семь минут. Ученые снимали у него ЭЭГ высокой плотности. Во второй попытке он задержал дыхание на 6.5 минут, а ученые делали фМРТ.
В статье они пишут, что во время апноэ работа мозга сильно меняется. Функциональная связность одних участков усиливается, других падает. Растет там, где обслуживается принятие решений и осознанность, а ослабевает там, где возникают телесные ощущения. То есть дайвер, как считают ученые, вызывает диссоциацию между разумом и телом, при этом повышая свое присутствие в моменте.
Замечу, что авторы эксперимента и статьи – реаниматологи и анестезиологи из известной Coma Science Group. Их основная работа – вытаскивать людей с того света. Они всякое видали и очень любят поизучать этакое, а измененные состояния сознания с точки зрения физиологии едва ли не главный их научный интерес (я делал отдельный текст про их попытку вписать все состояния в многомерное пространство). Здесь же они хотели выяснить, можно ли заимствовать такую практику диссоциации, например, чтобы люди могли уменьшать хронические боли.
Дайвер рассказал, как задержка дыхания переживается им изнутри, вот этот фрагмент статьи:
«Во время апноэ испытуемый не перестает думать, но все как бы замедляется. Период задержки дыхания можно разделить на четыре отдельные фазы. Первая, переход к «душевному состоянию» апноэ, который ограничен первой минутой. Затем, с первой минуты до примерно 4,5 мин. испытуемый чувствует себя очень хорошо. Счастье берет верх, и он чувствует себя «здесь и сейчас», не обращая внимания на время. Ему ничего не нужно, чтобы дышать или двигаться, и он переживает моменты «чистого сознания». Но большую часть времени происходит и постоянный анализ приятных чувств и мыслей, которые он испытывает. Он пытается продлить этот период хороших ощущений как можно дольше, до перехода в третью фазу.
Первые сокращения грудной клетки сигнализируют о желании тела дышать, но первоначальный дискомфорт исчезает, оставляя субъекту снова хорошее самочувствие, даже если эти сокращения грудной клетки продолжают происходить непроизвольно. Это момент, когда испытуемый ставит цель по продолжительности апноэ, поскольку он знает, что задержка длится уже около 5 минут, и начинает обратный отсчет последних 1,5 минут. Во время этой четвертой фазы он пытается ощутить вкус каждой секунды, принимает ее и не позволяет мыслям хаотично скакать. Он сосредоточен на поддержании своего ритма для достижения поставленной цели. Эта последняя фаза характеризуется чувством настоящей эйфории и потенциальной потерей ясности сознания, однако, благодаря своей отличной тренировке, наш субъект сохраняет контроль над ситуацией. Желание дышать в этой последней фазе слабее, чем во время третьей фазы».
Тут уместно вспомнить еще выступление Дэвида Блейна на TED, где он рассказал подробно, что испытывал во время своего трюка по задержке дыхания в воде на 17 минут. Настоящее безумие.
В статье они пишут, что во время апноэ работа мозга сильно меняется. Функциональная связность одних участков усиливается, других падает. Растет там, где обслуживается принятие решений и осознанность, а ослабевает там, где возникают телесные ощущения. То есть дайвер, как считают ученые, вызывает диссоциацию между разумом и телом, при этом повышая свое присутствие в моменте.
Замечу, что авторы эксперимента и статьи – реаниматологи и анестезиологи из известной Coma Science Group. Их основная работа – вытаскивать людей с того света. Они всякое видали и очень любят поизучать этакое, а измененные состояния сознания с точки зрения физиологии едва ли не главный их научный интерес (я делал отдельный текст про их попытку вписать все состояния в многомерное пространство). Здесь же они хотели выяснить, можно ли заимствовать такую практику диссоциации, например, чтобы люди могли уменьшать хронические боли.
Дайвер рассказал, как задержка дыхания переживается им изнутри, вот этот фрагмент статьи:
«Во время апноэ испытуемый не перестает думать, но все как бы замедляется. Период задержки дыхания можно разделить на четыре отдельные фазы. Первая, переход к «душевному состоянию» апноэ, который ограничен первой минутой. Затем, с первой минуты до примерно 4,5 мин. испытуемый чувствует себя очень хорошо. Счастье берет верх, и он чувствует себя «здесь и сейчас», не обращая внимания на время. Ему ничего не нужно, чтобы дышать или двигаться, и он переживает моменты «чистого сознания». Но большую часть времени происходит и постоянный анализ приятных чувств и мыслей, которые он испытывает. Он пытается продлить этот период хороших ощущений как можно дольше, до перехода в третью фазу.
Первые сокращения грудной клетки сигнализируют о желании тела дышать, но первоначальный дискомфорт исчезает, оставляя субъекту снова хорошее самочувствие, даже если эти сокращения грудной клетки продолжают происходить непроизвольно. Это момент, когда испытуемый ставит цель по продолжительности апноэ, поскольку он знает, что задержка длится уже около 5 минут, и начинает обратный отсчет последних 1,5 минут. Во время этой четвертой фазы он пытается ощутить вкус каждой секунды, принимает ее и не позволяет мыслям хаотично скакать. Он сосредоточен на поддержании своего ритма для достижения поставленной цели. Эта последняя фаза характеризуется чувством настоящей эйфории и потенциальной потерей ясности сознания, однако, благодаря своей отличной тренировке, наш субъект сохраняет контроль над ситуацией. Желание дышать в этой последней фазе слабее, чем во время третьей фазы».
Тут уместно вспомнить еще выступление Дэвида Блейна на TED, где он рассказал подробно, что испытывал во время своего трюка по задержке дыхания в воде на 17 минут. Настоящее безумие.
SpringerLink
Mapping the functional brain state of a world champion freediver in static dry apnea
Brain Structure and Function - Voluntary apnea showcases extreme human adaptability in trained individuals like professional free divers. We evaluated the psychological and physiological adaptation...
Есть такой Торстен Цандер из Берлинского технического университета. Пожалуй, главный энтузиаст пассивных нейроинтерфейсов, он и ввел в научный оборот этот термин (пассивные – не требующие волевого усилия пользователя). Цандер активно продвигает pBCI и в то же время предупреждает о бомбе, которая в них скрыта. В экспериментах он показывает, что пассивный интерфейс может выудить из мозга данные, которые люди не желали бы открывать, и хуже того, они не будут знать, что эти данные у них считали.
В руках злодея pBCI опаснее полиграфа. Ведь когда подключают полиграф чтобы “узнать правду”, испытуемый понимает, что его обман хотят вскрыть. Он может не согласиться на процедуру, сопротивляться и применять защитные техники и т.п. В случае pBCI не так – человек не имеет понятия, что происходит. С его точки зрения он использует интерфейс для управления, лечения, развлечения, учебы, ‘прокачки мозга’ и чего угодно еще. Лишь поставщик технологии знает, что электроды отслеживают и другой слой данных.
В эти дни проходит 3-я конференция Neuroergonomics 2021. Цандер с коллегой поделились там одним своим результатом: по ЭЭГ они успешно выявляли, блефуют ли люди во время игры. Пока pBCI используют в лабораториях, для научных исследований, это не так страшно. Если же пассивные интерфейсы выйдут на массовый рынок, ситуация изменится. Тот, кто контролирует анализ данных, может извлечь из них сведения о психическом состоянии, предпочтениях и предрассудках, попытках обмана и так далее без ведома пользователя. Цандер призывает подумать, как быть с этим, оставаясь горячим сторонником pBCI. У него ответа пока нет.
В руках злодея pBCI опаснее полиграфа. Ведь когда подключают полиграф чтобы “узнать правду”, испытуемый понимает, что его обман хотят вскрыть. Он может не согласиться на процедуру, сопротивляться и применять защитные техники и т.п. В случае pBCI не так – человек не имеет понятия, что происходит. С его точки зрения он использует интерфейс для управления, лечения, развлечения, учебы, ‘прокачки мозга’ и чего угодно еще. Лишь поставщик технологии знает, что электроды отслеживают и другой слой данных.
В эти дни проходит 3-я конференция Neuroergonomics 2021. Цандер с коллегой поделились там одним своим результатом: по ЭЭГ они успешно выявляли, блефуют ли люди во время игры. Пока pBCI используют в лабораториях, для научных исследований, это не так страшно. Если же пассивные интерфейсы выйдут на массовый рынок, ситуация изменится. Тот, кто контролирует анализ данных, может извлечь из них сведения о психическом состоянии, предпочтениях и предрассудках, попытках обмана и так далее без ведома пользователя. Цандер призывает подумать, как быть с этим, оставаясь горячим сторонником pBCI. У него ответа пока нет.
Германский профессор, указавший на риск пассивных нейроинтерфейсов, про которого я писал три дня назад, увидел мой пост и отреагировал. Он пояснил, что имеет в виду, предлагая ученым проводить опасные демонстрации технологии (см. его другой текст на той же конференции, про который я не стал упоминать). Перевод его сообщения:
«Идея в следующем: мы думаем о компаниях и других организациях, которые работают над такими вещами, что скрыты в их лабораториях, и которые могут злоупотребить этой технологией в будущем. Сегодня, желая предупредить об опасности, мы вынуждены говорить «это возможно», но не можем дать конкретики. Если мы ясно покажем, какие плохие вещи можно сделать, мы сможем предупредить более детально и действенно, а общества смогут лучше подготовиться к этому».
Профессор считает, что голые рассуждения не убедят. Ученые должны на практике показать, как нейроинтерфейсы можно использовать со злым умыслом, чтобы все это увидели. Тогда выше шансы, что мы сможем найти решения. В чем-то похоже на то, что делают разработчики ИИ, регулярно демонстрируя уязвимости машинного обучения.
Zander говорит: «Это [опасные применения BCI] все равно произойдет, мы лишь должны подготовить самих себя как можно лучше!»
«Идея в следующем: мы думаем о компаниях и других организациях, которые работают над такими вещами, что скрыты в их лабораториях, и которые могут злоупотребить этой технологией в будущем. Сегодня, желая предупредить об опасности, мы вынуждены говорить «это возможно», но не можем дать конкретики. Если мы ясно покажем, какие плохие вещи можно сделать, мы сможем предупредить более детально и действенно, а общества смогут лучше подготовиться к этому».
Профессор считает, что голые рассуждения не убедят. Ученые должны на практике показать, как нейроинтерфейсы можно использовать со злым умыслом, чтобы все это увидели. Тогда выше шансы, что мы сможем найти решения. В чем-то похоже на то, что делают разработчики ИИ, регулярно демонстрируя уязвимости машинного обучения.
Zander говорит: «Это [опасные применения BCI] все равно произойдет, мы лишь должны подготовить самих себя как можно лучше!»
В свежем Lancet Neurology пишут, что болезнь Паркинсона возникает не в мозге. Она зарождается ниже, в периферических нервах, например, в районе сердца или кишечника, и далее по этим нервам уже добирается до мозга. Бывает, что и иннервация кожи становится источником патологии альфа-синуклеина, которая прогрессирует потом до Паркинсона. Это значит, что заметить развитие болезни можно на ранней стадии, когда ЦНС еще не затронута.
Поздние стадии сейчас “лечат” так: вводят глубоко в голову проволоку, чтобы достичь ядер таламуса, и подают ток. Некоторым помогает: симптомы притупляются, тремор исчезает. Но в черепе дырка. Хорошо бы перехватывать патологию, когда она еще внизу, и на периферические нервы подавать стимуляцию намного проще. Это одна из целей для неврологов на ближайшие годы: найти четкие биомаркеры и разработать терапию для самой начальной стадии. [Британия, как я писал выше, переводит свою медицину на раннюю диагностику и предупреждение заболеваний, а The Lancet семейство журналов британское, не будем забывать].
Для науки здесь вопрос шире. Нервная система как разветвленная сеть путей, по которым идут не только сигналы, но и путешествует всякая гадость, и даже кишечная флора способна влиять на работу мозга. Как бы нам научиться регулировать движение по этим путям?
Parkinson's disease outside the brain: targeting the autonomic nervous system
Autonomic failure: a neglected presentation of Parkinson's disease
Поздние стадии сейчас “лечат” так: вводят глубоко в голову проволоку, чтобы достичь ядер таламуса, и подают ток. Некоторым помогает: симптомы притупляются, тремор исчезает. Но в черепе дырка. Хорошо бы перехватывать патологию, когда она еще внизу, и на периферические нервы подавать стимуляцию намного проще. Это одна из целей для неврологов на ближайшие годы: найти четкие биомаркеры и разработать терапию для самой начальной стадии. [Британия, как я писал выше, переводит свою медицину на раннюю диагностику и предупреждение заболеваний, а The Lancet семейство журналов британское, не будем забывать].
Для науки здесь вопрос шире. Нервная система как разветвленная сеть путей, по которым идут не только сигналы, но и путешествует всякая гадость, и даже кишечная флора способна влиять на работу мозга. Как бы нам научиться регулировать движение по этим путям?
Parkinson's disease outside the brain: targeting the autonomic nervous system
Autonomic failure: a neglected presentation of Parkinson's disease
"Детские шаги". Свежий Science сетует, что США отстают от Великобритании в генетическом скрининге новорожденных. И тут же оговаривается: а верна ли сама идея брать полный геном младенца и искать мутации, связанные с риском заболеваний? Мутации редко гарантируют развитие болезни, это всегда вероятность. Человек может прожить вполне здоровую жизнь, так и не узнав, что у него в геноме что-то “не то”. Не будет ли эта процедура медикализировать состояния людей, забирать у них деньги на профилактику и лечение? И кто все это время будет распоряжаться данными?
В тексте приведены истории успеха. Например, о паре из Сан-Диего, которая в июне 2019 года вернулась домой из больницы с, казалось бы, здоровым ребенком, а затем получила телефонный звонок: стандартный скрининг показал, что у маленького Фитца не работает иммунная система. Фитцу провели секвенирование генома, и оказалось, что у него тяжёлый комбинированный иммунодефицит (SCID), редкое заболевание, которое убьет его в течение года. К счастью, в Сан-Франциско тестировали генную терапию для лечения SCID. Фитц получил трансплантат собственных клеток костного мозга, генетически модифицированных для исправления мутации. Теперь у него есть работающие иммунные клетки, и он отлично себя чувствует.
Проблема здесь в том, что таких однозначных мутаций крайне мало. Истории, как правило, будут иные: родителям сообщат, что у ребенка есть риск развития заболевания, но это не точно. Сам рожденный будет всю жизнь жить в ожидании худшего и, возможно, тратить лишние деньги. Геном же уйдет в базу данных, за доступ к которой поборются страховые компании, банки, работодатели. Скрытая дискриминация по ДНК в этом случае совсем не фантастический сценарий. Как и стигматизация.
Автор(ка) не пишет об этом прямо, но хорошо понимает. Вопрос пока открыт, хотя Британия активно уже идет по этому пути, а в США все еще мнутся, но вряд ли задержатся надолго. В конце концов иметь полный геном человека может быть полезно, знания о болезнях будут развиваться, а множество других анализов мы уже делаем в клиниках и не видим в том этической проблемы.
В тексте приведены истории успеха. Например, о паре из Сан-Диего, которая в июне 2019 года вернулась домой из больницы с, казалось бы, здоровым ребенком, а затем получила телефонный звонок: стандартный скрининг показал, что у маленького Фитца не работает иммунная система. Фитцу провели секвенирование генома, и оказалось, что у него тяжёлый комбинированный иммунодефицит (SCID), редкое заболевание, которое убьет его в течение года. К счастью, в Сан-Франциско тестировали генную терапию для лечения SCID. Фитц получил трансплантат собственных клеток костного мозга, генетически модифицированных для исправления мутации. Теперь у него есть работающие иммунные клетки, и он отлично себя чувствует.
Проблема здесь в том, что таких однозначных мутаций крайне мало. Истории, как правило, будут иные: родителям сообщат, что у ребенка есть риск развития заболевания, но это не точно. Сам рожденный будет всю жизнь жить в ожидании худшего и, возможно, тратить лишние деньги. Геном же уйдет в базу данных, за доступ к которой поборются страховые компании, банки, работодатели. Скрытая дискриминация по ДНК в этом случае совсем не фантастический сценарий. Как и стигматизация.
Автор(ка) не пишет об этом прямо, но хорошо понимает. Вопрос пока открыт, хотя Британия активно уже идет по этому пути, а в США все еще мнутся, но вряд ли задержатся надолго. В конце концов иметь полный геном человека может быть полезно, знания о болезнях будут развиваться, а множество других анализов мы уже делаем в клиниках и не видим в том этической проблемы.
www.science.org
Sequence every newborn’s DNA? Despite obstacles, UK pushes ahead
Pilot project hopes to test up to 200,000 babies for hundreds of childhood disease genes
Группа Полины Аникеевой из MIT на днях показала: мыши-паркинсоники после пяти минут нахождения в магнитном поле улучшили координацию и стали живее двигаться. В субталамическом ядре у них наночастицы, а на нейронах ядра капсаициновые рецепторы. Они нужны, чтобы клетки чувствовали тепло.
Это еще не излечение, но и задача была впервые попробовать. Хорошо помню, как Полина начинала этот проект, лет семь назад. Они синтезировали частицы, которые умеют нагреваться в переменном магнитном поле, затем тестировали их на анестезированных мышах, а после на бодрствующих. Еще в 2015-м мы обсуждали эту работу, и она тогда поясняла мне, что частицы греются за счет гистерезиса. Мы отдавали отчет, что это в первую очередь для научных применений, как и оптогенетика. Но время идет, и оптогенетика совсем недавно сделала первый шаг в клинику, вернув человеку зрение. Частицы последуют за ней.
Частицы можно впрыснуть в любую часть мозга и нагреть их переменным магнитным полем, оно легко проходит сквозь череп даже у человека. Тепло откроет TRPV1 каналы на поверхности нейронов, произойдет стимуляция. Такая схема менее агрессивна – все лучше, чем долбить клетки электричеством. Кстати, так можно стимулировать и периферические нервы и органы, что еще удобнее, и Полина тоже работает над этим. Не удивлюсь, если первый клинический результат будет не в мозге, а в ПНС. Но он все равно будет, в Полине я ни секунды не сомневаюсь.
Это еще не излечение, но и задача была впервые попробовать. Хорошо помню, как Полина начинала этот проект, лет семь назад. Они синтезировали частицы, которые умеют нагреваться в переменном магнитном поле, затем тестировали их на анестезированных мышах, а после на бодрствующих. Еще в 2015-м мы обсуждали эту работу, и она тогда поясняла мне, что частицы греются за счет гистерезиса. Мы отдавали отчет, что это в первую очередь для научных применений, как и оптогенетика. Но время идет, и оптогенетика совсем недавно сделала первый шаг в клинику, вернув человеку зрение. Частицы последуют за ней.
Частицы можно впрыснуть в любую часть мозга и нагреть их переменным магнитным полем, оно легко проходит сквозь череп даже у человека. Тепло откроет TRPV1 каналы на поверхности нейронов, произойдет стимуляция. Такая схема менее агрессивна – все лучше, чем долбить клетки электричеством. Кстати, так можно стимулировать и периферические нервы и органы, что еще удобнее, и Полина тоже работает над этим. Не удивлюсь, если первый клинический результат будет не в мозге, а в ПНС. Но он все равно будет, в Полине я ни секунды не сомневаюсь.
Nature
Magnetothermal nanoparticle technology alleviates parkinsonian-like symptoms in mice
Nature Communications - Deep-brain stimulation ameliorates parkinsonian symptoms, but it usually requires permanent implantation of hardware and connectors. Here, the authors show magnetothermal...
Нобелевку 2021 дали за открытие капсаициновых рецепторов. В предыдущем посте я как раз писал о технологии стимуляции мозга, которая использует именно такие рецепторы, TRPV1. В экспериментах их вводят в клетки с помощью генетических векторов, но на самом деле и у мышей, и у человека такие рецепторы и свои имеются. Когда мы чувствуем остроту перца на языке, это благодаря TRPV1.
Есть они и глубже, внутри организма, в разных местах нервной системы и даже в мозге – это, кстати, пока загадка, зачем они там. Но это можно использовать для лечебных целей. Ведь TRPV1 помогают не только остроту ощущать, но и тепло. Для них вообще нет разницы, именно поэтому вкус острой пищи бывает “обжигающим”. На этом можно строить термогенетику. Применения уже просматриваются, и исследования в этом поле активно идут.
Есть они и глубже, внутри организма, в разных местах нервной системы и даже в мозге – это, кстати, пока загадка, зачем они там. Но это можно использовать для лечебных целей. Ведь TRPV1 помогают не только остроту ощущать, но и тепло. Для них вообще нет разницы, именно поэтому вкус острой пищи бывает “обжигающим”. На этом можно строить термогенетику. Применения уже просматриваются, и исследования в этом поле активно идут.
BBC News Русская служба
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания
Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии в области медицины или физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они открыли, каким образом температура или, например, прикосновение превращаются в человеческие ощущения.
Редко такое бывает, чтобы в научном журнале вышло сразу 17 статей по одной теме. Залпом. Особенно, если это журнал Nature. Но сейчас как раз тот случай: в открытый доступ выложены результаты исследований клеток мозга мышей, мартышек и людей в рамках первого этапа работы консорциума BICCN. Это это один из важнейших разделов американской BRAIN Initiative.
Событие для нейронаук очень громкое, пресс-релиз от NIH можете прочесть здесь, эдиториал от Nature здесь, новостную заметку здесь, а сама коллекция статей здесь. У каждой статьи десятки авторов, работа эта трудоемкая, на пределе сегодняшних технических возможностей. Цель ее в том, чтобы сделать перепись основных типов нейронов и узнать, чем же они отличаются друг от друга.
Для этого, например, брали образец моторной коры и проверяли клетку за клеткой: ее электрическую активность, ее форму и какие участки днк в ней работают (транскриптом). Так выделили десятки разных типов нейронов в одном маленьком участке ткани. Объем данных превысил 240 Tb, и он будет расти, так как проект BICCN продолжается. Конечно, попытки подсчитать и охарактеризовать типы клеток мозга были и раньше, но в таких масштабах этого еще не делали.
Тон комментариев, как и полагается, воодушевляющий: знаменательное достижение, веха, эти данные помогут найти новые мишени для лечения и углубят наше понимание мозга. На этом торжественную часть сворачиваю, ниже позволю пару замечаний от себя. Капну ложечку дегтя в медовую бочку.
Событие для нейронаук очень громкое, пресс-релиз от NIH можете прочесть здесь, эдиториал от Nature здесь, новостную заметку здесь, а сама коллекция статей здесь. У каждой статьи десятки авторов, работа эта трудоемкая, на пределе сегодняшних технических возможностей. Цель ее в том, чтобы сделать перепись основных типов нейронов и узнать, чем же они отличаются друг от друга.
Для этого, например, брали образец моторной коры и проверяли клетку за клеткой: ее электрическую активность, ее форму и какие участки днк в ней работают (транскриптом). Так выделили десятки разных типов нейронов в одном маленьком участке ткани. Объем данных превысил 240 Tb, и он будет расти, так как проект BICCN продолжается. Конечно, попытки подсчитать и охарактеризовать типы клеток мозга были и раньше, но в таких масштабах этого еще не делали.
Тон комментариев, как и полагается, воодушевляющий: знаменательное достижение, веха, эти данные помогут найти новые мишени для лечения и углубят наше понимание мозга. На этом торжественную часть сворачиваю, ниже позволю пару замечаний от себя. Капну ложечку дегтя в медовую бочку.
Я бы сказал, BRAIN Initiative вспоминает свои корни: в 2013 году ее изначально продвигали как B.A.M (Brain Activity Map), и лишь позже, после утверждения Обамой, дали другое название. И сейчас мы видим картирование, составление атласа клеток. У меня к этой логике, как к способу изучения мозга, отношение двойственное. Вероятно, такие знания лишними не будут, и ученые извлекут пользу из описаний клеток, взятых из разных зон коры. Но сомневаюсь, что так случится прорыв в понимании мозга.
Пока данные BICCN чуть менее чем полностью отражают 1% мышиного мозга. Макаки и люди, как обещают, будут потом. Но уже можно оценить достижимость цели — в мозге человека на три порядка больше нейронов, чем у мыши. Реалистичная перспектива тут лет пятьдесят. Кроме того, запас мышек для научных целей не ограничен; по людям есть нюанс.
Второе, люди разные — у них разные мозги, буквально. Будут отличия не только между типами клеток, и между зонами внутри одного мозга, но и между мозгами. Чтобы выйти на полезные обобщения, желательна большая выборка. Много разных людей.
Третье, как исследовать клетки в мозге человека? Пока он жив, это затруднительно. Рискну предположить, что ценность таких вещей как транскриптом или паттерны электрической активности резко падает после смерти. Если, конечно, цель в том, чтобы понять, как работает живой мозг, а не отдельные нейроны в препарате.
Мог бы продолжать, но логика, надеюсь, ясна. Атласы и каталоги — путь экстенсивный, по нему можно идти десятилетиями, без гарантии добраться хоть куда-нибудь. Здесь нет экспериментов, и я солидарен с Полом Нерсом, нобелевским лауреатом, директором лондонского Института Фрэнсиса Крика, который призывает биологов не увлекаться одним лишь сбором данных, а все-таки еще пытаться генерировать идеи.
Хотя ученые собирают данные в ущерб идеям не от хорошей жизни. Тому много причин, сама организация науки толкает их на это, а в случае мозга проблема усугубляется тем, что строить атласы — это единственное, что точно можно обещать и сделать. Многое делают не потому, что позарез нужно, а потому, что умеют. Впрочем, то уже другой разговор.
Пока данные BICCN чуть менее чем полностью отражают 1% мышиного мозга. Макаки и люди, как обещают, будут потом. Но уже можно оценить достижимость цели — в мозге человека на три порядка больше нейронов, чем у мыши. Реалистичная перспектива тут лет пятьдесят. Кроме того, запас мышек для научных целей не ограничен; по людям есть нюанс.
Второе, люди разные — у них разные мозги, буквально. Будут отличия не только между типами клеток, и между зонами внутри одного мозга, но и между мозгами. Чтобы выйти на полезные обобщения, желательна большая выборка. Много разных людей.
Третье, как исследовать клетки в мозге человека? Пока он жив, это затруднительно. Рискну предположить, что ценность таких вещей как транскриптом или паттерны электрической активности резко падает после смерти. Если, конечно, цель в том, чтобы понять, как работает живой мозг, а не отдельные нейроны в препарате.
Мог бы продолжать, но логика, надеюсь, ясна. Атласы и каталоги — путь экстенсивный, по нему можно идти десятилетиями, без гарантии добраться хоть куда-нибудь. Здесь нет экспериментов, и я солидарен с Полом Нерсом, нобелевским лауреатом, директором лондонского Института Фрэнсиса Крика, который призывает биологов не увлекаться одним лишь сбором данных, а все-таки еще пытаться генерировать идеи.
Хотя ученые собирают данные в ущерб идеям не от хорошей жизни. Тому много причин, сама организация науки толкает их на это, а в случае мозга проблема усугубляется тем, что строить атласы — это единственное, что точно можно обещать и сделать. Многое делают не потому, что позарез нужно, а потому, что умеют. Впрочем, то уже другой разговор.
Внимание изначально появилось как способ избежать хаоса движений. Об этом см. октябрьский Neuron. Идея любопытная, черпающая объяснения в далеком эволюционном прошлом: раньше внимание вовсе не было когнитивной функцией. Скорее, простым решением одной технической проблемы. Обычно эволюция так и работает. Если кратко, дело было так.
Миллионы лет все жили с простой нервной системой, и все было замечательно. Но потом на головном мозге начала разрастаться кора. Ее проекции уходили в глубину, в ствол, откуда связи шли в спинной мозг, а уж он раздавал команды телу. Так ствол стал узлом, куда сходились и откуда расходились сигналы. Дальше обычная логика: нельзя допустить, чтобы в ствол попадали сигналы сразу от многих участков коры, будет путаница. Возник механизм, выделяющий в коре одну активную группу нейронов в один момент времени.
На этом примитиве и развилось то, что мы называем вниманием. Заодно эта идея вновь ставит вопрос, чего в работе мозга больше — активации клеток или их торможения.
Замечу, что на внимании строится мышление, и вся цивилизация стала его следствием. Но теперь цивилизация уже сама овладевает вниманием людей, порабощает его, и процесс ускорился с появлением цифровых сред. Онлайн, по сути, борется за каждый квант нашего внимания, за вовлечение и удержание, направляя его на виртуальные цели. Технологии хакнули древний механизм, и схема поменялась — над корой возник еще один слой управления вниманием, цифровое облако. Фактически, это новый эволюционный переход.
Миллионы лет все жили с простой нервной системой, и все было замечательно. Но потом на головном мозге начала разрастаться кора. Ее проекции уходили в глубину, в ствол, откуда связи шли в спинной мозг, а уж он раздавал команды телу. Так ствол стал узлом, куда сходились и откуда расходились сигналы. Дальше обычная логика: нельзя допустить, чтобы в ствол попадали сигналы сразу от многих участков коры, будет путаница. Возник механизм, выделяющий в коре одну активную группу нейронов в один момент времени.
На этом примитиве и развилось то, что мы называем вниманием. Заодно эта идея вновь ставит вопрос, чего в работе мозга больше — активации клеток или их торможения.
Замечу, что на внимании строится мышление, и вся цивилизация стала его следствием. Но теперь цивилизация уже сама овладевает вниманием людей, порабощает его, и процесс ускорился с появлением цифровых сред. Онлайн, по сути, борется за каждый квант нашего внимания, за вовлечение и удержание, направляя его на виртуальные цели. Технологии хакнули древний механизм, и схема поменялась — над корой возник еще один слой управления вниманием, цифровое облако. Фактически, это новый эволюционный переход.